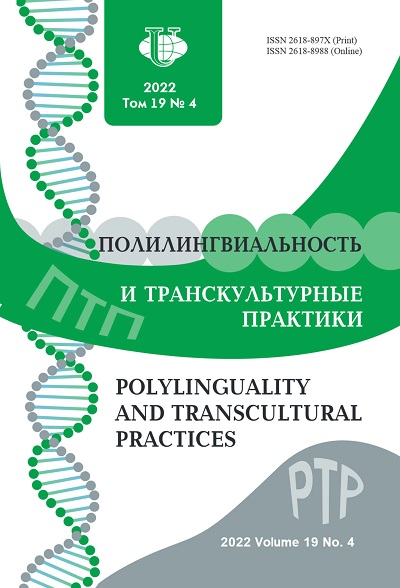Patricia Grace’s “Potiki”: Indigenous Māori Narrative Through the Lens of the Transculturalism Theory
- Authors: Galaktionov S.S.1, Proshina Z.G.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 19, No 4 (2022)
- Pages: 637-649
- Section: LITERARY SPACE
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/32863
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2022-19-4-637-649
- ID: 32863
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the identity and work of Patricia Grace, a New Zealand writer of the Māori Renaissance period. Her fate echoes the life stories of many indigenous Māori people with mixed origins, and in regards to that it is interesting to see how this aspect of her existence was reflected in the works she created. Within the framework of this study, Grace’s identity and her literary style are analyzed from the standpoint of theory of translingualism and transculturalism. Particular attention is paid to the criticism and reception of Grace’s work in the literary community and to the development of the most suitable approach to studying her texts. This approach is developed on the basis of the concept of transculturation by F. Ortiz, research by Z.G. Proshina in the field of translingual literature, post-colonial research by H.-K. Trask and the works of M.V. Tlostanova on gender philosophy. Grace’s most famous novel “Potiki” was chosen as an example that confirms the transcultural and translingual nature of her literature. The analysis of the novel allows one to read it as not just a story-driven novel, but as a complex text that contains many elements of Māori culture hidden from a non-indigenous reader.
Full Text
Патриция Грейс по праву считается ключевым маорийским автором эпохи ренессанса коренной культуры. Наряду с такими поэтами и прозаиками, как Хоне Туфаре, Уити Ихимаэра и Кери Хьюм, Грейс внесла значимый вклад в становление литературы маори в постколониальную эпоху. Не следует также забывать о том, что Грейс была первой писательницей-маори, чьи произведения были изданы, что, несомненно, сказалось на укреплении позиций коренного феминистского движения того времени. С самого первого сборника рассказов «Уаиарики» Грейс в ее произведениях прослеживаются темы, крайне важные для самоопределения коренного населения и сохранения культурной идентичности маори. В этом контексте особый интерес вызывают вопросы идентичности самой писательницы и транскультурного характера ее произведений. Охарактеризовать идентичность такой писательницы, как Грейс, невозможно без краткого обращения к ее биографии, к тем корням, которые во многом предопределили ее литературный стиль, а также круг волнующих ее вопросов. Патриция Грейс родилась 17 августа 1937 г. в Веллингтоне в семье с разными генеалогическими корнями. По материнской линии Грейс имеет ирландское происхождение, по отцовской линии прослеживается связь с тремя маорийскими племенами: нгати тоа, нгати раукауа и тэ ати ауа. В детстве Патриция часто проводила каникулы с «фанау» (родственниками-маори по отцовской линии) в городе Плиммертон, где находилась земля их предков. И несмотря на то, что в кругу фанау не было принято говорить на коренном языке, Грейс с раннего возраста идентифицировала себя как маори и чувствовала связь с тем наследием и теми традициями предков, о которых она узнавала от своих родственников-маори. При этом свое первое институциональное образование она получила в классических западных католических школах, в которых нередко чувствовала себя изолированной из-за своего происхождения [1]. В то время доступ маори к образованию был все еще затруднен, тем более доступ к относительно престижным католическим школам, и даже если ребенку-маори удавалось в них попасть, учителя нередко относились снисходительно к его интеллектуальным способностям. Однако подобная несправедливость и постоянно ощущаемое давление «европейского» большинства не заставили Грейс усомниться в ценности своей маорийской идентичности. Наоборот, этот опыт лишь подчеркнул ее значимость и во многом предвосхитил те вопросы, которые Грейс будет поднимать в своих будущих произведениях. Еще в школьном возрасте Патриция проявляла интерес к «классической» новозеландской литературе (Кэтрин Мэнсфилд, Фрэнка Сарджесона), но при этом ей не всегда удавалось соотнести себя с миром и героями произведений такой литературы. Можно предположить, что именно эта неспособность отождествления себя с европейской новозеландской литературой стала началом поиска того маорийского «голоса», который показал бы совершенно другую, индигенную сторону общества Новой Зеландии. В 1960-е годы в процессе своего постепенного творческого самоопределения Грейс пишет небольшие рассказы, вдохновленные ее воспоминаниями из детства. В 1975 году многие из этих рассказов публикуются в сборнике «Уаиарики», ставшим первым опубликованным произведением писательницы-маори и закрепившим за Грейс статус одного из зачинателей литературы маорийского ренессанса. Краткий экскурс в жизнь и становление Патриции Грейс как самобытной писательницы позволяет нам убедиться в неординарности ее происхождения и амбивалентности ее творчества. Стремление провести более глубинный анализ данных лежащих на поверхности суждений обусловливает необходимость обратиться к таким концепциям, как транслингвальность и транскультурность. В лингвистической теории понятие транслингвальности появилось в 1990-х гг., и считается, что его автором является американский критик и исследователь Стивен Келлман. В своей работе «Транслингвальное воображение» Келлман впервые провел подробный анализ транслингвальной литературы на примере произведений различных африканских и еврейских авторов, а также таких авторов, как Мэри Антин, Владимир Набоков, Сэмюэл Беккет, Джон Максвелл Кутзее и др. [2]. Транслингвальность подразумевает гармоничный переход от одной лингвокультуры к другой, приводящий к их частичному слиянию без полной ассимиляции. При этом пользователи смещающих друг друга лингвокультур сохраняют свои идентичности и способствуют возникновению смешанных дискурсов [3. С. 38]. Ситуация транслингвальности также предполагает взаимопроникновение языков, в результате чего возникает «новое качество обогащенной лингвокультуры» [4. С. 6]. Ввиду подобного обогащения одной лингвокультуры другой, а также их постоянного пограничного состояния в теории транслингвальности язык рассматривается не как система, а как практика, как непосредственный процесс речетворчества. И так как поле языковых ресурсов для транслингва несколько шире, его речетворческая деятельность имеет как трансформирующий, так и интегрирующий характер. Транслингву открываются дополнительные возможности, он успешно использует языки, находящиеся у него в репертуаре, при этом иногда позволяя себе нарушать нормы и приспосабливать языковые коды к своим целям и специфичным контекстам [5]. Можно выделить ряд коммуникативных стратегий, позволяющих транслингвам успешно передавать информацию и выступать полноценными субъектами коммуникативного акта: смешение и переключение языковых кодов; заимствования; гибридизация языков/пиджинизация; упрощение; обращение к интернациональным словам; переспрос; перифраз; использование невербальных жестов; активизация металингвистических знаний и т.д. [6. С. 162]. Такие понятия, как транскультруность и транскультурация, предшествовали теории транслингвальности и были введены кубинским философом, антропологом и социологом Фернандо Ортисом в 1940 г. [7]. Долгое время концепция транскультурации Ортиса находилась в тени ввиду искаженной трактовки его трудов и идей западными антропологами, пожелавшими ассимилировать нововведенный термин и легитимировать его в контексте функционалистского дискурса той эпохи, тогда как Ортис вкладывал в транскультурацию идею критической оценки и переосмысления антропологических исследований колониальных пространств и их взаимоотношений с метрополией. В результате функционалистского поглощения распространение получила прикладная трактовка концепции, сводившая ее к проблемам миссионерской деятельности, колониальной политики и установления культурных контактов. Подобную апроприацию понятия транскультурации следует рассматривать как еще одну попытку колонизаторского присвоения и приспособления «не-европейской» теории, пытавшейся пролить свет на дисфункциональные аспекты антропологии середины XX в. Возврат к идеям Ортиса произошел уже в рамках трудов интеллектуалов-постколониалистов, наиболее ярким из которых представляется американский теоретик культуры Эдвард Саид, имевший арабское происхождение. Он подчеркивал значимость контрапунктного подхода Ортиса и отмечал, что в рамках этого подхода особое внимание уделяется сложным взаимодействиям между подавляемой и подавляющей культурами, ни одна из которых полностью не поглощает другую, в результате чего доминирование какой-то одной из оппозиций становится нереализуемым [8. С. 51]. В результате этого транскультурного процесса рождаются особые идентичности, которые невозможно охватить в рамках структурно-функционалистского подхода, и это также относится к идентичностям самих антропологов. Концепция Ортиса ставит под сомнение основную идею западной антропологии о том, что антрополог выступает как независимый объективный актор, не имеющий идеологической заинтересованности, так как на деле эта заинтересованность всегда прослеживается. Ортис же выступает за изучение культуры изнутри, а не с позиции стороннего наблюдателя, что позволяет уйти от империалистических и колониальных пережитков науки прошлого и запустить продуктивный транскультурный процесс взаимодействия. Сегодня термин «транскультурация» встречается не только в рамках антропологической науки, но и в других гуманитарных и социальных контекстах и понимается как «принцип функционирования современного общества и культуры и как эпистемологическая модель, соответствующая эпохе глобализации и проявляющаяся в самых разных областях жизнедеятельности» [9. С. 133]. Транскультурация, таким образом, основывается на культурном полилоге, в котором культуры активно взаимодействуют, но при этом не сливаются полностью и сохраняют свое право на «непрозрачность» [10. С. 28]. Транскультурный индивид в этом контексте выступает как носитель сразу нескольких идентичностей как в одной, так и в другой культуре, и это приводит к своего рода принятию различий, гибридизации и созданию новой культуры «за границами сложившихся национальных, расовых, гендерных и профессиональных культур» [11. С. 419]. В целях настоящего исследования творчества Патриции Грейс отдельного внимания также заслуживает вопрос транслингвальной/транскультурной литературы, под которой понимается литература писателей-транслингвов, написанная на неродном для них языке, но при этом отражающая их этническую и лингвокультурную идентичность и создающая новую лингвокультурную модель [6. С. 162]. Одной из главных особенностей такого рода литературы является культурная синергия - объединение культурно различных элементов, при котором возникает качественно иное образование, превосходящее по эффекту сумму элементов [11. С. 367]. Òðàíñëèíãâàëüíîñòü è òðàíñêóëüòóðíîñòü Ïàòðèöèè Ãðåéñ è åå òâîð÷åñòâà Итак, рассмотрение теории транслингвальности и транскультурности позволяет нам охарактеризовать идентичность Патриции Грейс, а также и ее литературу как транслингвальную и транскультурную. Прежде всего это обусловлено происхождением писательницы, а также тем смешанным образованием, которое она получала. Мы видим, что с раннего детства Грейс имела дело с двумя лингвокультурами, постоянно граничащими друг с другом, но никогда полностью не сливающимися. Несмотря на то, что английская речь доминировала в ее семье и в новозеландской образовательной системе, она не потеряла связь с лингвокультурой маори и смогла обогатить ею все свои произведения. Для литературного стиля Грейс также характерны многие из перечисленных выше транслингвальных коммуникативных стратегий. В своих произведениях она нередко смешивает языковые коды, использует большое количество заимствований из маори, упрощает язык повествования, но при этом сохраняет тематическую глубину и высокую степень мифологизации. Здесь может возникнуть теоретическое несоответствие, вызванное тем, что под транслингвальной литературой принято понимать те произведения, которые написаны на неродном для транслингва языке, а в случае Патриции Грейс роман «Потики» написан на английском, который является для нее родным. Однако, если рассматривать понятие транслингвальной литературы, приняв во внимание понятие самой транслингвальности, получается, что в такую литературу также следует включать произведения, в которых происходит взаимопроникновение языков и частичное слияние лингвокультур без их полной ассимиляции. Такое определение транслингвальной литературы позволяет включать в нее произведения не только на неродном языке, но и на родном с высокой степенью интерференции и переключением кодов, за счет которых и отражается этническая и лингвокультурная идентичность автора. К числу таких произведений можно отнести и рассматриваемый роман Грейс, что делает его транслингвальным в соответствии с принятым понятием. Смешение лексических заимствований, элементов коренной мифологии и культурно-специфичных реалий маори с традициями англоязычной литературы и обстановкой новозеландского общества выявляет культурную синергетичность произведений Грейс, что еще раз доказывает транскультурность ее произведений. Как уже было сказано ранее, Патриция Грейс по праву считается одним из первых авторов маорийского ренессанса, эпохи, отмеченной важными переменами для коренного населения Новой Зеландии как в социально-экономической и политической сферах, так и в области культуры. События того времени во многом отражают те проблемы, о которых писали Фернандо Ортис и последовавшие за ним исследователи-постколониалисты, рассматривавшие процессы деколонизации по всему миру. Естественно, такие кардинальные изменения, происходившие в устройстве всего новозеландского общества, не могли не найти отражения в литературе того периода, поэтому животрепещущие для коренного населения проблемы всегда раскрывались в произведениях маорийского ренессанса. Например, в романе «Потики» основной сюжет строится на проблеме признания права собственности маори на землю их предков. При этом европейская часть населения в романе представлена стереотипными образами капиталистических дельцов, показанных не с самой лучшей стороны, так как даже в эпоху деколонизации европейцы действительно неоднократно пытались присвоить себе коренные земли. Многим европейским критикам подобная репрезентация их нации казалась несправедливой, что вызывало негативные рецензии на произведения Грейс. В связи с этим вопрос рецепции и критики творчества Грейс заслуживает отдельного внимания. Прежде всего здесь следовало бы обратиться к вопросу оценки и критики полинезийских литератур и культур в целом, так как у многих исследователей второй половины XX в. уже на этом уровне прослеживались предубеждения в отношении коренных народов, а также очевидное непонимание их проблем. Такие регионы Океании, как Полинезия, Меланезия и Микронезия, являются островными, малонаселенными и относительно отдаленными друг от друга территориями, за счет чего они длительное время были отделены от академического дискурса. Даже в постколониальный период многие исследователи предпочитали изучать эти регионы со стороны, избегая при этом той антропологической модели исследований, которую разработал Фернандо Ортис. Гавайская активистка и исследовательница Хаунани-Кей Траск в духе самого Ортиса подвергает таких антропологов критике и подбирает для них фразу на гавайском языке - “maha’oi haole”. В разговорной речи гавайцев это словосочетание обозначает белых людей, которые активно вмешиваются в чужие дела, но в более академическом контексте Траск придает ему еще одно значение: оно означает европейского исследователя, не желающего обращаться к трудам представителей коренного населения, игнорирующего их интересы и имеющего ограниченное представление о коренных культурах, их социальных и политических проблемах [12. С. 160]. Подобная характеристика может быть присвоена и многим критикам творчества авторов маорийского ренессанса, чьи произведения во многом перекликались с произведениями представителей других полинезийских народностей, но при этом получали снисходительную оценку у европейской части литературного сообщества. Произведения Уити Ихимаэра, Патриции Грейс и Кери Хьюм нередко описывались как чересчур откровенные, сентиментальные или же написанные недостаточно «сложным» литературным английским [13. С. 181; 14; 15], в результате чего их обсуждение в академических кругах сводилось к европоцентристской оценке эмоциональности героев или правдоподобности происходящего. В своей работе, посвященной гендерной философии в условиях деколонизации, М.В. Тлостанова проводит подробный анализ незападного феминизма и колонизаторского взгляда Запада на колонизированных мужчин и женщин, а также критикует западные теои эгополитические знания, которые «определяют норму и отклонение от нее, так что нерациональные и ненаучные формы знания или знание, сформированное вне столбовых дорог модерности, оказываются вынесены за ее скобки» [16. С. 111]. В рамках настоящего исследования можно предположить, что пренебрежительное отношение европейских критиков к культурному опыту маори, транслируемому в текстах вышеупомянутых авторов, и чрезмерное внимание к таким категориям, как сюжет, достоверность, литературный язык и откровенность, ярко иллюстрирует то «вынесение за скобки модерности», о котором пишет М.В. Тлостанова. Таким образом, что критика литературы маорийского ренессанса способствовала исключению из диалога крайне важной составляющей этой литературы - культурной идентичности маори и ее глубинных проявлений в текстах. Из-за этого становилось невозможно по достоинству оценить ту транскультурную значимость, которую несли произведения таких писателей, как Патриция Грейс. Достичь этого позволит отказ от взгляда с позиции maha’oi haole и более детальное рассмотрение знакового романа Грейс «Потики». Как уже отмечалось, сюжет романа «Потики» строится на истории одной прибрежной маорийской общины, которой приходится отстаивать права на землю своих предков и бороться с капиталистами-проектировщиками, желающими перекупить эту землю и построить на ней океанариум. Члены общины отказываются от предлагаемых им денег, после чего при загадочных обстоятельствах их сады и кладбище предков urupa оказываются затоплены, их дом для собраний и советов wharenui сожжен, а самый младший ребенок в семье pōtiki убит. Из-за прямолинейности, «прозрачности» прозы Грейс и четкости оппозиций этот роман может показаться неосведомленному читателю исключительно сюжетным. При таком подходе внимание уделяется лишь поверхностной истории противостояния маори и европейской части населения pakeha, знакомой подавляющему большинству новозеландской аудитории, и отпадает необходимость более глубокого прочтения. Однако только такое прочтение способно обнаружить дополнительные скрытые смыслы и показать, что «Потики» - это «текст о самих маори, об их устной традиции передачи историй, генеалогий и мифов, традиции, которая существовала многие века до пакеха и просуществует после» [17. С. 169]. Грейс таким образом обращается к традиционной европейской литературной форме романа и обогащает ее элементами устной культуры маори в виде историй, передаваемых центральными персонажами произведения, главными из которых являются мать семейства Роимата и ребенок-потики по имени Токо. Роль Токо в романе заслуживает отдельного внимания, так как именно в его мифои речетворческой деятельности кроется ключ к пониманию скрытых значений «Потики». Будучи рожденным с физическим недугом, Токо постоянно полагаться на помощь своей приемной семьи, из-за чего он может показаться читателю лишь сторонним наблюдателем в этой истории, не принимающим активного участия в развитии основного сюжета отстаивания земли. Несмотря на это, голосу Токо отводится десять из двадцати девяти глав романа, что позволяет судить о его первостепенности как персонажа. Уже в самом имени Токо кроются значения, ускользающие от читателя, незнакомого с культурой маори. Как глагол, toko может обозначать возникновение чувств и эмоций или начало движения, а как существительное - резные шесты, воздвигаемые на tūāhu - священном месте для проведения ритуалов и предсказывания будущего [18]. Мы видим, что за именем персонажа скрывается не только идея «начала», но и священные элементы материальной культуры маори, имеющие профетическое значение, что играет крайне важную роль в коренном повествовании романа, ведь речетворческий процесс Токо не только затрагивает вопросы маорийской генеалогии, но и несет пророческий характер. В первой главе Токо открыто говорит о том, что знает о своих способностях: Может, именно магии из бабушкиного уха я обязан своим особым знанием. Это награда за мой недуг и за то, что я чуть не утонул. Но я получил и другие подарки еще до того, как родился. Я знаю все свои истории [19. С. 38]. Под «историями» Токо следует понимать те дальнейшие главы, в которых повествование ведется от его лица. В этих главах он рассказывает о своем взрослении, о членах своей семьи, о родственных маорийских общинах, а также о том, какие действия разные члены общины предпринимали в борьбе с европейскими застройщиками. Истории Токо наполняются коренным смыслом и становятся похожи на такую устную традицию маори, как пересказ племенной генеалогии whakapapa, затрагивавшей не только происхождение того или иного племени, но и его права на землю и рыбные угодья. Однако, как отмечают исследователи, формы устной литературы маори ограничены исключительно вопросами маорийских традиций, родства, лидерства и мифологии и не допускают, таким образом, включения каких-либо элементов западной культуры [20. С. 206-207]. Вдобавок к этому перед Грейс стоит еще одна сложная задача - инкорпорировать элементы устной культуры маори в письменную речь на английском языке. Но Грейс удается справиться с этой проблемой во многом благодаря мифологизации опыта современных маори в Новой Зеландии, в чем еще раз проявляется транскультурный характер романа «Потики». Это становится особенно заметно в четырнадцатой главе произведения, где Токо рассказывает о том, что происходило в общине после очередного визита застройщиков и попыток купить у маорийской общины их земли. Описывая усугубляющийся конфликт, Грейс вновь фокусирует внимание читателя на проблеме признания прав коренного населения на землю предков и рыболовные угодья. К этому добавляется и вопрос лидерства, так как по мере развития основного конфликта разные члены семьи Токо борются за право представлять интересы маорийской общины. Именно эти темы являются наиболее важными в устной традиции маори, и, помещенные в современный контекст, они запускают процесс мифологизации повествования. Этот процесс усиливается за счет того, что читатель воспринимает происходящее глазами Токо, персонажа, наделенного особым знанием и имеющего непосредственную связь с ритуальной культурой маори. В самом начале главы он проявляет свои профетические способности и говорит о предчувствии огня, которое было с ним еще «до того, как он был ребенком» [19. С. 92], и так предсказывает пожар, в результате которого сгорит дом для собраний. В сознании Токо огонь охватывает деревянные скульптуры предков, расположенные внутри дома, после чего видение уходит, оставляя героя с этим печальным знанием будущего. Затем он чувствует, как «дом набрал воздух и вздохнул» [19. С. 93], что в контексте предшествовавших образов позволяет нам судить о том, что речь тут не просто об общем дыхании людей, находящихся в этот момент в доме, но о предках, представленных в виде резных скульптур, чье присутствие может быть отмечено только Токо. Так Грейс объединяет в одно синергетическое целое важнейшие элементы духовной культуры маори и современные реалии основного сюжетного конфликта, превосходит ограничения устной традиции и мифологизирует свой текст, смешивая европейский литературный жанр с пересказами whakapapa или историями kōrero, уникальными устными повествованиями. Исследователями также отмечается, что для устной маорийской литературы характерна ритмичность и использование конкретных образов для передачи отвлеченных идей [21. С. 267], что также свойственно стилю Грейс, в особенности в тех главах, где повествующим лицом является Токо. Последней транскультурной особенностью романа, на которую следует обратить внимание, является то, как персонажи Грейс используют время в своем повествовании. Вновь обращаясь к речетворческому процессу Токо, мы можем наблюдать, как время его повествования смещается от настоящего, параллельного происходящим событиям, до прошедшего или предвосхищающего будущего. Это можно заметить в четырнадцатой главе, где отдаленность повествования Токо от кульминации земельного спора позволяет ему осуществить задачу мифологизации происходящего. Но наиболее ярким примером здесь является последняя глава романа, в которой Токо завершает свое мифическое повествование, давая читателю понять, что на данный момент он уже погиб и что историю собственной смерти он рассказывает «из дерева» и «со стены» [19. С. 178], так как теперь он представлен в виде резной фигуры предка в новом отстроенном доме. Здесь читатель понимает, что именно эта фигура была описана за две главы до этого: Они посмотрели на законченную резьбу и увидели в ней тамаити, мокопуна, потики со всеми окружавшими его историями, и они поняли, что теперь дом был достроен… Они улыбнулись, когда увидели широкий рот с волшебными завитками в углах и языком, говорящим, рассказывающим языком, вьющимся до того места, где начиналось сердце [19. P. 168-169]. Таким образом, то, что в этой предшествовавшей главе кажется лишь неживой резной скульптурой, оживает в конце произведения и те истории, которые окружают скульптуру, и есть истории, рассказываемые Токо на протяжении всего романа. Читатель понимает, что ребенок в инвалидном кресле, использовавший свой голос для речеи мифотворчества, умер, но продолжал производить текст, затем был похоронен, но продолжал производить текст в материализованном виде. С помощью повествовательной линии Токо Грейс выходит за рамки линейности и показывает, как в сознании маори концептуализируется жизнь, смерть и течение времени. В картине мира маори прошлое mua обозначает время, находящееся впереди и не сокрытое от взгляда, тогда как будущее muri обозначает то, что неизвестно и находится позади [21. С. 68-70]. Понимание этого аспекта маорийской культуры позволяет читателю осознать всю сложность повествования Токо, чей взор как материализованного в дереве предка направлен вперед, в известное ему прошлое, и именно этой связью с культурой предков и предварительным осознанием того, что с ним произойдет, объясняются его профетические способности по мере развития основного сюжета. Грейс удается поставить некоренного читателя в сложное положение, в котором для полного понимания текста романа необходимо иметь представление о различных составляющих маорийской культуры - от духовных и ритуальных практик до архитектуры и быта. К этому также добавляется тот факт, что в тексте «Потики» отсутствуют подстрочные комментарии или глоссарий, которые позволили бы читателю - не носителю коренного языка понять значение большого количества лексических заимствований. Так Грейс удается сохранить баланс между основной сюжетной линией и коренным повествованием, которое достигает своего апогея в последней главе, заканчивающейся отрывком, полностью написанным на языке маори. Этим отрывком Грейс закругляет тему устной традиции маори, которая начинается в конце эпилога с формального восклицания “tihe mauriora”, обозначающего начало чьей-либо речи на маорийском собрании, и завершается последней фразой романа “ka huri”, обозначающей конец устного выступления. В рамках настоящего исследования был проведен анализ творчества новозеландской писательницы Патриции Грейс на примере романа эпохи маорийского ренессанса «Потики». С опорой на биографию самой Грейс и на теорию транслингвальности был сделан вывод о транслингвальном характере ее идентичности и о том, что для ее творчества характерны приемы, свойственные авторам-транслингвам. Краткий обзор основных положений теории транскультурации Фернандо Ортиса позволил применить эти идеи к контексту маорийского ренессанса в целом и произведений Грейс в частности. Было выявлено, что творчество писательницы отмечено элементами двух лингвокультур, представленных в новозеландском обществе является ярким примером культурной синергии. Однако лишь немногие критики в своих работах смогли по достоинству оценить транскультурность произведений Грейс, идеи которых выходят за рамки европоцентристских литературных категорий. На примере романа «Потики» было продемонстрировано, как более глубокий взгляд на это произведение способен выявить неочевидные для широкого читателя, а иногда и намеренно невербализованные самим автором аспекты культуры маори. Представляется, что подобный транскультурный подход к анализу постколониальной литературы полинезийских народов позволит привлечь больше внимания к ее изучению, способствуя тем самым сохранению коренного культурного наследия этого региона.About the authors
Semyon S. Galaktionov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: semengal98@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9025-5522
first-year postgraduate student at the Faculty of foreign languages and regional studies
1, Leninskiye Gory, Moscow, 119991, Russian FederationZoya G. Proshina
Lomonosov Moscow State University
Email: proshinazoya@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0570-2349
doctor of Philology, professor at the Chair of theory of teaching foreign languages at the Faculty of Foreign Languages and Regional Studies
1, Leninskiye Gory, Moscow, 119991, Russian FederationReferences
- Kuiper, K. 2020. Patricia Grace. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/biography/Patricia-Grace (accessed: 28.06.2021).
- Kellman, S.G. 2000. The Translingual Imagination. University of Nebraska Press. Print.
- Canagarajah, S. 2002. Multilingual writers and the academic community: towards a critical relationship. Journal of English for Academic Purposes. 1: 29—44. Print.
- Proshina, Z.G. 2016. Problemy i perspektivy translingval’nyh i transkul’turnyh kontaktov (vvedenie k tematicheskomu vypusku zhurnala). The Humanities and Social Studies in the Far East 2 (50): 6—9. Print. (in Russ.)
- Canagarajah, S. 2013. Translingual practice: Global Englishes and cosmopolitan relations. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. Print.
- Proshina, Z.G. 2017. Translingvizm i ego prikladnoe znachenie. Vestnik RUDN. Seriya: Voprosy obrazovaniya: yazyki i special’nost’. 14 (2): 155—170. Print. (in Russ.)
- Ortiz, F. 1995. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Durham, and London: Duke university Press. Print.
- Said, E.W. 1993. Culture and Imperialism. London: Vintage. Print.
- Tlostanova, M.V. 2011. Transkul’turaciya kak model’ sociokul’turnoj dinamiki i problema mnozhestvennoj identifikacii. Voprosy social’noj teorii. V: 126—149. Print. (in Russ.)
- Tlostanova, M.V. 2004. Postsovetskaya literatura i estetika transkul’turacii. Zhit’ nikogda, pisat’ niotkuda. Мoscow: Editorial URSS. Print. (in Russ.)
- Zhukova, I.N., Lebed’ko, M.G., Proshina, Z.G., Yuzefovich, N.G. 2013. Slovar’ terminov mezhkul’turnoj kommunikacii. M.G. Lebedko, Z.G. Proshina (eds.). Moscow: Flinta : Nauka. Print. (in Russ.)
- Trask, H.K. 1991. Natives and Anthropologists: The Colonial Struggle. The Contemporary Pacific 3 (1): 159—167. Print.
- Pearson, B. 1982. Witi Ihimaera and Patricia Grace. In Cherry Hankin (ed.) Critical Essays on the New Zealand Short Story. Auckland: Heinemann. Print.
- McLeod, A. 1987. Private Lives and Public Fictions. In Shelagh Cox (ed.). Public and Private Worlds: Women in Contemporary New Zealand. Wellington: Allen and Unwin. 67—81. Print.
- Anderson, L. 1986. Maoriness and the Clash of Cultures in Patricia Grace’s Mutuwhenua. World Literature Written in English 1: 188—190. Print.
- Tlostanova, M.V. 2011. Neevropejskaya gendernaya filosofiya v kontekste mezhkul’turnogo dialoga. Vestnik RGGU. Seriya ‘Filosofiya. Sociologiya. Iskusstvovedenie’ 15 (77): 102—113. Print. (in Russ.)
- Fuchs, M. 1994. Reading toward the Indigenous Pacific: Patricia Grace’s Potiki, a Case Study. Boundary 2. 21 (1): 165—184. Print.
- Te Aka Online Māori Dictionary: tūāhu. URL: https://maoridictionary.co.nz/search?idiom=&phrase=&proverb=&loan=&histLoanWords=&keywords=tuahu (accessed: 09.03.2021).
- Grace, P. 2020. Potiki. Penguin Books. Print.
- Binney, J. 2004. Maori Oral Narratives, Pakeha Written Texts: Two Forms of Telling History. New Zealand Journal of History 38 (2): 203—214. Print.
- Metge, J. 1976. Rautahi: The Maoris of New Zealand. London: Routledge. Print.
Supplementary files