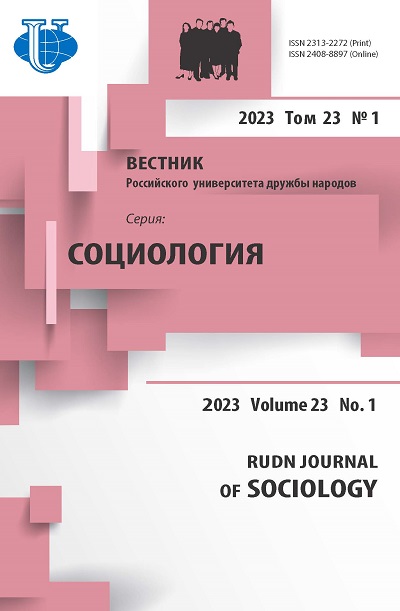Восприятие новых религиозных движений религиозными организациями Республики Беларусь
- Авторы: Мартинович В.А.1
-
Учреждения:
- Минская духовная академия
- Выпуск: Том 23, № 1 (2023)
- Страницы: 74-88
- Раздел: Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/33929
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-1-74-88
- ID: 33929
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В социологии религии редко встречаются работы, посвященные количественному анализу реакций основных социальных институтов на феномен религиозности. Социальные представления и иллюзии относительно нетрадиционной религиозности формируются в границах множества несвязанных и нескоординированных реакций представителей каждого института. Логика выбора объекта реакций среди действующих религиозных организаций отражает как специфику социального института, так и внешние влияния, социальный контекст. Статья посвящена выявлению институциональной специфики реакций традиционных религий на нетрадиционную религиозность на основании анализа восприятия новых религиозных движений православной и католической церквями Республики Беларусь в период с 1992 по 2020 годы. Методом контент-анализа было проанализировано 715 книг, статей в СМИ, листовок, материалов конференций и других изданий церквей, посвященных новым религиям. Выявлен факт идентификации 407 групп, конфигурация которых отражает избирательность внимания традиционных конфессий к новым религиям; установлено их количество в Беларуси, распределение по структурным и содержательным характеристикам, рекурсивность и частотность упоминаний, статус авторов материалов в иерархии церквей, влияние перепечатываемых в белорусских изданиях зарубежных статей. Установлено, что институциональная специфика восприятия религиозными организациями новых религий состоит в критике с позиций собственного вероучения, а особенности прошлого и современной жизни христианских церквей заставляют их в первую очередь реагировать на внутрицерковное сектантство, христианские и псевдохристианские группы, затем на неоязычество, центры магии, гаданий и целительства, сатанизм и оккультно-мистические веяния. Выявлены внешние и внутренние факторы, определяющие восприятие церквями религиозных организаций в нехарактерной для них форме. Зафиксирован диапазон вариативности противосектантского дискурса православной и католической церквей.
Полный текст
Место и роль социальных институтов в формировании представлений и иллюзий относительно новых религиозных движений (далее — НРД) — малоисследованная тема в социологии религии. Специфика реакций института на феномен нетрадиционной религиозности отражается в конфигурациях идентифицированных в качестве НРД организаций, различиях категориаль но-понятийного аппарата, динамике, частотности и рекурсивности упомина ний НРД.
Как правило, изучение этой проблематики в работах отечественных и зарубежных авторов сводится к качественному анализу реакций на НРД со стороны органов государственного управления, печатных СМИ, общественных организаций и общественного мнения; отдельно исследовались история, мотивации, теоретические обоснования, методы работы и особенности аргументации представителей разных социальных институтов. При этом их число никогда не было репрезентативно, а роль личности преувеличивалась в ущерб институциональным характеристикам. Опросы населения не претендовали на выявление институциональной специфики отношения к НРД и не могли бы справиться с этой задачей.
Место и роль религиозных организаций в системе реакций современного общества на НРД также относится к числу практически неизученных тем. Глубокие исторические исследования [9; 13; 14] не затрагивают релевантное для настоящего исследования измерение вопроса. Анализ отношения конфессий к религиозному инакомыслию в социологии сводится к качественному исследованию истории, теоретического обоснования и методологии работы отдельных представителей разных конфессий [8; 11; 12], анализу межконфессиональных отношений [7], выявлению мнений верующих по поводу иных религиозных групп [6] и оценке общего контекста взаимодействия религиозных организаций [1; 2]. Статья посвящена анализу институциональной специфики реакций религиозных организаций на НРД на основе восприятия НРД православной и католической церквями Республики Беларусь. Ранее с опорой на ту же методологию исследовался профессиональный антисектантский дискурс общественных организаций [3] и печатных СМИ Республики Беларусь [5].
Противосектантский дискурс и восприятие НРД
Восприятие религиозных организаций — постоянный процесс, предполагающий установление совпадения характеристик группы с одним из типов религиозных организаций. Внимание социальных институтов избирательно — они «замечают» не все действующие в стране религиозные организации, но определенную их конфигурацию, отвечающую их институциональным интересам, запросам, специфике решения собственных задач. Институты реагируют не на религиозную ситуацию в целом, а на отдельные ее составляющие, воспринимаемые в качестве наиболее актуальных и важных. Можно выделить четыре основных типа восприятия (своего рода социальной идентификации) НРД: (1) прямая — через профильную спецтерминологию (например, «Аум Синрике является сектой»); (2) контекстуальная — через общее содержание текста или его размещение, но без специальной терминологии (например, в «Энциклопедии сект» одна статья посвящена критике «Аум Синрике», группа противопоставляется традиционным религиям, но прямо не называется сектой); (3) полемическая — через определение третьей стороны (например, «Японское правительство относит “Аум Синрике” к числу сект»); (4) индексная — через описание группы с помощью спецтерминологии, но без указания ее названия (описание учения, практики и деятельности группы рассчитано на ее узнавание читателями благодаря индексным выражениям, например, «Секта Секо Асахары»).
Характеристика НРД выступает показателем чувствительности институтов общества к религиозному многообразию, делает религиозные организации широко узнаваемыми, влияет на представления о конфессиональном пространстве и реакции на него. В религиозных организациях идентификация НРД встроена в «противосектантский дискурс», институциональная специфика которого состоит в критике учения и ритуалов НРД: полемика ведется не столько с организациями, сколько с идеями. Позиция своей организации по разбираемому вопросу важнее, чем анализ взглядов оппонента и собственное мнение автора материала, который ретранслирует, а порой и реконструирует позиции своей конфессии. История, методы работы, имена руководителей и даже названия НРД принципиального значения не имеют.
Особенности истории, учения и культовой практики предопределяют содержательные различия институциональных реакций религий на НРД. При сохранении акцента на критике наблюдаются межконфессиональные и межрелигиозные отличия: первые менее существенны, но для социологического анализа важны не различия в богословской аргументации против НРД православных и католиков (или христиан, иудеев и мусульман), но их влияние на выбор объекта критики. Важно не то, как критикуют НРД, а какие НРД становятся объектом публичной критики, хотя эти вопросы взаимосвязаны.
Масштабы и динамика отношения к НРД во многом зависят от внимания, уделяемого религиозными организациями альтернативным религиозным сообществам. Во всех типах религиозных организаций неизменно протекают процессы, приводящие к выделению сект. Одни процессы религиозная группа может взять под контроль, на другие лишь повлиять, уменьшив количество разделений. В качестве вызова ее интересам воспринимается и совокупность религиозных организаций, действующих в той же местности и предоставляющих возможность альтернативного религиозного выбора. Организация может активно реагировать на внутренние и внешние вызовы либо их игнорировать. В процессе ее развития меняется объем и интенсивность реакций на нетрадиционную религиозность, а их значение и роль в жизни группы зависят от целого ряда факторов.
Во-первых, важное значение имеет «парадигма истинности» группы (1). Организации с индивидуалистической парадигмой исходят из представления об истинности только своего вероучения (например, Православная церковь, Свидетели Иеговы[1] и др.). Организации с плюралистической парадигмой до пускают возможность проявления истины в разных религиозных организа циях (индуизм, унитарии-универсалисты и др.). Как церкви, так и НРД с индивидуалистической парадигмой истинности, чаще выступают с критикой иных религиозных организаций, чем организации с плюралистической парадигмой. Соответственно христиане, мусульмане и иудеи уделяют на порядок больше внимания НРД по сравнению с последователями индуизма или буддизма, а христианство лидирует по объему внимания к нетрадиционной религиозности.
Во-вторых, важна стадия развития организации: после появления группа сталкивается с внутренними вызовами со стороны конкурирующих версий своего вероучения и организации и с внешними вызовами со стороны иных религиозных организаций. Большинство подобных испытаний на прочность обладает потенциалом полного разрушения организации, ее ослабления и радикального изменения. Успешное противостояние вызовам на ранней стадии — условие выживания группы, фактор ее укрепления и роста. На более поздних стадиях, когда группа имеет значительные размеры и достаточно стабильно функционирует, она может пренебречь большинством внешних вызовов и медленно реагирует на внутренние — они все еще могут нанести организации урон локального масштаба, но он не будет иметь критического значения. Реакция на вызовы претерпевает два важных изменения: осмысление НРД смещается из центра богословской мысли на ее периферию (выразителем реакций на НРД все чаще становятся миряне); реакция на НРД перестает быть необходимостью и становится вопросом свободного выбора, как правило, на локальном уровне (например, для православной и католической церквей в ХХ–ХХI веке критика НРД не имеет решающего значения).
В-третьих, реакции на НРД обусловлены статусом, масштабом распространения, материальным обеспечением и силой влияния конфессии в стране. Общая тенденция такова, что в странах со слабыми позициями религиозной организации конфессиональное сектоведение становится частной инициативой отдельных священников. При сильных позициях группы поддержка сектоведения — вопрос локального решения конфессии, но по сравнению с иными направлениями оно поддерживается по остаточному принципу (например, в Италии, Германии и Польше сильны позиции католической церкви, но католическое сектоведение в Германии развито намного сильнее).
Уходящая в глубь истории традиция борьбы с ересями и сектами задает общий фон, легитимирующий спонтанные противосектантские инициативы, в том числе от рядовых членов. Однако в религиозных организациях нет общезначимых правил, обязывающих создавать на местах противосектантские организации и распространять критические материалы по НРД. Такие документы могут существовать на уровне отдельных стран, но их создание зависит от возможностей и желания на местах, и не существует инструкций по организации, формам и методам работы соответствующих структур. Задаются общие направления деятельности (например, сотрудничество со СМИ, работа с населением), в рамках которых возможен широкий диапазон действий. Конкретная конфигурация и объемы того, что будет делаться, зависит от исполнителя. Количество идентифицируемых НРД во всех случаях будет больше, чем если бы такого центра не существовало. При этом интересы сектоведов одной конфессии могут включать до нескольких сотен и даже тысяч наименований, и решающее значение имеет стремление к анализу всего конфессионального пространства и наличие инструмента (программного обеспечения), позволяющего с наименьшими трудозатратами систематизировать большие объемы информации. Оба фактора сосуществуют крайне редко: большинство специалистов работают с несколькими сотнями групп и не стремятся к анализу всех действующих НРД.
Противосектантский дискурс и характеристика НРД — часть истории и современной жизни религиозных организаций: даже при полном отсутствии инициатив со стороны духовенства и мирян группа будет транслировать в общественном дискурсе критику альтернативной религиозности. Так, наиболее часто издаваемая в мире книга, Библия, содержит не менее 300 фрагментов, прямо затрагивающих проблематику нетрадиционной религиозности, в том числе идентифицирующих ереси и секты (2). При этом у религиозных организаций отсутствует императив к изучению всех без исключения НРД или к постоянному увеличению числа исследованных и раскритикованных групп (3). Рост внимания религиозной организации к теме НРД влияет на увеличение количества идентифицируемых групп лишь до определенной точки насыщения.
Исследование восприятия НРД
Религиозные организации фиксируют свое отношение к НРД в источниках разных типов. По уровню доступности их можно разделить на общедоступные — рассчитаны на широкий круг пользователей, в том числе не принадлежащих к конфессии — и внутренние — закрытые материалы, составляющие часть документооборота религиозной организации, но недоступные даже для рядовых членов и большинства священнослужителей. В открытых источниках идентифицируется меньшее количество НРД, но для настоящего исследования значение имеют только общедоступные источники.
Были проанализированы материалы двух самых крупных и влиятельных конфессий Республики Беларусь — православной и католической церквей. Генеральная совокупность изданных ими материалов по НРД неизвестна: в церквях отсутствует централизованный контроль и учет материалов по не традиционной религиозности. Ни священнослужители, ни миряне не нужда ются в особом разрешении для размещения материалов по НРД в церковной и светской прессе, хотя могут согласовывать отдельные статьи и иметь особые полномочия в этой области. Общедоступных информационных площадок, на которых официальные представители церкви размещают материалы по НРД, достаточно много, особенно учитывая, что: а) ими используются платформы, не принадлежащие церквям (светские печатные СМИ, сборники конференций, материалы комиссий органов госуправления и др.); б) на светских площадках с опорой на богословскую аргументацию и без ведома руководства церквей могут писать рядовые члены.
Распределение материалов церквей по НРД в разных типах церковных и светских источников неравномерно. К церковным источникам прошлых лет сложнее получить доступ: они реже попадают в светские и даже церковные библиотеки, имеющие серьезные проблемы с комплектованием фондов. В означенном контексте методологически некорректно ограничивать число и тип анализируемых источников, а комплексный их анализ невозможен ввиду больших временных затрат. Поэтому отбор материалов осуществлялся методом доступной выборки: выборочная совокупность составила 715 источников, изданных в Республике Беларусь, полностью посвященных НРД в период с 1992 по 2020 годы — 649 статей из 14 церковных печатных СМИ (4); 26 статей и документов из церковных сборников работ, материалов конференций и семинаров; 15 монографий и брошюр, выпущенных в церковных издательствах; 7 противосектантских листовок; 18 статей в светских источниках всех типов. По конфессиональному признаку в выборку вошли 631 православный источник и 84 католических (80 статей, 1 постановление синода, 2 монографии, 1 листовка). 154 статьи были перепечатками материалов религиозных организаций из других стран: 139 из России, по 6 из Украины и Польши, по 1 из Австралии, Швейцарии и США. Данные материалы не исключались из выборки, так как факт их выбора и публикации в церковных изданиях Республики Беларусь предполагал согласие местных издателей с содержанием материала. Материалы белорусских авторов по НРД, опубликованные за рубежом, в выборку не включались, как и противосектантские материалы иных конфессий, малодоступные для широкой общественности.
Анализ материалов производился методом контент-анализа, разработанным Центром социологических и политических исследований БГУ под руководством Д.Г. Ротмана. Выбор метода был обусловлен неприменимостью классического контент-анализа ввиду невозможности предварительного выделения единиц анализа (идентифицированных НРД). Уникальная конфигурация НРД, упоминаемых социальным институтом, выступала предметом исследования, была заранее неизвестна и не могла стать основой выборки. Главный вопрос исследования к текстам формулировался следующим образом: «Какие группы в тексте статьи идентифицируются в качестве НРД?». Кроме того, в бланке отмечались выходные данные материала и принадлежность автора к числу священнослужителей или мирян. Результаты анализировались в контексте предшествующих исследований структурных и содержательных характеристик нетрадиционной религиозности в Республике Беларусь.
Всего за период с 1992 по 2020 годы православная и католическая церкви Республики Беларусь определили в качестве НРД 379 религиозных организаций и 28 общностей последователей религиозных и мистических течений (5) — всего 407 НРД и общностей. Из числа НРД на территории Беларуси документально зафиксирована деятельность 201 организации, что составляет 17,2 % от общего числа НРД, деятельность которых в Республике Беларусь документально зафиксирована автором на 1 января 2023 года. 178 НРД действовали только за рубежом. НРД и общности идентифицировались 2351 раз в 593 источниках из 715. В 122 статьях НРД и общности не упоминались. Зависимость между количеством упоминаемых НРД и частотой обращения к теме НРД в разные годы отсутствует. Наибольшее количество материалов из вошедших в выборку было опубликовано в 2008 году (60), наименьшее — в 2018 (2). В целом с 2009 года отмечается резкое падение количества публикаций.
В среднем ежегодно идентифицировалось 27 НРД, действовавших на территории Республики Беларусь, и 48 НРД от общего количества упоминаемых организаций, с помощью 69 общих для разных социальных институтов терминов (6) и 41 термина, отражающего специфику категориально-понятийного аппарата христианских церквей (7). В заимствованных из других стран материалах упомянуто 102 НРД 450 раз: большинство повторяло названия НРД из местных материалов, 18 НРД (4,2 %) были новыми по сравнению с идентифицированными белорусскими авторами, но их содержательные и структурные характеристики значимых аномалий не содержали. В задачи исследования не входила проверка обоснованности отнесения организаций и общностей к числу НРД.
Институциональная специфика восприятия НРД
Институционально обусловленный акцент на критике учений может быть зафиксирован тремя дополняющими друг друга способами: выявлением количества идентифицированных общностей нетрадиционной религиозности; анализом частотности их упоминаний в выборке; контент-анализом материалов по организованным НРД, который направлен на сравнение объема текста, посвященного критике учения НРД, с описанием их истории, деятельности и конкретных ситуаций. Полученные результаты необходимо сравнить с данными для иных социальных институтов.
В исследовании была выявлена идентификация религиозными организа циями 28 общностей, составляющих 6,8 % от общего числа объектов и упо минаемых 757 раз (32,3 %). Это очень высокие показатели для общностей, и данные по иным социальным институтам это подтвердили. Контент-анализ материалов по организованным НРД для выявления объемов текста с критикой не проводился, поскольку его необходимость стала очевидна лишь по завершении исследования идентификации НРД. Однако все 715 источников были внимательно прочитаны автором, что позволяет сделать вывод о преобладании в них богословской аргументации и наличии вкраплений дискурсов иных социальных институтов: органов госуправления (интервью с чиновниками), ученых (в церковной прессе об НРД высказалось не менее 11 кандидатов и 8 доктор наук), нерелигиозных СМИ (гостевые статьи профессиональных журналистов светской прессы).
Богословская критика церквей никогда не охватывала всю совокупность НРД, а была ориентирована на определенные сектора нетрадиционной религиозности. Далеко не все НРД замечались, не всегда замеченные НРД считались опасными, и определение значимых угроз могло меняться со временем. Определяющее влияние на выбор объекта критики и, тем самым на институциональную специфику реакций на НРД оказывали история и учение православной и католической церквей. Эта специфика может быть выявлена посредством определения типов НРД, которые воспринимались в качестве наиболее актуальных (опасных).
Первостепенное значение для церквей всегда имели НРД и общности, которые воспринимались в качестве одной из двух основных угроз: к первой относились учения и организации, предлагавшие альтернативные версии вероучения церквей — христианские ереси и секты сохраняли все основные догматы о Боге, но вносили изменения в иные пункты учения; псевдохристианские искажали учение о Боге (например, отрицали догмат о Троице), но сохраняли основную массу иных постулатов. Все они бытовали либо в форме внутрицерковного сектантства, либо вне церквей в виде НРД. В разные эпохи появлялись религиозные организации, которые церкви считали сектантскими (баптисты, пятидесятники и другие организации воспринимаются в качестве преемников древних христианских и псевдохристианских ересей и сект). В качестве второй основной угрозы воспринимались внешние и чуждые христианству НРД и общности, которые казались привлекательными значительному числу членов церквей: целительство, магия, гадания, язычество, астрология и спиритизм — один из главных объектов критики церквей на протяжении всей истории их существования. В Библии, документах Вселенских и Поместных соборов, трудах святых православной и католической церквей и других текстах они активно обсуждаются и осуждаются. Памятники религиозной мысли разных столетий сохраняют свою актуальность и оказывают непосредственное влияние на формирование противосектантского дискурса сегодня.
Особое место в истории церкви занимала полемика с гностицизмом I–III веков, нашедшая отражение в Новом Завете и богословской мысли. Влияние этой полемики до сих пор прослеживается в распространенном в церковной среде представлении о преемственности ряда современных НРД с гностицизмом. Прежде всего речь идет о группе оккультно-мистических НРД, которые претендуют на преемственное или приобретенное право хранения, развития и распространения одной из эзотерических традиций мира, в первую очередь гностической, но также герметической, алхимической, каббалистической, розенкрейцеровской, теософской и др. Критика этих НРД не первостепенна для церквей сегодня, но в ней постоянно встречаются отсылки к текстам и аргументам двухтысячелетней давности, а сами группы критикуются как современные версии древнего врага. Поэтому группа оккультно-мистических НРД и общностей также рассматривалась в контексте институциональной специфики реакций на НРД. Сюда же были отнесены и группы сатанистов, но по иным основаниям: сатанизм организационно сформировался в начале ХХ века, и в церкви нет древней традиции противостояния ему, однако осквернения церквей и кладбищ сатанистами (например, осквернение Кафедрального собора в Минске), убийства священнослужителей и угрозы священникам заставили представителей церквей воспринимать сатанизм в качестве актуального вызова извне.
Таким образом, для оценки институциональной специфики реакций церквей на НРД в Республике Беларусь в конце XX — начале ХХI века были рассмотрены 193 НРД и общности (47,4 % идентифицированных НРД). Этот результат опроверг предположение о доминирующем влиянии институциональной специфики на формирование конфигурации идентифицированных НРД, а упоминание 214 иных НРД потребовало объяснения. В группу НРД, не отражавших приоритетные направления критики церквей, но попавших в выборку, вошли НРД восточной ориентации, группы нового мышления, псевдонаучные, псевдопсихологические, синкретические, утопические, уфологические и политические НРД. Причина их появления в выборке — не публикации представителей разных социальных институтов в церковной прессе, а постоянные запросы людей в церкви. Так, в Белорусскую православную церковь ежегодно приходит не менее 300 запросов от населения и иных социальных институтов по разным НРД и общностям, в основном не от православных верующих и в отношении НРД, о существовании которых церковь без запросов извне не узнала (т.е. НРД не работают с православными и напрямую церкви не угрожают). Необходимость отвечать на запросы расширяет список НРД, на которые церкви обращают внимание, причем объем запросов многократно превышает инициативное внимание руководства церкви к НРД. В предшествующие столетия церкви побуждали государство и общество заниматься проблематикой НРД, а противосектантский дискурс повсеместно присутствовал на нецерковных информационных площадках. В ХIХ веке традиционные религии теряют монополию на знания о НРД, и объемы генерируемой ими информации по нетрадиционной религиозности значительно уступают вырабатываемым иными социальными институтами. Потеря церковной монополии сопровождается утратой контроля над собственным противосектантским дискурсом: из акторов противосектантской деятельности, влияющих на других, церкви превратились в пассивных субъектов, часто воспринимающих и ретранслирующих информацию извне.
Критическая масса запросов может заставить религиозную организацию инициировать создание специализированных центров, занимающихся НРД, или назначить ответственных за тему специалистов. Они могут получать разную поддержку, которая, как правило, отражает степень озабоченности организации данной проблематикой. Решающее значение имеет тот факт, что обработка запросов становится более профессиональной, часто создается архив данных о НРД, собирается дополнительная информация, сравниваются разные случаи и запросы по НРД. Диспропорция внешних и внутренних запросов заставляет специалистов заниматься группами вне сферы традиционного внимания церквей и расширять диапазон публично идентифицируемых НРД.
Что касается авторства проанализированных источников, то в 272 из 715 отсутствовало указание на автора; в 181 авторами были 92 священнослужителя; оставшиеся 262 написаны 161 светским автором (церковные журналисты, работники церкви без священного сана и читатели, присылавшие свои материалы). Этот результат подтверждает ранее упомянутую тенденцию увеличения доли мирян, которые выражают позицию религиозных организаций по НРД, но более независимы в своих суждениях, чем священнослужители. Рост доли мирян в числе авторов свидетельствует и о нарастающем влиянии на церкви иных социальных институтов, что приводит к размыванию институциональной специфики их реакций и расширению внимания к НРД за пределы институциональных интересов. В церковной среде появляются организации и частные лица, которые на кратковременной основе изучают тему НРД, высказывают свое мнение, пишут тексты. Большинство этих инициатив приводит к появлению допустимых с точки зрения церквей материалов, посвященных НРД, на которые церкви несколько столетий назад не обращали бы никакого внимания. В ХХI веке за каждым таким материалом стоит запрос или проблема, расширяющая диапазон идентифицируемых НРД.
Из 253 авторов, писавших на тему НРД, только двое на момент написания материалов были официально уполномочены православной церковью, еще трое занимались НРД на постоянной основе, но по своей инициативе — их авторству принадлежат монографии и статьи, совокупный объем которых составил 6,7 % от выборки. Таким образом, профессиональные сектоведческие тексты занимают незначительное место в противосектантском дискурсе конфессий, а количество священников и мирян, не согласованно друг с другом обращающихся к теме НРД, в 50 раз превышает число церковных специалистов. В текстах неспециалистов предсказуемо упоминалось больше НРД, чем в среднем по материалам выборки, однако решающее значение имеет не «реестр» упоминаемых НРД, но частота повторения одних и тех же групп в разные годы или рекурсивность.
Рекурсивность идентификации НРД
Под рекурсивностью понимаются повторные упоминания НРД на протяжении двух и более лет (8), и ее динамика является основным параметром, фиксирующим устойчивость внимания религиозных организаций к разным НРД. Сравнительный анализ перечней НРД и общностей, упоминаемых религиозными организациями каждый год, позволяет разделить их на три основные группы:
«Ядро» — НРД, присутствующие в перечнях не менее 15 из 29 лет. Характеристики НРД и общностей, входящих в «ядро», несколько отличаются в иных социальных институтах, отражая особенности каждого из них. В совокупности эти НРД оказывают основополагающее влияние на доминирующие в общественном дискурсе представления о нетрадиционной религиозности в целом и НРД в частности. Выявление специфики конфигурации групп ядра для всех социальных институтов — одна из основных задач в изучении динамики общественных представлений о НРД. Из 407 объектов 22 вошли в «ядро» (12 НРД (10) и 10 общностей (10)) — упоминались 1213 раз (51,6 %), при этом НРД критиковались реже, чем общности (547 раз). Непропорционально высокое присутствие общностей по сравнению с НРД отражает ориентацию религиозных организаций на критику идей и учений, а не групп. В группу лидеров по рекурсивности и частоте упоминаний вошли 15 НРД и общностей, отражающих институциональную специфику реакций церквей на нетрадиционную религиозность. Они упоминались в 471 материале (79 % источников) с совокупным объемом в 76,9 % идентификаций в «ядре». Нахождение остальных НРД и общностей в «ядре» имеет временный характер — объясняется внешними влияниями на противосектантский дискурс и яркими событиями в жизни НРД, привлекающими внимание всех социальных институтов (например, назначение конца света и т.п.).
«Полупериферия» — НРД, появляющиеся в перечнях на протяжении от 4 до 14 лет: 75 объектов (68 НРД и 7 общностей), которые упоминались 639 раз (27,2 %); 43 НРД (56,9 % упоминаний) отражают институциональную специфику реакций церквей — большинство представляют организованные версии НРД того же типа, что и неорганизованные общности «ядра». Например, в «ядро» вошла общность «внутрицерковное сектантство», а в полупериферию — НРД из среды внутрицерковного сектантства («группа Кузнецова», «группа Пляца», «царебожники»). Остальной массив из 32 НРД и общностей составили организации, кратковременно привлекавшие внимание церквей и их членов и дававшие яркий повод для обсуждений со шлейфом из эпизодических упоминаний на протяжении нескольких лет. В основном здесь представлены группы, с которыми церкви не могут вести полемику в традиционном для себя ключе сравнения учений (восточные, псевдонаучные, утопические и др.).
«Периферия» — НРД, появляющиеся в перечне на протяжении от 1 до 3 лет: 310 объектов (298 НРД и 12 общностей), упомянутых 489 раз (20,8 %). Эти группы не были предметом масштабных дискуссий, но появлялись на страницах церковных изданий в рамках решения локальных проблем. Они плохо запоминаются обывателями и не влияют на образ НРД в обществе, но исполняют важную функцию «фона», на котором обсуждаются иные, чаще упоминаемые НРД и феномен нетрадиционной религиозности в целом. В «периферию» также попали организации, отражающие институциональную специфику реакций церквей, но их меньше — 43,5 % «периферии» (44,9 % упоминаний). Вхождение некоторых их них даже в «периферию» сложно объяснить, несмотря на то что церкви склонны заниматься этими типами НРД. Так, упоминания пуэрториканского псевдохристианского НРД Мита, угандийского Движения за возрождение 10 заповедей Бога, последователей немецкого «христианского пророка» XVII века Генриха Кратценштайна и др. может иметь два взаимодополняющих объяснения. С одной стороны, эти НРД не соприкасаются с церквями, и их эпизодические упоминания имеют случайный характер. С другой стороны, эти НРД столь далеки от местного противосектантского дискурса, что ориентация церквей на критику НРД этого типа — единственный мотив авторов находить далекие от белорусского колорита, но уместные с позиций институциональной специфики церквей примеры.
1516 упоминаний (64,6 %) приходится на 193 НРД и общности, отражающие институциональную специфику реакций церквей; на оставшиеся 214 НРД и общностей приходится 35,4 % упоминаний. Анализ количества действующих и отсутствующих в Республике Беларусь НРД и общностей по трем группам дал в целом ожидаемый результат: 100 % ядра, 74,7 % полупериферии и 48,4 % периферии в той или иной форме присутствуют на территории страны. Иначе говоря, с ростом рекурсивности внимания церквей к конкретному НРД или общности увеличивается и вероятность того, что объект действует на территории страны. При этом подавляющее большинство НРД (82,8 %), деятельность которых документально зафиксирована в Республике Беларусь, остается вне сферы внимания православной и католической церквей, что говорит о в целом пассивном отношении традиционных конфессий Республики Беларусь к феномену НРД.
В статье представлены далеко не все результаты исследования: полученные данные позволяют отследить динамику реакции церквей на 407 НРД и общностей с учетом времени, прошедшего с момента появления каждой группы в Республике Беларусь; рассмотреть целый ряд иных тем и вопросов — специфику восприятия НРД религиозными организациями Республики Беларусь с поправкой на диахроническую перспективу, характер и масштаб влияния иных социальных институтов на противосектантский дискурс православной и католической церквей.
Примечания
- Концепцию «парадигм истинности» предложил Р. Уоллис [15], однако его привязка каждой парадигмы к конкретным типам религиозных организаций представляется некорректной, поскольку в рамках каждого типа (церкви, секты и т.д.) существуют представители обоих парадигм. Привязка к типам была устранена У. Беком, но он не предложил позитивной альтернативы в виде авторской типологии либо инструментария для анализа религиозных организаций [10].
- Например, в Новом Завете к ересям относились саддукеи, фарисеи, последователи Симона Волхва, волхв и лжепророк Вариисус, Николаиты, последователи Февда, Иуды Галилеянина, Валаама. Апостол Павел указывал на существование ересей и предостерегал против них.
- В истории православной церкви крайне редко встречались авторы, придерживавшиеся противоположной позиции, например, св. Ириней Лионский: «весьма сложное и многообразное дело открыть и обличить всех еретиков, а я намерен опровергнуть их всех сообразно с их характером» // Святой Ириней Лионский. Творения. М., 1996. С. 85.
- Православные печатные СМИ: «Верую», «Воскресение», «Гродненские епархиальные ведомости», «Духовный вестник», «Минские епархиальные ведомости», «Новогрудские епархиальные ведомости», «Преображение», «Святая Русь», «Сретение», «Ступени», «Труды Минской духовной академии», «Царкоўнае слова». Католические печатные СМИ: «Дыялог», «Каталiцкiя навiны».
- Конкретные организации сатанистов (церковь Сатаны, храм Сета и др.) были отнесены к НРД, а сатанизм как течение, представленное разрозненными людьми, почитающими в индивидуальном порядке Сатану в качестве верховного божества, — к общностям.
- Группа общих терминов: альтернативная религиозность; альтернативное религиозное движение; аудиторный культ; девиантная религиозная организация; деструктивная организация; деструктивная (псевдо)религиозная организация; деструктивная секта/вероисповедание/вероучение/религиозное объединение/религиозное течение; деструктивно-тоталитарная секта; деструктивный (религиозный) культ; клиентурный культ; культ; культ нового времени; культовое новообразование; молодежная религия; неокульт; нетрадиционная духовность/конфессия/религиозная духовность/ религиозная организация/религиозность/религия/форма духовности/форма религиозности/вероисповедание/религиозное движение/религиозное течение/религиозное учение; нетрадиционный культ; новая духовность; новая (нетрадиционная) религиозная организация/религиозность/религия/религиозное движение/религиозное направление/религиозное образование/религиозное общество/религиозное течение/эклектическое образование/культ; псевдорелигиозная организация/секта/ движение/общество/течение/учение/культ; псевдорелигия; психокульт; религия нового века; секта; сектантская группа/организация/движение/общество/объединение/ течение; сектантство; суррогатная религиозность; тотальная секта; тоталитарная организация/секта/культ.
- Группа специальных терминов: антицерковное течение; вера бесовская; ересь; болезненная религиозность; еретическая группа/течение/учение; идолопоклонство; идолослужение; лжеапостол; лжедуховность; лжеепископ; лжеименное знание; лжемессианизм; лжемессия; лжемистическое учение; лжепастырь; лжеправедник; лжеправославная группа; лжепророк; лжерелигия; лжесвященник; лжесловесник; лжестарец; лжеучение; лжеучитель; лжехристианство; лжехристос; лжецелитель; лжецерковь; ложная духовность; неканоническое образование; неправославное религиозное учение; нецерковная религиозность; псевдодуховное движение/течение; псевдодуховность; псевдорелигиозная духовность; псевдоцерковная группировка; «церковь»; чуждая духовность (курсивом выделены термины, которые упоминаются еще в Библии).
- Ранее автор провел пилотажное исследование рекурсивности идентификации НРД в светских печатных СМИ Республики Беларусь в 1993–1997 годы. Настоящее исследование проведено на материалах иного социального института и более длительного периода (1992–2020), что позволяет внести ряд корректировок в теоретико-методологические выводы предшествующего исследования [4].
- Свидетели Иеговы; Международное общество сознания Кришны; саентология; Христиане веры евангельской; евангельские христиане-баптисты; Церковь Иисуса Христа Святых последних дней; теософское общество; Движение объединения; Великое белое братство; богородичный центр; последователи Рерихов; адвентисты седьмого дня.
- Целительство, магия и гадания; суеверия; язычество; астрология; внутрицерковное сектантство; оккультизм; уфология; сатанизм; псевдонаука; спиритизм.
1 Группа включена в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Об авторах
Владимир Александрович Мартинович
Минская духовная академия
Автор, ответственный за переписку.
Email: nrmsect@yandex.ru
кандидат социологических наук, доктор теологии Венского университета, заведующий кафедрой апологетики ул. Зыбицкая, 27, Минск, 220030, Беларусь
Список литературы
- Бабосов Е.М. Динамика религиозности в независимой Беларуси. Минск, 1995.
- Безнюк Д.К. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь (социологический анализ). Минск, 2006.
- Мартинович В.А. Антисектантский дискурс печатных СМИ: проблематизация роли антикультового движения // Социологический журнал. 2021. Т. 27. № 2.
- Мартинович В.А. Динамика идентификации новых религиозных движений в печатных СМИ // Вестнiк Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А.А. Куляшова. 2019. № 1.
- Мартинович В.А. Идентификация новых религиозных движений в печатных СМИ Беларуси // Журнал БГУ. Социология. 2017. № 4.
- Новикова Л.Г. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: социологический аспект. Минск, 2001.
- Шкурова Е.В. Развитие межконфессиональных отношений в Республике Беларусь. Минск, 2009.
- Arweck E. Researching New Religious Movements. Responses and Redefinitions. London; 2006.
- Bauer W. Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum. Tübingen; 1934.
- Beck U. Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential der Religionen. Frankfurt am Main; 2008.
- Cowan D.E. Bearing False Witness? An Introduction to the Christian Countercult. London- Westport; 2003.
- Feher S. Maintaining the faith: The Jewish anti-cult and counter-cult missionary movement. Anti-Cult Movement in Cross-Cultural Perspective. Ed. by A. Shupe, D.G. Bromley. New York-London; 1994.
- Häresien. Religionshermeneutische Studien zur Konstruktion von Norm und Abweichung. Hrsg. von I. Pieper, M. Schimmelpfennig, J. von Soosten. München; 2003.
- Henderson J.B. The Construction of Orthodoxy and Heresy. Neo-Confucianic, Islamic, Jewish, and Early Christian Patterns. New York; 1998.
- Wallis R. The cult and its transformation. Sectarianism. Analyses of Religious and NonReligious Sects. Ed. by R. Wallis. London; 1975.
Дополнительные файлы