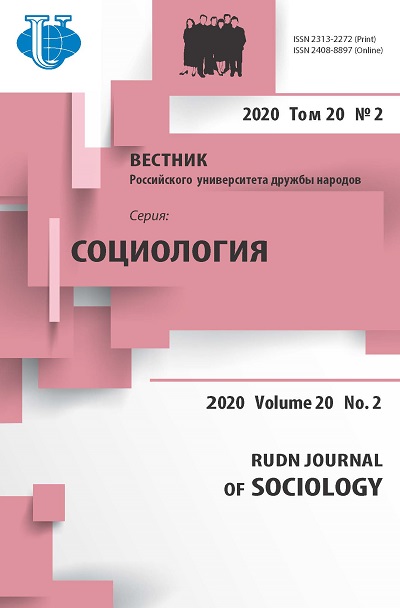Temporal phenomenology of Otherness by A. Schütz (or the birth of phenomenological sociologism)
- Authors: Bankovskaya S.P.1
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- Issue: Vol 20, No 2 (2020)
- Pages: 212-225
- Section: Theory, Methodology and History of Sociological Research
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/23865
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-2-212-225
- ID: 23865
Cite item
Full Text
Abstract
The author considers the construction of the ‘temporal sociologism’ by A. Schütz from the ‘general thesis of the alter ego’ to the Stranger and the Homecomer. The background and starting point of this construction is Schütz’s criticism of the Husserlian egological approach to the basic category of the Other and the radicalization of phenomenological reduction. The Husserlian primordial reduction to an isolated monad is replaced by a radical reduction of the ‘cultural pattern’ as a phenomenon of the ‘social a priori’. Social a priori and the Stranger serve as necessary conditions for intersubjectivity as not derived from the Ego and acquire temporal features in the categories of ‘cultural pattern of the group’ and ‘Homecomer’. In Schütz’s interpretation, the Stranger combines temporal and functional (spatial) features, which allows to define the category of ‘cultural pattern of the group’ and describe the relations of the Stranger with the group in terms of ‘temporal sociologism’. The Stranger category is the result of reduction of the taken-for-granted ‘cultural pattern of the group’. Schütz’s temporal sociologism places any manifestation of the social not only in the intersubjective space but also in the continuum of alterations in intersubjectivity. After this radical reduction of the ‘natural attitude’ to the ‘cultural pattern of the group’ by the Stranger category, Schütz goes further and reduces the ‘natural attitude’ to the belonging to/identification with any group by the ‘Homecomer’ category, which allows to explore the continuum of alterations in intersubjectivity exactly at the moment of its breaching. The experience of Homecomer restoring a ‘breach’ with his group represents the reduction of taken-for-granted ‘self’ in itself - turning into a Stranger for oneself, which allows to find a social basis in oneself. Thus, Schütz’s temporal sociologism develops as a definition of the social through changes in time and preserving social identity despite changes in the continuum of intersubjectivity.
Full Text
Примечательным фактом в истории социологической мысли можно считать то, что тема и проблема «инакости» получила теоретическое оформление в особом понятии Чужака, которое разрабатывалось, главным образом, в немецкой и американской социологии: во французской или британской (не говоря уже о прочих) социологической традиции «Чужак» не стал специальным предметом изучения и теоретизирования. Европейский вариант этого понятия представлен в социологии Г. Зиммеля (Der Fremde) [21; 22], а американские его разновидности — прежде всего в теоретических исследованиях (города, прессы, расовых отношений, миграции и др.) Р. Парка [11; 12; 13] и его последователей. Особого рода «гибрид» европейско-американского Чужака (Stranger, Homecomer, Estranged Native) представлен (что неудивительно) «чужаком» — австро-американским социологом А. Шюцем в его феноменологической теории [15–19]. Примечательно и то, что немецкая и американская социологии Чужака не только различаются в когнитивной перспективе его анализа и соотнесения с реалиями социальной жизни, но обнаруживают тесную взаимосвязь и преемственность. Как раз преемственность и теоретическая эволюция понятия в разных научных средах представляет наибольший интерес для исследователей Чужака. Во многом эту преемственность можно объяснить и стечением обстоятельств (включая личные), повлиявших на формирование американской концепции.
Рождение нового Чужака у Шюца: от эгологизма к интерсубъективности
В немецкой (зиммелевской) традиции Чужак (Der Fremde) как социальный тип выстраивается в социологии пространства и получает онтологическое обоснование в терминах функций, исполняемых в отношении «принимающей» группы [21]. В феноменологическом анализе Чужака (Stranger) у А. Шюца мы обнаруживаем своеобразный возврат к зиммелевскому пространственному функционализму с его «группоцентрической» перспективой Чужака как особого социального типа, соединяющего в себе одновременно близость и удаленность от группы. У Зиммеля акцент в определении социального своеобразия Чужака смещен на пространственные понятия «близости» и «удаленности». Впоследствии Парк, давая функциональное определение социальному типу «маргинал», также отвел ведущую роль пространственной категории границы. Шюц, сохраняя функциональный подход к определению теоретических типов Чужака, Вернувшегося (и даже Очужденного), в отличие от Зиммеля и Парка использует в качестве основополагающей аналитической категории время.
Темпоральный акцент в толковании Чужака Шюцем во многом обусловлен гуссерлианским наследием: переход от трансцендентальной методологии к социальной онтологии пролегает через понятие естественной установки (объективности социального мира как само-собой-разумеющегося). Догматизм естественной установки предполагает не только пред-данность окружающего мира (Umwelt), но и пред-данность Другого в этом мире, в естественную установку уже встроена трансцендентальная конструкция Другого. Процесс его конструирования описан Гуссерлем пошагово в «Картезианских медитациях» [4; 10] и нацелен на выход к интерсубъективности. Гуссерлианский подход к проблеме Инакости и к вопросу о Другом связан с пост-картезианским поворотом к «иному»: конструирование Инакости (Otherness) в качестве проблемы было обусловлено потребностью проследить происхождение интерсубъективности как единственного основания объективной реальности. Более конкретно это выразилось в попытках установить связь ego и alter-ego, которая описывается/конструируется у Гуссерля на принципиально эгологических основаниях: «другой» имеет шанс появиться в «моем» поле зрения исключительно как «другой Я» («такой же, как Я») — alter-Ego.
В эгологической гуссерлианской трактовке абстракция, или конструкция «Другой», появляется в подготовленном двумя редукциями (epoсhé) сознании и призвана освободить трансцендентальное Ego от предрассудка об объективной природе Другого. Чтобы определить то, «что-есть-собственно-мое как не-чужое», Гуссерль [10. С. 95, 97] осуществляет «примордиальную редукцию» внутри уже трансцендентально редуцированной эгологической сферы. В результате первой редукции — первой epoché — устраняется «естественная установка» на объективность внешнего мира, независимого от когнитивной и интерпретативной деятельности сознания. Вторая — thematischer epoché, или «редукция к моей особой трансцендентальной сфере» устраняет фрагмент естественной установки, обыденное представление об объективном существовании других субъектов — таких же, как и я, наделенных сознанием (Шюц называет это представление Generalthesis des alter Ego) [19].
Примордиальная редукция — это «специфически абстрактное исключение смысла», которое устраняет «наслоения» — они непосредственно или опосредованно соотносятся с чужими субъективностями [10. С. 95, 100]. Другой не обладает конкретностью и уникальностью примордиального субъекта, это «типизированный Другой», он может обладать лишь равной мне примордиальностию, по аналогии с моим живым телом, которое выступает для меня первичной, очевидной и непререкаемой данностью. У Гуссерля Другой сначала — тело в моем поле зрения, физическое тело в пространстве, которое становится «телом Другого»: этот шаг предполагает переход от «тела» к «чужому живому телу». Такого рода интерпретация достигается путем аппрезентации — это пассивное (не-рефлексивное) достраивание фрагмента до целого, недоступного непосредственному восприятию, на основании сходства со-присутствующих элементов — свойство жизни переносится с моего живого тела на чужое тело по аналогии.
Сразу возникает вопрос: как устанавливается это сходство в уже дважды редуцированном примордиальном мире трансцендентального Ego? Шюц, одновременно возражая Гуссерлю и оставаясь в гуссерлианской (редукционистской) логике поиска «последних» оснований социального, доводит эту редукцию до радикального вида. Ведь само установление аналогии предполагает наличие типизированного опыта, который должен быть редуцирован в результате второй epoché. Опыт, который всегда присутствует у меня, это опыт моего живого (действующего) тела. Поэтому Шюц и задается вопросом относительно выбора такой аналогии как логического хода в конструировании Другого: «До какой степени это сходство нам дано?» [20. С. 63]. Возражая Гуссерлю, Шюц подчеркивает несоответствия между способом данности мне моего тела (как живого) и способом данности мне тела Другого (как объекта, тела в пространстве): аналогия оказывается невозможной, поскольку я не могу одновременно чувствовать жизнь своего тела и жизнь тела Другого, т.е. одновременно проживать две жизни — свою и Другого. «Мое живое тело [всегда] присутствует как внутреннее восприятие своих границ и посредством кинестетического опыта своего функционирования» [19. С. 237]. Тело же Другого я не переживаю внутренне, но воспринимаю скорее в «перспективе-третьего-лица»: я более объективен как наблюдатель Другого и вижу его в более целостной перспективе, чем самого себя.
Иными словами, чтобы я мог интерпретировать входящее в мой примордиальный мир тело как «тело Другого», мне не нужно извлекать из моего запаса знаний хранящиеся там типизации, более того, я моментально «схватываю» его в целом, благодаря его сходству с моим «всегда живым и наличным» телом путем аппрезентации. Но если в «моем» примордиальном мире не остается эмпирического типа, позволяющего непосредственно «схватывать» появляющееся в поле моего восприятия тело Другого как «живого Другого», то на чем основывается мое восприятие его как «живого Другого»?
И здесь Шюц вводит ту самую категорию, которую можно считать началом феноменологического социологизма — «социальное a priori». Это «пре-конституированный нижний (базовый) уровень Чужака», неуничтожимый и неустранимый слой социальности и Инакости, который всегда-уже присутствует в индивидуальной субъективности, даже если фактическое альтер-эго отсутствует. По Шюцу, этот слой не может быть стерт никакой редуцирующей процедурой без следа инакости во мне самом. Именно социальное a priori выступает основанием интерсубъективности. Более того, переживание Другого возможно после возвышения над конкретикой тела (вегетативным уровнем Ego), редукция тела до социального a priori и есть начало феноменологического социологизма: «…единственной категорией переживаний другого, которая не может быть схвачена в непосредственном восприятии, является переживание другим своего тела, его органов, а также чувственных ощущений, им присущих; а именно эти телесные ощущения конституируют отдельность одного человека от другого. И наоборот, поскольку человек живет только в своих телесных ощущениях, постольку он не находит доступа к жизни альтер эго. Лишь возвышаясь в качестве Личности над своей чисто вегетативной жизнью, он обретает переживание другого… Если мы на самом деле спросим, что есть объект нашего восприятия другого, то вынуждены будем ответить, что мы воспринимаем не тело другого и не его Душу, Я или Эго, а тотальность, не разделенную на объекты внешних и внутренних переживаний. Феномены, берущие начало из этого единства, психофизически неразличимы» [5. С. 214]. Предполагаемый гуссерлианской ложной эмпатией эмпирический тип «alter ego», или «Другой», — искусственная абстракция, выводимая из конкретных, социокультурных типизаций, которые фактически задействованы в эмпирическом жизненном мире интерсубъективности («мужчина», «женщина», «ребенок», «подросток», «иностранец», «старик», «здоровый», «больной» и т.п.), и все это в разного рода вариациях зависит от культуры, к которой Другой и Я принадлежим [17. С. 66; 18. С. 240].
У Гуссерля же конструкция Другого целиком и полностью зависима от Ego, и в этом эгологизм противоположен диалогизму буберовского толка [3], где Я и Другой синхронизированы как «Я и Ты», и ни один из них не выступает предпосылкой другого, их слитность абсолютна. Однако трансцендентальное Я — в его «тематически» редуцированном до «примордиального мира» качестве — определяется Гуссерлем в негативном модусе, путем исключения «чужого», что дает Шюцу основания для последующей критики (или скорее корректировки, поскольку он остается в пределах гуссерлианской концептуальной среды) этого первого шага на пути к интерсубъективности как онтологической основе социального (в этой критике можно распознать начала шюцевского социологизма, который затем приобретет четкую темпоральную специфику). «Трудно понять, каким образом абстракция от всех смыслов, относящихся к Другим, могла бы быть выполнена надлежащим радикальным образом, дабы изолировать мою собственную особую сферу, поскольку эта [абстракция есть] именно не-соотнесение с Другим, которое и составляет линию разграничения сферы того, что свойственно моему конкретному трансцендентальному Эго. Следовательно, некоторый смысл, относящийся к Другим, обязательно должен содержаться в самом критерии не-соотнесения с Другими» [17. С. 166].
Законченный гуссерлианский проект трансцендентальной интерсубъективности рассматривается у Шюца скорее как проблема, в основе которой лежит вопрос «Как возможно вывести [ableiten] существование Другого и, впоследствии, интерсубъективность мира из внутренней жизни сознания и ее конститутивных проявлений?» [19. С. 72]. Выполняя задачу преодоления естественной установки в социальной онтологии и преодолевая (или продлевая), таким образом, Гуссерля, Шюц переносит фокус с индивидуального мышления на мышление совместно-с-другими, заостряет внимание на различии окружающего мира (Umwelt) и совместного мира (Mitwelt). При этом методологический акцент на субъективности единичного действия, на конкретике наблюдаемого не означает у Шюца индивидуализма онтологического (доведенного у Гуссерля до монадического солипсизма [4]). Интерсубъективность, по Шюцу, выстраивается не из индивидуального Ego, но из социального a priori, которое не только составляет внешний фон взаимодействия, но является условием формирования/появления Я.
Шюц писал А. Гурвичу: «Нет никакого трансцендентального ego, но есть лишь тематическое поле, которое не является эгологическим» [8. С. 263]. Путь к новой социальной онтологии пролегает не «от наивного объективизма к трансцендентальному субъективизму» и интерсубъективности с Другим (как у Гуссерля), но к интерпретации совместного мира с его alter ego как с анонимным не-индивидуальным типом. Так у Шюца вырисовывается тип Чужака (и производные от него Homecomer и Estranged Native), который выполняет особую функцию в социальной онтологии — в столкновении с ним «культурный образец группы» проявляется как естественная установка, создаваемая членами группы в Mitwelt’е. Эта «естественная объективность» культурного образца группы и есть социальное a priori, которое претерпевает радикальную (шюцевскую) редукцию — она становится возможной в столкновении образца с Чужаком. «Человек отвечает за содеянное; но, с другой стороны, он отвечает перед кем-то — перед человеком, группой или инстанцией, которая заставляет его отвечать» [15. С. 274].
Чужак против «культурного образца группы» — функционалистский итог
Чужак — это социологизированная ипостась Другого: (почти) все, что говорит Шюц об отношении Я к Другому, о возникновении интерсубъективности на основании этого диадического отношения, находит соответствие на групповом уровне — в отношении группы к Чужаку (и Чужака к группе). Определение Чужака у Шюца соединяет оба критерия — темпоральность и функциональность [15; 16]. Эта комбинация осуществляется в контексте шюцевской концепции «культурного образца социальной группы», в которой пребывает Чужак. Очевидно, что темпоральный критерий реализован в этом определении в полной мере (временной параметр неустраним и в пространственно-функциональной версии Зиммеля, когда он определяет Чужака как того, «кого не было изначально в группе», но исходный момент формирования группы не рассматривает [21]). Чужак — это «взрослый современник (Nebenmensch), принадлежащий к нашей цивилизации, который стремится быть постоянно принятым в группе» [15]; он отличается от приходящего визитера или гостя, от ребенка или дикаря, от представителя иной цивилизации, и это отличие делает его подобным членам «своей» группы.
Менее очевидна функционалистская составляющая этого определения в дальнейшей его интерпретации. Как происходит сближение Чужака с группой? Каким образом специфические свойства Чужака проявляются во взаимодействии с культурным образцом группы и оказываются функциональными в процессе его воспроизводства? Свой мир (Umwelt) предстает перед индивидом действующим, прежде всего, как область его непосредственных и потенциальных действий. Оставаясь в центре ситуации, действующий соотносит и оценивает все окружающие предметы (включая других действующих индивидов), ориентируясь на нужды своего непосредственного действия. А нужно ему лишь ограниченное релевантностью его действию знание об элементах окружающего мира. Такое знание не составляет целостную и понятную картину, оно неоднородно и не отличается последовательностью и согласованностью (как не согласованы цели и желания действующего, они во многом эмерджентны и меняются по ситуации) [17].
Главное (и достаточное) качество знания для действующего — его практическая пригодность для конкретной текущей (проблемной) ситуации, действующему не требуется исследовать это знание или как-то его верифицировать. По сути, оно представляет собой идеальный тип «культурного образца», который действующий получает от предков, учителей, властей предержащих и прочих авторитетных источников как руководство к действию, не нуждающееся в проверке и не подлежащее сомнению; оно принимается как само собой разумеющееся (если только действующий не испытал противоречащий «образцу» опыт). Этот образец Шюц называет знанием «рецептов» действия, основная функция которых — сохранять веру в фундаментальную неизменность повседневности с ее проблемными ситуациями, в то, что можно полагаться на прошлый опыт для решения настоящих и будущих проблем, что для их успешного решения достаточно обобщенного знания о типах событий и, наконец, что другие члены группы пользуются этими «рецептами». Время останавливается в этой неизменности образца, в надежной его повторяемости и воспроизводимости (функциональности). Для Чужака же культурный образец группы с его «рецептами» не дает достаточно надежной системы координат, чтобы действовать тем или иным образом в конкретной ситуации, действие по чужому образцу сопряжено с риском (в отличие от него, члены группы — «свои» — используют образцы интерпретации ситуаций зачастую нерефлексивно).
«Культурный образец» не является для членов группы предметом научения, он может быть сформирован лишь на практике, в процессе его применения в конкретных ситуациях на протяжение всей истории группы. Но Чужак не принадлежит этой истории, он может разделять с группой ее настоящее и будущее, но не прошлое. Биография Чужака не пересекается с историей формирования культурного образца и традицией его коллективного использования. Члены группы исключают Чужака из общего, разделяемого «своими», прошлого, он для них — человек без истории: по Зиммелю, «его не было в начале группы». Это означает, что Чужак в это время был в «начале» другой («своей») группы, практиковал другой культурный образец. Таким образом, у Чужака есть два культурных образца — «старый» и «новый», каждый из которых для него релятивизирован, не обладает свойством «естественности». Между этими образцами пролегает временной интервал, в течение которого происходит «очуждение» старого образца и актуализация нового. Как Чужак преодолевает его?
Преодоление Шюц подразделяет на несколько этапов: сначала Чужак превращается из постороннего наблюдателя в партнера, заинтересованного участника, который осваивает и использует «новый» образец. На этом этапе культурный образец принимающей группы перестает быть умозрительным предметом в фокусе его когнитивного внимания, а становится частью окружающего социального мира, которую он осваивает в действии, делает актуальной для себя. На следующем этапе, по мере применения нового образца, он входит в жизнь Чужака, заполняется его собственным опытом, приобретает биографическую историю, конкретизируется в уникальных ситуациях. Наконец, «интимизированный» и освоенный Чужаком (пусть не в совершенстве) культурный образец не совпадает с изначальным представлением об этом образце в прошлом. Суть этого различия состоит в том, что культурный образец обрел инструментальное качество — стал интерпретацией для взаимодействия, рассчитанной на ожидаемую реакцию, а не просто умозрительным знанием — интерпретацией ради интерпретации. Теперь он предполагает (как условие применения) интерактивную составляющую — реакции и ожидания членов группы, культурным образцом которой он является, в отношении действий Чужака [15].
Однако из этого следует парадоксальный вывод: освоение чужаком «нового» образца становится негативным опытом в отношении «старого», который утрачивает качество само собой разумеющегося знания. Культурный образец выступает для действующего как схема интерпретации ситуаций: для Чужака его прежняя «схема ориентации» непригодна в условиях новой группы, поскольку система координат одного культурного образца «не переводится» в ориентиры и координаты другого. Причина непереводимости двояка, прежде всего, она кроется в различии положения Чужака в прежней и новой группах. Если в своей изначальной группе Чужак (тогда еще «свой») имеет определенное место в структуре (и обладает определенностью в отношении своего культурного образца, находясь в центре окружающего его мира), то в новой группе он не обладает определенностью (статусом) и представляет для группы «неопределенность». Для освоения «нового» культурного образца Чужаку нужно время, образец не дается ему в целостном виде, он может «перевести» для себя лишь те фрагменты нового образца, которые доступны его пониманию с точки зрения «старого» образца. Выбор этих фрагментов продиктован инструментальностью — необходимостью для ориентации в конкретных ситуациях новой группы — и поиском соответствий в прежнем образце. При этом за пределами «перевода» остается ситуативный контекст применения содержащихся в образце правил, норм, интерпретаций, т.е. накопленный за всю историю группы опыт использования образца. Этот опыт закреплен временем и потому может служить гарантией контекстуального (не рефлексивного) использования образца как «рецептов» в той или иной ситуации. Контекстуальное использование своего культурного образца позволяет членам группы применять его «рецепты» как типизированные и анонимные, не проверяя образец каждый раз на соответствие специфическим особенностям ситуации — он принимается на веру, и эта вера разделяется членами «своей» группы. Так формируется общая «естественная установка» — для «своих» и созданная совместно «своими».
Иначе обстоит дело с «рецептами» для Чужака. Для него самый главный «ингредиент» — доверие — не работает: прежде всего, он должен заменить/компенсировать его отсутствие усилием по достижению уверенности в том, что предлагаемое в «рецепте» действие будет эффективным для обретения искомого результата. Дистанция по отношению к новому культурному образцу оборачивается дистанцированием по отношению к «своему», старому образцу уже на стадии внедрения в новую группу (наиболее явственно это проявляется в случае с «вернувшимся домой»). Но на стадии освоения нового культурного образца Чужак вынужден видеть в нем непоследовательности и неясности, а овладение образцом не означает, что Чужак становится его «субстратом». Знание Чужаком «рецептов» культурного образца иное — он должен знать не только как действовать, но и почему именно так, а не иначе. Исходя из этого, и партнеры Чужака по ситуации не являются для него «типичными», «обобщенными другими», а каждый раз выступают как особые и уникальные индивиды, и эту уникальность и характерные черты Чужак склонен приписывать всей группе. Таким образом, освоенный новый культурный образец очерчивает для Чужака и новый «всевдо-свой» мир — мир «псевдо-анонимности», «псевдо-типичности» и «псевдо-интимности». Неопределенность, чувство неуверенности и опасности сопровождают Чужака в таком мире: освоив культурный образец новой группы, он не приобретает (еще один) «защитный кокон», но вторгается в область приключений и исследований, а получая (еще один) инструмент для разрешения проблемных ситуаций, получает и еще одну проблему.
Шюц (подобно Зиммелю) считает «объективность» Чужака в группе одним из его особенных свойств [15; 21]. Эту объективность нельзя отождествлять с незаинтересованностью или тотальной критической установкой, основанной на постоянном сравнении новой группы со своей прежней («родной») и ее культурными нормами. Это, скорее, объективность исследователя, который испытывает интерес к вещам, не вызывающим такового у других членов группы; это не просто способность, но необходимость проблематизировать то, что для других остается «само собой разумеющимся» и «очевидным» (механизм естественной установки). Необходимость проблематизировать продиктована потребностью в полном и детализированном знании о новом культурном образце (хотя пределы «полноты» Чужаку не известны, а для «своих» непроблематичны и нерефлексируемы). Неспособность Чужака полностью вписаться в рутину, в отлаженное и размеренное практикование культурного образца, неспособность полностью отождествить себя с этим образцом и есть основание его объективности. Эта неспособность обретает необратимый характер — став однажды Чужаком, индивид уже не может отождествить себя с культурным образцом никакой группы, включая свою.
Испытав однажды «негативный опыт» неадекватности «само-собой-разумеющегося» знания, заложенного в его прежнем культурном образце, и непригодности когда-то не вызывавших сомнения «рецептов», Чужак уже не способен воспринять какой бы то ни было образец безоговорочно и всецело, а всегда сохраняет дистанцию. Обладая такого рода «объективностью», Чужак может проявлять лишь сомнительную, условную приверженность новой группе: для него не может быть «естественным» или «самым лучшим» ни новый образец группы, в которой он пребывает, ни свой прежний образец. Его самоидентификация (и даже самоощущение, психология, поведение и пр.) оказывается не полностью «зажатой», а «мечущейся» меж двух (и более) культурных образцов. Темпоральный социологизм Шюца помещает любое проявление социального не просто в интерсубъективное пространство, но в континуум изменений этого пространства.
Рутинизация становится для Шюца главным результатом пребывания (длительного сосуществования) Чужака в этом континууме: группа «осваивает» его (делает «своим»), а он не перестает исследовать и испытывать ее культурный образец — этот процесс становится для него привычным, рутинным. С обеих сторон (и Чужака, и группы) процесс рутинизации имеет темпорально-функциональный характер. Время (в данном случае длительность и непрерывность освоения культурного образца), которое выступает основным фактором различения «своего» и «чужака», выявляет (делает явственным) социальное качество группы, то большее, что превосходит простую сумму индивидов [1; 6] и в присутствии «чужака» перестает быть само собой разумеющимся.
«Вернувшийся домой» как «свой чужак» и как «сам себе чужак»
Еще более парадоксально проявляются изменения темпорального континуума, когда он оказывается повернут вспять или когда в нем обозначаются разрывы: Шюц прослеживает этот феномен на примере социального типа Homecomer (вернувшийся домой или «к себе») [16]. Здесь темпоральный социологизм еще больше «уплотняется», устраняется пространство между Я (Чужаком) и группой (новым культурным образцом), и остается лишь замкнутый «примордиальный мир» самого Я. Homecomer — это ветеран, вернувшийся с войны, путешественник, эмигрант, «блудный сын», т.е. тот, кто вернулся к себе, домой и навсегда (в отличие от Чужака, который может прийти сегодня и уйти завтра, и потому в группе он — не у себя дома, а в области неопределенности, где еще предстоит осваиваться). Вписанный в рутину культурного образца своей группы Homecomer (назовем его Странником), в отличие от Чужака, имеет в ней членство и статус, он «свой», а потому находится в непосредственном «мы-отношении» с группой. Такое отношение предполагает как «близость» (физическое соприсутствие, общность пространства-времени), так и «интимность» (сродство на ментальном, эмоциональном и когнитивном уровнях), которая в той или иной степени свойственна соприсутствию. Близость и интимность обеспечивают отношениям «своих» повторяемость, непрерывность, возобновляемость в случае их прерывания (такого рода отношения характерны для первичной группы, основные признаки которой были обозначены Ч.Х. Кули и сводились к определению близости по двум параметрам — физическая близость, пространственно-временное соприсутствие, и ментальная, духовная интимность [7]).
Странник возвращается домой, в «свою» группу, которая служит началом координат, упорядочивающих для нас мир. «Дом» обеспечивает, во-первых, общность для членов группы пространства-времени и рутинизацию ее культурного образца; во-вторых, интимное восприятие членами группы друг друга — как уникальной констелляции в живом настоящем, как части своей жизни; в-третьих, каждый член группы рассчитывает (не безосновательно) на шанс возобновления прерванных непосредственных отношений в будущем (не важно сколь отдаленном) как «само собой разумеющийся». «Будучи рождены в социокультурном мире, мы находим в нем свои привязанности и должны примириться с ним. Этот мир нам пред-дан, и мы принимаем его безоговорочно, как само собой разумеющийся» [16. С. 145].
Эти свойства «дома» изменяются для того, кто его покинул, вышел за пределы рутины культурного образца. Наибольшие изменения претерпевает третья характеристика «дома» — у Странника она не срабатывает, его шанс возобновить отношения с группой так, как будто они не прерывались, становится проблематичным, потому что между культурными образцами групп нет зазоров и пустот, и за пределами своей группы Странник неизбежно оказывается в другой системе координат. Будучи вынужден осваивать (как Чужак) другой культурный образец, он не может переживать «мы-отношение», вернувшись в «свою» группу, как уникальное и единственно возможное. По возвращении непосредственное, само-собой-разумеющееся со-переживание (если бы осуществлялся шанс на его рутинное возобновление) замещается у Странника» воспоминаниями, которые фиксируют состояние «мы-отношения» на тот момент, когда он покинул «дом». «Свой» культурный образец, соотнесенный со «своей группой» и «мы-отношением» в ней, вытесняется в прошлое, становится типизированным.
Что мешает возобновлению непосредственного отношения так, будто разлуки и не было? Теперь между Странником и членами группы появляется не разделенная ими часть групповой жизни, не пережитая в непосредственном «мы-отношении» — часть групповой жизни, которую Странник разделял с «чужими» (поэтому он уже «не такой, как все мы», а они для него — «не такие, как я»). Следствием является изменение степени интимности отношений между Странником и членами его группы, т.е. достоверность и надежность их знаний друг о друге подвергаются сомнению, образуется область абстрактности, неопределенности. Дело не только в переменах, постигших Странника, соприкоснувшегося с культурным образцом другой группы, но и в изменениях «своей» для него группы, «дома». С течением времени (в том числе времени отсутствия Странника) группа рутинно адаптируется к происходящим событиям в окружении и внутри нее самой, изменяясь, но оставаясь единым целым. Для вернувшегося домой Странника эти изменения выпадают из рутины, группа выступает в дискретных состояниях/ситуациях «теперь» и «прежде» — как две разных группы. И группа соотносит Странника со стереотипом той ситуации, в которой он побывал, не фокусируясь на уникальности деталей и переживаний, и сам Странник представляет себе жизнь группы в его отсутствие, соотносясь со стереотипом группы (такой, какой он ее знал, или такой, какой бывает любая группа в соответствующей ситуации).
Таким образом, возвращаясь домой, Странник испытывает двойной шок: несоответствие своего прежнего представления о группе и ее культурном образце нынешнему (изменившемуся за время его отсутствия) и неадекватность (стереотипизированность) представлений группы о своем прошлом опыте, пережитом за пределами «дома». Хотя, как пишет Шюц, эмоционально этот шок может и не доминировать в отношениях Странника с группой, но абсолютно точное возвращение к прежним отношениям недостижимо в силу «необратимости внутреннего времени». Возвратившийся домой становится «остраненным своим», что очень близко к понятию «очужденный свой» (Estranged Native) [16], но имеет существенное отличие. «Очужденный свой» — тот, кто стал чужим и странным для своих и для себя самого, никуда не отдаляясь ни в пространстве, ни во времени: оставаясь в пределах групповой рутины с ее изменениями, он воплощает в себе эти изменения в образце самоидентификации группы, которая более не рассматривает его как «своего». «Очужденный», он вынужден сравнивать себя прежнего с собой нынешним, себя в стереотипизированном представлении других и себя как обладателя непереводимого более в культурный образец своей группы опыта.
Функционалистские коннотации никуда не уходят в шютцевской трактовке Чужака/Странника, но дополняются темпоральной перспективой: если у Зиммеля Чужак исполнял основную функцию в принимающей группе, обозначая ее культурные границы, то шютцевский Чужак/Странник отмечает даже самые малозаметные изменения в жизни группы, фиксирует ее жизненный ритм, постоянно сравнивая теперь и прежде.
Итак, поиски прочных оснований в описании социальной онтологии, попытки преодолеть «нереалистическое предубеждение о том, что наше знание мира есть наше частное дело, и что, следовательно, мир, в котором мы живем — это наш частный мир» [18. С. 134], порождают феномен Чужака. Он и сопутствующие типы несут в теоретических построениях Шюца помимо онтологической методологическую нагрузку — служат инструментом анализа (главным образом темпорального) и преодоления естественной установки. Феноменологический социологизм Шюца (в отличие от социологизма Дюркгейма) примечателен тем, что совмещает индивидуалистическую методологию (веберианские истоки шюцевской теории) и онтологию интерсубъективности (в отличной от гуссерлианской трактовке) в толковании социального. Выход к своего рода феноменологическому/темпоральному социологизму — определению социального через изменение во времени и сохранение идентичности — получил свое развитие в последующей феноменологической традиции (например, рикеровское различение «тождественности» и «самости» очевидным образом отсылает к темпорально-функционалистскому социологизму Шюца [14]). Можно сказать, что шюцевский темпоральный социологизм противостоит эгологизму Гуссерля в том смысле, что редукция естественной установки социального a priori (культурного образца группы) и достижение трансцендентального Ego невозможна без столкновения с Чужаком, выявляющим границы этого образца. Радикальная редукция/релятивизация «своего» в себе самом, достигаемая в опыте темпорального перерыва в участии в рутинной жизни группы в опыте Странника, превращает человека в Чужака для себя самого, что позволяет обрести социальное основание в себе самом — так выстраивается темпоральный социологизм Шюца.
About the authors
S. P. Bankovskaya
National Research University Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: sbankovskaya@gmail.com
кандидат философских наук, профессор департамента социологии и ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
Myasnitskaya St., 11, Moscow, 101000, RussiaReferences
- Bankovskaya S. Chuzhaki i granitsy: k ponyatiyu socialnoy marginalnosti [Strangers and borders: On the notion of social marginality]. Otechestvennye Zapiski. 2002; 6 (In Russ.)
- Bankovskaya, S. Drugoy kak elementarnoe ponyatie sotsialnoy ontologii [The Other as a basic concept of social ontology]. Russian Sociological Review. 2007; 6 (1) (In Russ.).
- Buber M. Ya i Ty [I and Thou]. Dva obraza very. Moscow; 1999 (In Russ.).
- Husserl E. Kartezianskie razmyshleniya [Cartesian Meditations]. Per. s nem. D.V. Sklyadnev. Saint Petersburg; 1998 (In Russ.).
- Schuetz A. Teoriya intersubyektivnosti Schelera i vseobshchy tezis alter ego [Scheler’s theory of intersubjectivity and the general thesis of the alter ego). Izbrannoe: Mir, svetyashchiysya smyslom. Moscow; 2004 (In Russ.).
- Bankovskaya S. Living in-between: The uses of marginality in sociological theory. Russian Sociological Review. 2014; 13 (4).
- Cooley C.H. Social Organization. A Study of the Larger Mind. New York; 1910.
- Grathoff R. Philosophers in Exile: The Correspondence of Alfred Schutz and Aron Gurwitsch, 1939–1959. Bloomington; 1989.
- Gros A. Alfred Schutz as a critic of social ontological Robinsonades. Revisiting his objections to Husserl’s 5th Cartesian meditation. Civitas. 2017; 17 (3).
- Husserl E. Cartesianische Meditationen: eine Einleitung in die Phänomenologie. Hamburg; 1995.
- Park R.E. Human Migratiom and the Marginal Man. AJS. 1928; 33.
- Park R.E. Personality and cultural conflict. Publications of the American Sociological Society. 1931; 25.
- Park R.E. Introduction. Stonequist E.V. The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict. New York; 1937.
- Ricoeur P. Soi-même comme un autre. Paris; 1990.
- Schütz A. The Stranger. Collected Papers II: Studies in Social Theory. Ed. by A. Brodersen, Hague; 1962.
- Schütz A. The Homecomer. Collected Papers II: Studies in Social Theory. Ed. by A. Brodersen, Hague; 1962.
- Schütz A. Collected Papers I: The Problem of Social Reality. Hague; 1962.
- Schütz A. Reflections on the Problem of Relevance. Yale University Press; 1970.
- Schütz A. Zur Kritik der Phänomenologie Edmund Husserl’s: Alfred Schütz Werkausgabe Band III. 1. Konstanz; 2009.
- Schütz A. Collected papers III: studies in phenomenological philosophy. The Hague: Martinus Nijhoff, 1970.
- Simmel G. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Herausgegeben von O. Rammstedt (Gesamtausgabe, Band 11). Frankfurt am Main; 2005.
- Simmel G. Philosophie des Geldes (Gesamtausgabe, Band 6). Frankfurt am Main; 1989.
Supplementary files