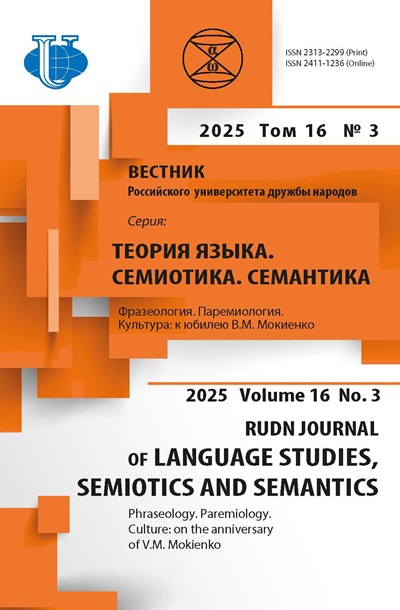Units of Cultural Code as an Exponent of the Author’s View of the World in M. Stepnova’s Novel “Surgeon”
- Authors: Seliverstova E.I.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Issue: Vol 15, No 3 (2024)
- Pages: 771-785
- Section: SEMIOTICS AND SEMANTICS
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/41812
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2024-15-3-771-785
- EDN: https://elibrary.ru/GUHEHS
- ID: 41812
Cite item
Full Text
Abstract
One of the topics relevant today regarding the peculiarities of the author’s discourse is the codes of culture, common to native speakers of the same language, but gaining originality in the artistic text. In the selection of units of language, their obvious thematic proximity and concentration, in their content, refracted by the writer’s vision, the originality of the word master is manifested. The novel «Surgeon» by M. Stepnova, one of the prominent writers of our time, has not yet been considered from the point of view of the peculiarities of understanding the vital subject area. The analysis of the novel is aimed at determining the functions performed in the text by units of gastronomic code, such as the names of dishes, drinks, products and their various characteristics. This allowed us to see that the use of edible nominations is one of the striking features of the writer’s style. The meal, as the author shows, occupies a significant place in the value system of the representatives of the older generation of the Khripunovs, and its features were most directly reflected in the formation of the personality and fate of their son - the main character of the story. The theme of food runs through the whole novel: it participates in showing the lifestyle and welfare of the characters, mentality and social position, the nature and motivation of actions, relationships between people, and meeting family members at a common table becomes a measure of the well-being of the family hearth. The author’s amazing skill manifests itself in showing both mouth-watering food and a food nightmare - fatty or sweet; these two vectors in the development of the gastronomic theme are the main ones in the novel, and it was gastronomy that influenced the choice of the main character of the life path. The sweet motif is most widely represented in the novel; it participates in the presentation of events, causal relationships and plot twists - the ostentatious concern of parents for their unloved son, the honey-unnatural manner of behavior and speech of the characters, the rejection of a woman because of her fundamentally different taste preferences, etc. Food code units are used both in direct meanings - when showing «non-conceptual» food, and take on an ideological, figurative and plot-forming function in the text of the novel.
Full Text
Введение
Изучение личностных художественных стилей, как отмечал акад. В.В. Виноградов, позволяет раскрыть «принципы эволюции языка художественной литературы в связи с эволюцией самой литературы» и иллюстрировать их действие [1. С. 97]. В этом смысле язык произведений нашей современницы Марины Степновой привлекает не только своим богатством — стилистическим разнообразием лексики, сочетанием выразительных приемов, неожиданностью словоупотреблений и их осмысления и т.д. Удивителен по силе своего проявления представленный в ее произведениях гастрономический культурный код — как в блестящем романе «Женщины Лазаря», так и в необычном романе «Хирург», ассоциируемом, по мысли Ю. Панибратовой, с «Пигмалионом» — идеей конструирования мужчиной «новой феминной архетипики» [2. С. 141] и превращения женщины в дьявола, несущего смерть.
Писатели, объективируя видимое и переживаемое через использование содержательных единиц языка, используют лингвокультурные коды как способы формирования и формулирования мысли, показа внешнего мира и характеристики внутреннего мира персонажей [3. С. 894]. Читатель, прочитывая текст, в том числе — отстоящий от него во времени достаточно далеко, во многом опирается при его интерпретации на знание культурных кодов [4. С. 710].
История вопроса
Лингвокультурный код понимается нами, вслед за В.И. Карасиком, как «система взаимосвязанных значений, отражающих специфическое, присущее определенному языковому сообществу исторически обусловленное понимание» [5. С. 4]. Через лингвокультурные коды происходит «осознание культуры», восприятие информации, закодированной в определенной форме и позволяющей культуру идентифицировать [6. С. 191]. Н.Н. Изотова видит в культурном коде ценностную матрицу, «входящую в структуру ментальности любой этнокультуры», инструмент соотнесения информации с определенными знаками (символами) [7. С. 8].
Лингвокультурные коды отмечены значительным разнообразием — среди них различают соматический, зооморфный, милитаристский, природно-ландшафтный, вещный и др. [8]. Знаки отдельных кодов культуры рассматриваются учеными как носители значимого содержания, «когнитивно релевантные сознанию современного носителя языка». Исходя из этой мысли, М.Л. Ковшова осуществляет детальный анализ пословиц, содержащих единицы костюмного кода — в том числе названия предметов обуви и головных уборов [9. С. 366].
В области изучения языка писателей исследователи обращаются к индивидуальным и частным схемам осмысления и языковой вербализации определенных предметных областей. Неслучайно в рассуждениях Е.В. Падучевой о структуре нарратива и экспансии лингвистики на области, «дотоле ей не подвластные», звучит мысль о перспективности «сопоставления интерпретаций одних и тех же элементов в естественном языке и в нарративе», что позволяет уточнить значения определенных элементов [10. С. 47].
Культурные коды принимают на себя прагматическую функцию, определяя в целом — через совокупность знаков материального и духовного свойства — «национальную картину мира и мировоззрение конкретного сообщества». В этом смысле важны авторские смыслы в художественном произведении, их воздействие на читателя [11. С. 235].
В.М. Савицкий, определяя лингвокультурный код как образную систему культуры, которая «получила воплощение в естественноязыковой субстанции», подчеркивает, что «в области духовного производства (выделено нами — Е.С.), транспонируясь из материальной формы бытия в идеальную, получая образную природу, в функции культурного кода может использоваться практически любая сенсорно воспринимаемая сфера реальности: космические объекты, природные феномены, животные, растения, человеческий организм, хозяйственная утварь <…> и др. [12. С. 119].
Проблема кодирования и декодирования культурных смыслов в художественных произведениях становится все более актуальной. К ней обращаются для выявления способов использования авторами языковых единиц, вербализующих культурные коды и позволяющих эксплицировать различные смыслов в произведениях российских и зарубежных писателей [13–18] и др.
Значительное место среди иных кодов культуры занимает пищевой (гастрономический, кулинарный) код. Подтверждением его важности является разработка его в нескольких направлениях. Так, Е.В. Капелюшник описывает особенности фрагмента языковой картины мира, связанного с выражением представлений о мире «путем ассоциативно-образного уподобления продуктам питания, кулинарным блюдам, процессам приготовления и поглощения пищи», и выявляет сценарную структуру концептуальной сферы «Еда» [19]. Особую значимость приобретают процессы питания в контексте платоновского художественного мира. Они переплетаются «с насыщением духовным» и пересекаются с важными для романа «Чевенгур» оппозициями: природное — культурное, абстрактное — конкретное, духовное — материальное, жизнь — смерть и др. [20. С. 42].
Использование пищевого кода в художественной ткани романа М. Степновой «Женщины Лазаря» представляется особенно ощутимым и значимым: он перекликается с рядом иных культурных кодов — растительным, природным, мифологическим и др., что отражает особенности его функционирования в сфере художественного текста (см. подробнее в [21]).
Целью работы является выявление в тексте романа спектра функций, выполняемых единицами, вербализующими пищевой (гастрономический) код.
Материал и методы
Материал составляет текст романа М. Степновой «Хирург». При анализе материала используются общелингвистические методы наблюдения и описания, концептуального и дискурсивного анализа, прием интерпретации идейного и образного содержания текста.
Результаты исследования
В романе «Хирург» совокупности единиц, участвующих в реализации «словесной темы» (термин В.М. Жирмунского) — темы еды, питания, пищи, создают почти тактильно-вкусовую ощутимость. Если одной стороной в использовании слов, номинирующих продукты питания и относящихся к области вкусового и зрительно-вкусового восприятия, становится указание на содержание рациона и блюда меню персонажей как явления бытовой жизни персонажей, то вторым — куда более важным — является вовлечение автором подобной лексики в орбиту формирования образов героев и выражения отношения к ним, вербализации причин конфликтов между ними и различий в их ценностных системах.
Цель использования единиц гастрономического кода весьма далека в романе М. Степновой от чисто орнаментальной. Они не только включаются автором в описание процессов повседневного приема пищи, присутствующих так или иначе в жизни героев повествования, будь то гурманов или пренебрегающих разносолами и изысками. Эти единицы служат показателем материальной обеспеченности героев и их семей, занимаемого в социальной иерархии места, образа жизни и черт характера и т.д. Это весьма востребованный ход в художественном тексте — на ум с готовностью приходят строки В. Маяковского «ешь, ананасы, рябчиков жуй», булгаковские «судачки а-ля натюрель», «Стразбурга пирог нетленный» и «трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет» из романа «Евгений Онегин», «уха из разгневанного налима» в «Заячьем ремизе» Н.С. Лескова и многие другие описания трапез и застолий. Описания обедов и процессов приготовления еды встречаются у А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др., но, как пишут Е.В. Лыхина и Е.А. Селина, «в описании еды мало кто может сравниться с А.П. Чеховым», иронично и насмешливо показывавшим обывателей, у которых еда составляла образ жизни [22. С. 171].
В романе «Хирург» М. Степновой еда в различных ее проявлениях наделена целым спектром функций — от простых и ожидаемых до весьма сложных.
Во-первых, единицы гастрономического кода, представленные наименованиями продуктов и готовых блюд, участвуют в романе в описании повседневной жизни героев. Чай с рафинадом и загорелыми баранками — незатейливый «бизнес-ланч» акушерок роддома, где родился главный герой романа Аркадий Хрипунов. Традиционной у мусульман жирной бараниной и горячим чаем угощает мальчишку Хасана один из его наставников Наджим, советуя ему никогда не запивать баранину ледяной водой, от которой «скручивает кишки». В романе в целом много еды[1] — примитивно-простой и изысканной, повседневной и праздничной. Это и пустые пролетарские щи в заводской столовой, и свежий влажный сыр, «который до созревания натуго, как младенца, пеленали в соленое полотно» — ужин деревенских жителей горных районов, и завтрак в семье работяги в виде «вчерашних макарон по-флотски, вываленных в чугунную сковородку и сверх всякой меры залитых яйцами», и черный грузинский чай у бабки Хорьковой, охраняющей больничный парк, — в литровой эмалированной кружке, сопровождаемый «газетным фунтиком с окаменелыми сахарными подушечками».
Во-вторых, еда, а именно принятый в определенном социуме набор продуктов и ассортимент блюд, выступает в романе в функции характеристики материального состояния (желудевые пышки в голодном военном детстве) и социальной принадлежности персонажа и его семьи. В семье Хрипуновых «насыщались просто — без скатертей и излияний. Причем Хрипунов-старший по преимуществу не насыщался, а элементарно жрал — шумно и мерно двигая тяжелыми челюстями. <…> Вообще ели невозможную, тяжелую, неудобоваримую дрянь — какие-то мясные обрезки, плавающие в желтом жидком жиру, раскисшую от сала жареную картошку, залитые топленым маслом макароны — отъедались разом и за военное детство, и за великую голодуху сорок шестого года». С самими продуктами, как видим, коррелирует и способ их приготовления, намеренно подчеркиваемый автором как малоприемлемый (слишком много жирного), если говорить о рационе обычного человека.
В-третьих, семейные трапезы, вызывающие у маленького Хрипунова чувство мистического ужаса, становятся в романе сюжетообразующим средством — они включаются в круг ситуаций, усиливающих отчуждение родителей — в первую очередь отца — и сына. Во-первых, различным является отношение к еде и поведению за столом у Хрипуновых — старшего и младшего. «За несанкционированные звуки (когда я ем — я глух и нем!) Хрипунову полагался звучный лещ. <…> За раскрошенный (испоганенный) хлеб или тайно выловленные из молока пенки можно было схлопотать от верховного жреца и полноценную порку» — подобные детали указывают на то, что «противостояние» за столом участвует, как и многое другое, в увеличении дистанции в отношениях между отцом и сыном. Как мы узнаем, Хрипунов сыном «почему-то откровенно и неприкрыто брезговал, как брезгуют мышами или, скажем, тараканами», не говоря уже ни о какой любви. И мы узнаем позже, что ставший взрослым Хрипунов «никогда не хамил и никогда не напивался, хотя бы потому, что был сыном хама и алкоголика».
Однако если «церемониальные условности» семейного ужина Хрипуновых можно было вынести и даже «преодолеть, заглотнуть, зажмурившись и не жуя, — и вареный лук, и пенки, и куриную пупырчатую кожу», то десерт был для ребенка «неминуемым и чудовищным, как конец света». Каждый раз он содрогался, предчувствуя приближение, по словам матери, «сладкого баловства», а на самом деле — кошмарного белого эмалированного тазика, чуть не до краев наполненного «полураздавленными эклерами, обломками бисквитов, наполеонов, трубочек, корзиночек и прочих кулинарных шедевров». Даже на фоне феремовских одноообразия и скудости ассортимента сладостей — там «сроду не видели в продаже ни одного живого пирожного, питая небогатые мозги и небалованные души исключительно соевыми батончиками да развесными леденцами» — это изобилие было для мальчика му́кой, поскольку «сверху весь этот пирожный лом был украшен массивными котяхами крема — масляного, белкового, заварного, всякого — и посыпан шоколадной крошкой».
Каждодневная вынужденная борьба за опустошение малоэстетичного жирного тазика навсегда отвратила Хрипунова-младшего от способности когда-либо в будущем есть сладкое, отказ от которого стал для него проявлением свободы. Да и в целом его рацион благополучного и преуспевающего хирурга стал принципиально иным — к примеру, «легкий салатик (пара зеленых листьев, лимонный сок, ни грамма масла) и кусок клетчатой от гриля золотистой рыбы». Еда детства становится, по сути, одним из тех кошмаров, которые западают в память героя навсегда и, пусть неосознанно, определяют манеру поведения, привычки и самооценку, характер отношения к людям, ви́дение своего назначения в жизни.
На этом фоне отрадным для ребенка было посещение булочной, где стоял «сдобный, толстый, розовый дух — такой плотный, что хоть мажь его сливочным маслом и ешь на завтрак, как калорийную булочку за девять копеек». И простой батон за тринадцать копеек, противопоставленный даровому кондитерскому «изобилию» семьи Хрипуновых, воспринимается совсем иначе — это «самая большая радость», он почти одушевлен и одухотворен: «согревающий ребра, теплый, доверчивый и толстый, как сонный щенок». Его «соблазнительно-беззащитный хлебный бок» ассоциируется с «сиюминутным хрустом смуглой корочки, которая с коротким горячим вздохом открывала нежное батонное нутро — белоснежное, пористое, слипающееся во рту в ароматный, липкий, кисловатый комок».
Образы еды — блюд и продуктов — участвуют в показе типичного образа жизни и сферы занятости людей. Так, не желая «солить огурцы и продавать косточковые», молодая хохлушка из анекдотичной Жмеринки, где обычно «жасминовыми вечерами к поездам дальнего следования выносят газетные кульки с вареной молодой картошкой и малосольными огурчиками, а раннюю черешню продают нанизанной на аккуратные веточки», закончив школу, «рванула в столицу нашей родины» и весьма преуспела, избегнув пугающей ее участи, — вышла замуж за видного осетинского профессора.
Отдельные виды продуктов, блюд и напитков достаточно часто появляются в зарисовках, показывающих жизнь хирурга Хрипунова и Анны — с лицом, сотворенным его руками, и улыбкой «сокрушительной убойной силы», производящей «невыносимый» эффект. Так, продававшая фрукты на набережной итальянка, которая, теряя сознание от увиденного [улыбки] и падая, «все продолжала сыпать Анне под ноги свою невероятную, чуть ли не с кулак, бело-розовую, всю в мелких родинках, безвкусную клубнику». Этот эпизод становится для Хрипунова предупреждением о возможной реакции людей на улыбающуюся Анну и тяжелых для них последствиях.
Ничего не понимая и не связывая мимолетную улыбку Анны с происходящим, расталкивает (!) пассажиров растерянная стюардесса с подносом, «сплошь уставленным стаканами с минералкой, соками и медленно умирающим шампанским».
Пережить чувство «непереносимого счастья» не под силу и пепельно-бледному официанту, молчавшему, «будто получил по лбу бетонной стеной», и даже не пытавшемуся исправить ситуацию с вываленным им на голову посетительнице-канадке сложным десертом из разноцветных шариков мороженого с «вафельными трубочками, блямбами взбитых сливок, свежей малиной, шоколадом».
В меньшей степени, но, тем не менее, единицы гастрономического кода участвуют и в показе жизни в крепости Аламут Хасана ибн Саббаха и его окружения. При этом ощущается чуткое внимание автора к этнографическим особенностям их жизни. Например, охранники иранской неприступной горной крепости Аламут вынуждены были спускаться изредка в долину за едой — «за пахучим, полупрозрачным, вяленым мясом, жестким, словно шея советского прапорщика, двадцать лет оттрубившего службу в солнечном Туркменистане, за тонкими пресными лепешками, созревшим сыром и кислым молоком, которое хранили в прохладных бурдюках».
Напитки — а их в романе довольно много (водка, чай, «общепитовский бурый кофе», «скверный капучино», минералка, сок, «медленно умирающее шампанское» и т.д.) — также служат яркими показателями привычек и вкусов героев, уровня жизни и финансовых возможностей. Здесь и портвешок злой дворовой хулиганской «урлы» в Феремове, довольно рано привитой приводами в милицию и чуть позже — «первыми ходками по малолетке», водка, которую в Феремове работяги-взрослые «жрут со страшной силой». Но если Хрипунов-старший употреблял водку, «беленькую», выпивая в обед на работе «поллитру», что не мешало ему ворочать ящики до конца смены, то герои более позднего времени и иного общественного положения располагают уже иными возможностями: «Арсен мог выставить из папиных ядерных погребов и невиданный джин, и заморский Smirnoff — кристальной, ангельской очистки, и даже кьянти в прохладных плетеных бутылках»). А вот хирург, потомок алкоголика Хрипунова, умершего от цирроза, тяги в спиртному вообще не испытывал — и это является знаковым. Скорее наоборот: его нет ни в меню ресторанных ужинов, ни в домашнем употреблении, разве что он отпаивал коньяком потрясенного Медоева.
На различающемся отношении к еде, системе образов, связанных с питанием, представленных продуктами, блюдами, напитками, основаны во многом конфликт между младшим Хрипуновым и его родителями, несоответствие мальчика Аркаши настроению и привычкам дворовой шпаны, да и, пожалуй, Феремова в целом.
Еда, а точнее и важнее в данном случае — сама трапеза, включающая те или иные блюда, — становится неким концептуальным фоном, на котором высвечивается в определенном ракурсе важная для автора ценность: семья и семейные отношения. Это, вероятно, в целом типично для Марины Степновой: еще в романе «Женщины Лазаря» трапезы за общим столом в добром и любящем доме Питоврановых и Чалдоновых показаны как символ завидного благополучия, приязни, понимания и взаимной любви членов семьи, в то время как скупленный Линдтом для молодой беременной жены — чуть не целиком — рынок благополучных советских времен (тепличные огурцы, яблоки, угреватые, пористые лимоны, мед, «торжественный, неторопливый, превративший банальную липкую литровую банку в мерцающую изнутри дворцовую светильню») не сделало более теплым холодное и брезгливое отношение Гали к своему нелюбимому супругу[2].
В романе «Хирург» нет места благополучной семье — и это тоже показано с использований номинаций продуктов и блюд. Простой, но уютный семейный очаг, когда все хорошо и покойно в доме, где из кухни «пахнет пирогом с капустой и картошкой-пюре (на молоке и на сливочном масле)», а мама читает книжку прикорнувшему рядом сонному детенышу, не сложился у хрипуновской мамы. У нее не случилось «наплыва животной любви к новорожденному детенышу» — вместо этого только неприязнь, немного любопытства и непонимание. Восприятие матерью своего ребенка показано с удивительной натуралистичностью. Она рассматривает сверток с младенцем с подозрительностью покупателя, имеющего уже опыт приобретения «подтухшего, бракованного» товара — «как будто стоя перед прилавком и выгадывая, хватит ли шмата желто-красной говядины, которую ловко вертит в руках равнодушный мясник, и на котлеты, и на щи, и не окажется ли приглядный шмат дома ловко сложенным куском старого жира и натруженных воловьих жил». Да и настоящее сближение с мужем происходит, лишь когда возникает угроза жизни единственному, пусть и нелюбимому, сыну.
В более чем обеспеченной семье Медоевых, где, казалось бы, ничто не мешало добрым отношениям орденоносного отца и сына, семейного очага также нет. Ставшего чужим отца, шестнадцатилетний сын Арсен, выросший без него, спокойно и тщательно стерев со щеки «умильное отцовское лобзанье», озадачил неожиданной и непростой просьбой — помочь ему поступить в МГИМО. Причем сделал это так буднично, «как будто просил передать ему солонку за семейным обедом, когда воскресенье и в мамину честь подают украинский борщ, расплавленный, раскаленный, несусветный, но все равно сваренный не мамой, и потому — не настоящий». Видимость семейного обеда очевидна: мамы давно нет в живых (она умерла при родах), а еду в осетинской семье важного профессора готовят скорее всего некие «ласковые, молчаливые женщины в темных низких платках», обитающие, по осетинской традиции, в дальних комнатах.
Нельзя не отметить особо определения, которыми автор щедро «сдабривает» упоминаемые блюда и продукты (пирожные — жирные, давленые, отвратительные; свежий, влажный сыр; мутный низкооктановый самогон; чай с хрупкими пожилыми баранками; сколько угодно баранины, обжигающей, перченой, пахучей» и т.д.), сравнительные обороты и метафоры — яркие и многогранные (соевые батончики да развесные леденцы, похожие на битое стекло, завернутое в блеклые бумажки; ягодные кисели — мутные, тепловатые, розовые, как сопли из разбитого носа», и т.д.).
Они нередко сопровождают использование единиц пищевого кода в портретных характеристиках героев: Хрипунова-старшего, у которого после нескольких дней бесконечного празднования рождения ребенка — пусть даже и не известного ему пока пола — «неузнаваемо толстое, глянцевое лицо, словно наполненное изнутри жидким желтым жиром и белесые, остановившиеся глаза человека, видевшего ад, но так и не поверившего в бога». Это и «сладкие, как пьяные вишни, глазки» будущей мадам Хрипуновой — «миловидной дурочки с игривыми ямками на сдобных плечах». Ее описание в целом вызывает аллюзии к образам съедобного: «Супруга образовалась практически сразу — подошла в перерыве сама, пухленькая, вкусно выпирающая из модного крепдешинового платья». И при первом знакомстве ее будущий муж обнаружил, что под платьем она «вся нежная, жирная, вздыхающая и живая, как округлый комок доспевшего дрожжевого теста, присыпанного сверху россыпью крошечных родинок — как будто тоненько молотой свежей корицей».
И приведенные выше цитаты, и многие иные выдержки иллюстрируют отмеченную нами удивительную широту спектра единиц пищевого кода, относящихся к мучным изделиям: это хлеб, лепешки, батон, рогалики — с «нежными, податливыми, аппетитными» сдобными витками. Автору и люди видятся сквозь призму съедобного. Всем этим толпам (включая старших Хрипуновых), не знающим иного смысла жизни, кроме поиска хлеба насущного, людям с нечеткими и, вероятно, похожими лицами, «наспех вылепленными из хлебного мякиша, и крошечным зародышем души, едва пульсирующим в области желудочно-кишечного тракта» — им не до любви и чувств отцовства и материнства: «что им было в этих абсолютно не эргономичных и утомительных исканиях и порывах?».
За счет использования близких образов проявляются не очевидные на первый взгляд, но постепенно проступающие связи — в частности, между матерью и сыном. У матери были очень странные глаза — «Не такие глаза должны быть у женщины, за спиной которой молчаливо толпились сотни поколений скучных тихих землепашцев, на скорую руку сляпанных из кислого теста и безнадежной золы». И мало в чем похожий на нее сын, лежа в больнице, часами смотрел «прямо перед собой, приоткрыв рот и отдыхая, так что даже лицо обмякало на больничной подушке — желтоватое, мягкое, как непропеченный блин из кислого теста. Выглядел он при этом настоящим клиническим идиотом и по-прежнему упорно ничего не говорил». Получается, что мама Хрипунова и он сам, фигурально говоря, «слеплены из одного теста» (вспомним и образ доспевшего дрожжевого теста, вызываемый появлением в романе матери Хрипунова).
Рассуждения о лицах совсем не случайны, ведь Хирург рвется к сотворению совершенного лика, виденного им во сне, он ТВОРЕЦ! «Хрипунов хотел стать Богом. Он вообще не имел права любить» — любовь в земном смысле, как показывает нам автор, совсем не для него. Это подтверждается и тем, как хирургом воспринимались плотские удовольствия — как-то физиологично, «вроде того, что получаешь от здоровенного куска белого теплого хлеба с толстой докторской колбасой. Первые пару минут приятно, нет слов, но доедаешь уже с определенным усилием» — никакой «лирической дрожи», даже здесь мы встречаем исключительно гастрономические ассоциации. Весь этот «шелковый ночной трепет для Хрипунова сводился к двум словам — мясная возня. Неприятны Хрипунову и поцелуи, вызывавшие в памяти «мамин белый тазик с пирожными. Царство давленых углеводов, податливое тесто, размазывающийся по языку скользкий приторный крем, бесконечные, длинные, рвотные содрогания».
Интересно, что и на путь будущего творца человеческих лиц, в салон к которому рвется пол-Москвы, он невольно сворачивает с пути обычного феремовского шпаненка, исторгнув на пустыре жирные «макароны по-флотски» с маминой сковороды — это было последнее из прозвучавших в тексте романа блюд семейного меню, оставивших по себе жуткую память во взрослом Хрипунове. Тем самым заканчивается гастрономический кошмар его детской жизни — далее продукты и блюда в жизни самого Хрипунова уже не содержат ни жирного (масло, сало, крем и т.д.), ни сладкого (сахар, пирожные).
Этим, в частности, определяется непонимание вкуса (в прямом и переносном смыслах) Анны и Медоева, приверженных сладкому. Его ужасает комбинация из шариков мороженого и вафельных трубочек — сложного десерта, заказанного по просьбе Анны, однако именно он сделал ее счастливой. Запретное сладкое, таким образом, позволило миру вокруг наполниться для Хрипунова «абсолютной, божественной, переливчатой гармонией» — тем, к чему он стремился.
Образ одного из персонажей романа — Медоева — акцентированно вербализуется за счет единиц «сладкого» кода. На создание приторно-сладкого образа направлено все: и его фамилия, и «сладчайший парфюм», и характеристика его сомнительного в пору студенчества бизнеса — он предоставлял девочек людям «на непоколебимых вершинах и высотах», и они лакомились «медовыми прелестями медовых медоевских красоток». От тошнотворности медоевского «липкого рахат-лукумного мира» у Хрипунова, вынужденного с ним общаться, начинали ныть зубы, как от сладостей, а людям нервным и непривычным становилось гадко, вплоть до рвотных спазмов — как «от плохо переваренной халвы и не считанных шоколадных конфет».
Конечно, в романе много и «не концептуальной» еды: тарелки с манной кашей; «варенье из райских яблочек, солнечных и прозрачных насквозь, как шары на рождественской елке»; размазываемое по небу сливовое повидло, с которым ассоциируется произнесение имени «Алина Анатольевна»; мед, молоко и вино в источниках мифического райского сада и т.д.). Образ какой-то похожей на гору застывшей каши преследует Хрипунова в повторяющемся кошмарном сне, в котором он видит Лицо, ставшее его наваждением на всю жизнь.
Пищевые ассоциации вплетаются и в «непищевой» контекст, участвуя, например, в формировании ценностной компоненты в трактовке показанного предмета: «Туфли — светло-коричневые. Нет, не светло-коричневые — цвета старого односолодового виски, в который добавили одну, всего одну каплю горячего молока. Замечательные туфли».
Интересны гастрономические ассоциации при описании внешности героев: водитель мебельного фургона — «немолодой мужик с простым картофельным лицом» — лицом, напоминающим картофелину, или же примитивным и распространенным, как картошка в качестве еды.
Выводы
Итак, подчеркнем еще раз удивительную широту и разнообразие в романе М. Степновой единиц пищевого кода. Они привлекаются автором в разных целях — передают вкусовые, колоративные, ольфакторные (обонятельные) ассоциации. Однако более важными они представляются как участвующие в развертывании и поддержании в тексте определенных мотивов, формировании актуальных смысловых полей. Как минимум два из них, названные нами как «жирное» и «сладкое», представлены значительным количеством вербальных проявлений и задают практически с начала повествования некий лексический и смысловой камертон. Жирный и сладкий мир детства отзывается в Хрипунове и его судьбе неоднократно, в том числе он определил самое важное — выбор профессии и самой важной для него роли Творца.
Таким образом, отношение героя на разных этапах его жизни к еде и восприятие окружающих его людей сквозь призму их гастрономических пристрастий, соотносимых с его собственными предпочтениями, становится своеобразным средством формирования его образа. Сквозь гастрономическую призму показаны как герои повествования, так и многие детали сюжета, место семьи и трапезы в системе ценностей отдельных персонажей и т.д.
1 Много яств, различных простых и сложных блюд, изысканной и самой простой еды и в другом романе М. Степновой — «Женщины Лазаря». Представленный там продуктовый ассортимент «весьма широк и способен охарактеризовать и эпоху изобилия и доступности еды, и голодный 1918 год, и времена эвакуации во время Отечественной войны» [21].
About the authors
Elena I. Seliverstova
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: e.seliverstova@spbu.ru
ORCID iD: 0000-0003-2020-0061
SPIN-code: 2032-2115
Dr. Sc. (Philology), Professor, Professor of the Russian Language Department for the Humanitarian and Natural Sciences Faculties
7-9, Universitetskaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation, 199034References
- Vinogradov, V.V. (1980). On the language of fiction. In: Selected works. Moscow. (In Russ.).
- Panibratova, Yu. (2022). The plot of creation in modern women’s literature (based on the novels by M. Stepnova «Surgeon» and O. Slavnikova «2017»). Philology and Culture, 3, 141–145. https://doi.org/10.26907/2074-0239-2022-69-3-141-145 (In Russ.).
- Durtseva, E.Yu. (2022). Cultural codes in the verbal text. Young scientist, 2, 894–897. (In Russ.).
- Myaksheva, O.V. (2023). Linguistic analysis of an artistic text as a key to its comprehension: cognitive-discursive aspect. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 14(3), 704–718. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2023-14-3-704-718 (In Russ.).
- Karasik, V.I. (2009). Concept as a unit of linguistic and cultural code. The Science Journal of Volgograd State University, 10(44), 4–11. (In Russ.).
- Efimenko, T.N. (2012). Interaction of linguistic and cultural codes in the process of intercultural communication. News of Higher Schools. Series “Humanities”, 3(3), 188–191. (In Russ.).
- Izotova, N.N. (2020). On the issue of reading the “cultural code” in linguoculturology. Journal “Culture and Civilization”, 10 (4A), 5–11. https://doi.org/10.34670/AR.2020.42.95.001 (In Russ.).
- Gudkov, D.B. & Kovshova, M.L. (2007). Body code of Russian culture: materials for the dictionary. Moscow: Gnosis. (In Russ.).
- Kovshova, M.L. (2019). Linguoculturological analysis of idioms, riddles, proverbs and sayings: Anthroponymic code of culture. Moscow: LENAND. (In Russ.).
- Paducheva, E.V. (1995). V.V. Vinogradov and the science of the language of fiction. The Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language, 54(3), 39– 48. (In Russ.).
- Kuznetsova, A.V. (2021). Pragmatics of cultural codes in an artistic text. Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics, 3, 233–242. https://doi.org/10.29025/2079-60212021-3-233-242 (In Russ.).
- Savitsky, V.M. (2023). Cultural and linguocultural codes. Flagship of science, 3(3), 117–124. https://doi.org/10.37539/2949-1991.2023.3.3.023 (In Russ.).
- Velilaeva, L.R. & Abdulzhemileva, F.I. (2021). Cultural code in fiction. The world of science, culture and education, 6(91), 527–529. (In Russ.).
- Duktova, L.G. (2023). Representation of cultural meanings when using national cultural codes in fiction. Litera, 12, 361–371. https://doi.org/10.25136/2409-8698.2023.12.43969. (In Russ.).
- Kuznetsova, A.V. (2022). Cultural code in the dynamics of the artistic image. World of the Russian Word, 4, 44–52. https://doi.org/10.24412/1811-1629-2022-4-44-52. (In Russ.).
- Ozerova, E.G. (2016). Cultural codes of lyricoprosaic text. Moscow: Editus. (In Russ.).
- Khudoley, N.V. (2014). Cultural literary code of the modern Russian reader. Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts, 29, 155–164. (In Russ.).
- Gorbunova, N.V. & Ushakova, O.M. (2015). Food codes in victorian and modernist novels (George Eliot, D.H. Lawrence). Perm University Herald. History, 4(32), 98–109. (In Russ.).
- Kapelyushnik, E.V. (2012). Culinary code of culture in the semantics of figurative means of language [dissertation]. Tomsk. (In Russ.).
- Rudakovskaya, E. (2001). “Satiety of the soul…” The theme of “food” in A. Platonov’s novel “Chevengur “. In: Text structure and semantics of language units, N.G. Babenko (Ed.). Kaliningrad: Publishing House of KSU. pp. 42–57. (In Russ.).
- Seliverstova, E.I. (2017). Milk and honey: The life and fate of Marina Stepnova’s heroes through the prism of edible. In: Language, culture, ethnos. Sat. articles: on the 65th anniversary of prof. Z.K. Derbysheva. Ser. “Conceptual and Linguistic Worlds,” 12. St. Petersburg. pp. 344–344. (In Russ.).
- Lykhina, E.V. & Selina, E.A. (2015). Russian cuisine in the literary and poetic fund (XVIIIXIX centuries). World Literature in the Context of Culture, 4(10), 166–177. (In Russ.).
Supplementary files