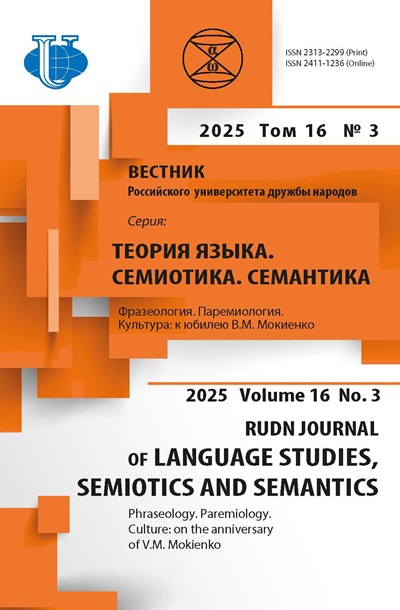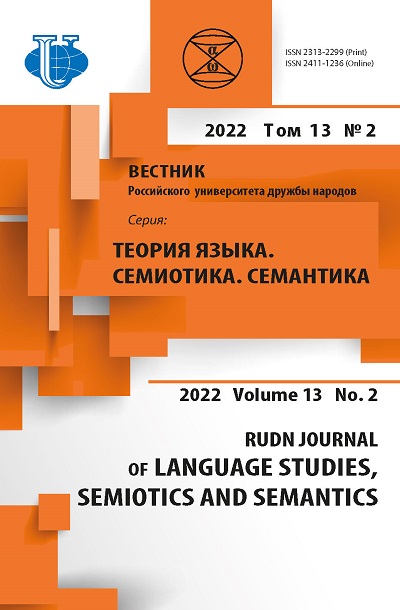Semantic Potential of the Word: by the Material of the Mythologem of the Holy Marriage of Heaven and Earth
- Authors: Vladimirova T.E.1
-
Affiliations:
- Peoples’ Friendship University of Russia
- Issue: Vol 13, No 2 (2022)
- Pages: 294-306
- Section: SEMIOTIC AND POETIC TEXT STUDIES
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/31518
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2022-13-2-294-306
- ID: 31518
Cite item
Full Text
Abstract
The study of the initial semantics of the word and its further development in the history of the language and its speakers, undoubtedly, belongs to the number of topical problems of modern semasiology. Of particular research interest is the disclosure of the historical and etymological origins of the word, which largely predetermine its further development. The focus of this article is the East Slavic mythologeme of the sacred marriage of Heaven-father and Earthmother, the semantics of which has absorbed the sacred mode of pagan existence and Christian value ideas. The material of the study was the myths and proverbs of closely related Belarusian, Rusyn, Russian and Ukrainian languages, which go back to the East Slavic mythologeme of the sacred marriage of Heaven-father and Earth-mother and preserve a common cultural and semantic memory. The undertaken consideration of this mythologeme against the background of the Greek myths about the “beginning of the world” made it possible to characterize its original historical, etymological, ethical and aesthetic features. As a result, an appeal to the history of the word from the standpoint of the concept of evolving consciousness G.G. Shpet led to the conclusion about the special role of cultural memory, which accumulates the accumulated experience of the existence of the word and thereby increases its semantic potential.
Keywords
Full Text
Введение
Становление антропологии, а позднее антропологический «поворот» гуманитарных наук переключили внимание исследователей на изучение «этно-национальных особенностей, социальных характеристик, историко-культурных истоков» языковой личности [1. С. 8]. Тем самым были созданы предпосылки для раскрытия того потенциала, который заложен в архетипической семантике слова-концепта. Следовательно, обращение к культурной памяти слова как источнику потенциальных «смысловых приращений» (В.В. Виноградов) позволяет проследить эволюцию начальной семантики базовых восточнославянских мифоконцептов.
Статья посвящена анализу восточнославянской мифологемы священного брака Неба-отца и Земли-матери на фоне греческих мифов с целью выявления ее этимологических, историко-культурных, этико-эстетических и собственно семантических особенностей. При этом мифологема понимается как «сюжетно-понятийная структура, которая имплицитно содержит в себе повествование о некотором событии, имеющем мифологические корреляты, эксплицированные лингвистически, графически, акционально или институционально» [2. С. 7].
Изучение данной мифологемы, с одной стороны, приблизит к пониманию культуры как деятельностного феномена, уходящего корнями в глубокую архаику. А с другой — позволит раскрыть заложенные в ней волевые интенции и тот семантический потенциал, который сформировался в данной лингвокультуре. Ведь «когниция вдвойне “интерактивна”: связана и с воспринимаемым миром, и с волей человека» [3. C. 20]. Это сделает возможным изучение становления, развития и, возможно, угасания начальной семантики слова и мифа.
При этом мы будем опираться на концепцию эволюции сознания Г.Г. Шпета, которая включает называющий (язык), религиозно-мифологический, художественно-героический, научно-технический, культурно-исторический и философско-культурный этапы[1]; в качестве материала в работе используются данные словарей [4–9] и собрания восточнославянских пословиц [10–13]. Энциклопедический словарь «Славянская мифология» под редакцией С.М. Толстой (2002) [4], Энциклопедический словарь «Мифы народов мира» под редакцией С.А. Токарева (1980–1982) [5], «Словарь индоевропейских социальных терминов» Э. Бенвениста (1970) [6], «Краткий этимологический словарь-тезаурус индоевропейских языков» М.М. Маковского (2014) [7], «Историко-этимологический словарь русского языка» П.Я. Черных (1993) [8], «Этимологический словарь современного русского языка» А.К. Шапошникова (2010) [9], а также собрания восточнославянских пословиц Дм. Попа (2011) [10], З.Ф. Санько (1991) [11], I.Я. Лепешаў, М.А. Якалцэвiч (2002) [12], В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной, Е.К. Николаевой (2010) [13] и др.
Мифологема брака Неба-отца и Земли-матери в Восточной Славии
Идея целостного единства Неба и Земли возникла на раннем этапе эволюции первобытной общности и восходит к эпохе индоевропейского единства. В славянском мировосприятии земля представлялась плоской или плавающей в воде, но дойти до ее края никому не удавалось. Небо же напоминало бычью шкуру, по которой перемещались солнце, луна и звезды [14. С. 169].
Что же касается мифов о «начале времен», то мы располагаем лишь христианизированной версией. Так, согласно русской и белорусской народно-поэтическим традициям, данное «первособытие» предстает как акт Божественного творения, когда Бог сначала создал себе небо, а потом землю. Примечательно, что у всех восточных славян есть поверье о том, что раньше небо было близко от земли и на него можно было подняться по радуге, но, когда люди согрешили, Бог отделил небо от земли и закрыл этот путь [4. C. 248–249]. При этом «Небу придан воздействующий, мужской тип, а Земле — воспринимающий, женский», — писал А.Н. Афанасьев, ссылаясь на пословицу Не Земля родит, а небо [15. С. 55].
Возникшие на этой основе архаичные обряды включали в себя призывы к Небу-отцу и Земле-матери: Ты, Небо-отец, ты, Земля-мать!; Небобатька, земля-матка!, которые дошли до нашего времени в составе заговоров и заклинаний [16]. Так в процессе своего бытования начальный миф о брачном союзе Земли, «производящей хлеб и лен», и Неба, «возбуждающего земные роды», был этически переосмыслен как свойственный и простым людям [15. С. 157]. При этом концепты «муж», «человек», «мужчина» ассоциировались с зерном и семенем, «жена» — с землей, готовой к посеву, а «семья» — с зернами одного семени [8. Т. 2. С. 154; 9. Т. 2. С. 314.]. В дальнейшем возникшие «понятийные мифы» (О.М. Фрейденберг) выполняли функцию идеальных прообразов, гармонизирующих мировосприятие и бытие.
Архаичные мифообразы сохранялись и после принятия христианства. В подтверждение приведем летописное свидетельство (1095 г.): Пакыже и землю глаголють матерью… Да аще им есть земля мати, то отец им есть небо (цит. по [17. С. 98]). Большой интерес вызывает и образ мира, созданный народной духовной поэзией, который связывает элементы природного мира «с членами антропоморфизированного Божества — как тела космического, порожденного телом Божественным: У нас белый свет взят от Господа, / Солнце красное от лица Божия, / Млад-светёл месяц от грудей Его, / Зори белыя от очей Божьих, / Звезды частыя — то от риз Его. / Ветры буйные от Свята Духа! [18. С. 66].
И здесь перед нами встает вопрос: что представлял собой начальный семантический потенциал мифологемы священного брака Неба-отца и Земли-матери?
В поисках ответа обратимся к называющему (Г.Г. Шпет) этапу эволюционирующего сознания и рассмотрим начальную семантику данных слов-концептов. Ведь «оязыковление — это результат культурной интерпретации самих фрагментов действительности с целью выразить свое отношение к ним — ценностное и эмоционально значимое» [19. С. 82].
Мифоконцепт «Небо-отец». Согласно древним преданиям, в начале мира не было неба, земли, ничего, лишь одна вода. В русской и белорусской народной традиции полагается, что Бог сначала сотворил себе небо, а украинская версия уточняет, что небо создано Богом в третий день творения для себя, ангелов и святых угодников, которые соответственно занимают высший, средний и низший ярусы [4. С. 249].
В мифоконцепте Неба-отца присутствует общеславянское *nebo, образованное от индоевр. *nebhos- ‘неблестящий, неясный; облако, облачное небо’ [9. С. 4]. «Древние славяне, — писал А.Д. Дуличенко, — видимо, не поклонялись солнцу (в отличие от некоторых древнеиранских племен) и не видели в нем главного божества» [14. С. 170].
Значительный интерес вызывает также лексема отец (*otьcь), в которой получили выражение архетипические представления. Здесь мы имеем в виду тот факт, что она восходит к обыденному индоевропейскому термину родства *ǎtta ‘принадлежащий к родовому классу мужчин-отцов’ [6. С. 147]. Поэтому в эпоху матриархата и полигамных отношений все старшие мужчины считались отцами и членами фратрии, которая носила имя первопредка-тотема.
Немаловажной представляется также следующая закономерность. «Первоначально члены рода употребляли термин otьcь как название ближайшего отца, который сам был в сущности ‘отцов’ (att-iko-s), т. е. происходил от старшего, общего отца» [20. С. 26]. Что же касается лексем тата, айцец (белор.), отиць, тато (русин.), отец, тятя, тата (русск.) и тато, отець (украин.), то они образованы от *otьcь (< индоевр. *ǎtta), за которым стоял Первопредок (< индоевр. культ *Hordʰu-) [5. Т. 2. С. 384]. А в номинациях бацька (белор.), батько (русин.), батя (русск.) и батько (украин.), возможно, восходящих к сакральному индоевропейскому термину *pəter, — архетип Старшего [9. Т. 1. С. 51].
Таким образом, почитание Старшего и культ Первопредка, который олицетворял вечное единение живых и умерших родичей, утверждали семейно-родовые и фратерниальные ценности, выполнявшие функцию смысложизненной доминанты бытия. (Подробнее о культе Первопредка см. в [21].)
Для мифологических картин мира характерно «обилие разных имен у одного и того же божества, накопившееся за время существования культа» [22. С. 356]. Возможно, данное замечание относится и к «небесному божеству» иранского происхождения «всеобъемлющему» Сварогу (санскрит. *svarga ‘ходячее небо’). Демиург-богатырь и праславянский мифический герой, отец Солнца-царя Дажьбога, Сварог выступает и как законодатель, который «устави единому мужю едину жену имети и жене за един мужъ посагати» (цит. по [22. С. 530, 532]). Так в период сильного скифского влияния (VI—IV вв. до н. э.) семантика мифоконцепта Небаотца активизировала в сознании сакральное представление о всевидящем и всесильном Небе.
Вероятно, этим объясняется и отсутствие лексемы отец в восточнославянских пословицах: Бог бачыць з неба, што каму трэба (белор.); У Бога всевидюче око (русин.); Бог правду видит, да не скоро скажет (русск.); Бог бачить з неба те, що потрібно (украин.) [10; 11]. В этой связи, заметим, что небом и миром в патриархальной среде при дружинном строе всегда управляет мужское божество, власть женского божества распространяется на землю, ее плодородие и природу, а супружеские отношения подчиняются закону Сварога о прочной семье [22. С. 358, 547].
Мифологема Земли-матери. В духовных стихах «Голубиной книги» говорится, что земля создана самим Богом «усяму свету на пропитаньня». А в белорусской фольклорной традиции земля сама возникает из крови Христовой-Господней. Широко распространена у всех восточных славян версия ныряния Бога или его помощника на дно морское за землей, которая потом увеличивается в размерах [4. С. 132–135].
В отличие от концептуализации отцовства на основе обыденного термина родства *ǎtta, номинации матери во всех индоевропейских языках образованы от сакральной номинации *māter (<—индоевр. *mad- ‘влага’ и *mā- ‘спелый’, ‘плод матери’) [7. С. 188], в которой получил выражение архетип Великой матери (Матери-земли). Ср: мацi, матка (белор); матерь, мати (русин.) мать, мама (русск.); матiр, мати (украин.).
Отнесем различение обыденного и сакрального языков к называющему этапу в эволюции сознания (Г.Г. Шпет). Однако, заимствуя индоевропейские первокорни, славяне не унаследовали разделения языка на обыденный и сакральный, способствуя тем самым целостному мировосприятию и более тесному взаимодействию. Как следствие, в мифопоэтической картине мира восточных славян утвердилось представление о целостном единстве Небаотца и Земли-матери. Более того, как отмечал О.Н. Трубачев: «Никаких оснований для постулирования примата мужского начала реконструкция системы родства не дает» [20. С. 230].
В этой связи примечательно, что, исследуя «сакральную природу Неба», известный этнограф и фольклорист М. Элиаде пришел к выводу, что Небесные боги «нигде не играют ведущей роли, напротив, постепенно отдаляются от человека и заменяются другими формами религии: культом предков, поклонением духам и богам природы, духам плодородия, великим богиням и т. д.» [23. С. 109].
Действительно, постепенно в русском народном самосознании произошло сближение Матери–сырой земли с Богородицей и женской долей, которых объединила «религия страдания»: Первая мать — Пресвятая Богородица, / Вторая мать — сыра земля, / Третья мать — кая скорбь приняла (цит. по [18. С. 78]). Более того, как писала Н.Д. Арутюнова в статье «Воля и свобода»: «Связь с природой и особенно с землей <…> устойчива. Поэтому и в цивилизационном обществе, как только поэт обращается к миру природы, он пользуется словом воля» [24. С. 89]. Далее автор приводит цитату из стихотворения А. Блока «Осенняя воля»: Не мани меня ты, воля, Не зови в поля! Пировать нам вместе, что ли, Матушка земля?».
Так, преодолевая хаос, который обычно подстерегал человека на земле, но мог быть послан и с неба, славяне обожествляли небо и землю, наделяя их соответственно мужской и женской природой. Неудивительно, что в восточнославянском ареале сложилась гармоничная мифологема священного брака Неба и Земли, которая утверждала самобытный социально-коммуникативный модус бытия, за которым стояли семейно-родовые и фратерниальные ценности. Постепенно установка на взаимодействие, взаимопонимание и достижение искомых взаимоотношений сформировала коллективистический тип культуры [25. С. 307]. В этой связи примечательна восточнославянская этико-эстетическая модель свадебного ритуала, в котором каравай символизировал целостное единство Неба-отца и Земли-неба (см. об этом в [26. С. 249–254]).
Греческие мифы о «начале мира». Стремясь раскрыть историко-культурное и этико-эстетическое своеобразие восточнославянской мифологемы брака Неба-отца и Земли-матери, рассмотрим ее через призму греческих космологических представлений. В отличие от восточнославянской народной традиции, греческие мифы хорошо сохранились благодаря письменным источникам, которые позволяют проследить развитие мифопоэтической картины мира и выявить ее характерные черты.
Согласно Гесиоду, «прежде всего во вселенной Хаос зародился», затем из «мирового яйца» появился Эрос как самовозникшее творческое начало, а от него, как от первопотенции, произошла Земля Гея. Гея же прежде всего родила себе равное ширью Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду / И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных [27. С. 24].
В Древней Греции во время элевсинских мистерий их участники говорили, обращаясь к небу: «Пролейся дождем», а обращаясь к земле: «Будь беременна». Согласно Плутарху, «люди приписали небу отправление должности отца, а земле — отправление обязанности матери. Небо было отцом потому, что оно посредством дождей изливало семя в недра земли, земля, воспринимая это семя, делалась плодородною и матерью» (цит. по [28. С. 197]).
Однако дети, рожденные от брака Геи-Земли и Урана-Неба, были уродливы, поэтому отец прятал их в недрах Земли. Уступив просьбам матери, Кронос, сын Геи и Урана, оскопил отца. Так власть перешла к Зевсу, «богу всех богов», который, вступая в брачные отношения, стал отцом богов, героев и людей. Примечательно, что античная этимология связывала имя Зевса с такими понятиями, как «жизнь», «кипение», «орошение», т. е. «с тем, через что всё существует». Ритуальное обращение к Зевсу Zɛύζ πáτέρ! (Zɛύζ < Διόζ) восходит к индоевр. *deiuo- ‘дневное сияющее небо’ и включает сакральный термин бога-отца πáτέρ [5. Т. 1. С. 463, 528].
Что же касается культа Геры, третьей законной супруги Зевса, то он отражал три состояния земли: весеннее цветение, летнюю зрелость и зимнее одиночество богини. Гера — защитница моногамных браков, поэтому она постоянно ссорится с Зевсом и преследует его незаконные связи. Но и она, чтобы отомстить супругу, сама рождает вне брака Гефеста, а увидев уродство сына, сбрасывает его с Олимпа.
В этой связи обращает на себя внимание также следующий факт. Греческий концепт «hieros gámos» ‘священный брак’ появился лишь к V веку до н. э. для «упорядочивания более сложных отношений, отраженных в мифе», поскольку «до этого были две различные супружеские пары: с одной стороны, Зевс и какая-то его супруга, с другой — некий бог и Гера» [6. С. 153]. В этом контексте заметим, что подобного рода мифы не характерны для восточных славян.
Вместе с тем этимологически древнерусское «брак» ‘бракосочетание’ (< *bher-: *bhor-: *bhr- ‘нести’) и его греческий аналог «γάμος» ‘вступать в брак’ (< *ǵame- ‘зять, жених, жениться’) имеют индоевропейские корни [8. Т. 1. С. 107, 109; 28. С. 263]. Однако формирование и развитие их семантики протекало в различной историко-культурной и этико-эстетической ситуации. В целом, семантика греческой мифологемы священного союза Неба и Земли отражала антропоцентрическое миропонимание и приоритетность личностного самоутверждения, волевого и деятельностного начала главы семейства, которые обусловили развитие индивидуалистического модуса бытия и типа культуры [25. С. 307].
Далее, чтобы расширить исследовательское поле предпринимаемого анализа, обратим внимание на общность мифа и пословицы. Так же, как и миф, пословица, с одной стороны, «содержит в себе строжайшую и определенную структуру и есть логически, т. е. прежде всего диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще». C другой, — представляет собой «живое субъект-объектное взаимообщение, содержащее в себе свою собственную, вне-научную, чисто мифическую же истинность, достоверность и принципиальную закономерность» [29. С. 24]. В этой связи отметим, что Аристотель в своих сочинениях нередко прибегал к паремиям и писал, что они являются «фрагментами древней мудрости, которые благодаря своей краткости и уместности сохранились среди всеобщей гибели и разрушения» (цит по [29. С. 32]).
Завершая рассмотрение античной мифологемы брака Неба и Земли, заметим, что мотив первых несовершенных людей есть в русинском мифе, соотносимом с художественно-героическим этапом в эволюции сознания (Г.Г. Шпет). Здесь мы имеем в виду дошедшее до нашего времени предание о богатыре-великане Святогоре, в котором Род, «верховное божество» (Б.А. Рыбаков) восточных славян, отправил в преисподнюю первых несовершенных людей. И сказау Рид-Вотэц Вэлэкий / Сватогорю крэпкому и тяжкому: Стань конём на Карпатэ, Прэтэснэ цэ крэтя горбатэ, Шоб нэ вэлиз твий Тато-Яма, А з нэм и Пэрва Мама [30]. И здесь возникает вопрос: чем объясняется отсутствие у других восточных славян мотива несовершенства первых людей?
В поисках ответа обратимся к трудам Н.И. Толстого, который писал, что восточнославянская культура изначально «вся была проникнута убежденностью ее носителей в постоянном присутствии и участии сверхъестественной силы во всех трудовых процессах» [31. С. 15], что исключало подобную форму их наказания. Кроме того, сакральный статус священного союза Небаотца и Земли-матери был дополнен в процессе христианизации Древней Руси Евангельскими представлениями о святости брака, которые легли в основу пословиц и крылатых слов: Что бог сочетал того человек да не разлучает; Добрая жена, что камень драгоценный; Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом растрясет и др. [32].
Однако переход эволюционирующего сознания на новый, — научно-технический этап (Г.Г. Шпет), — сопровождался семантической девальвацией слов, паремий и мифоконцептов. В качестве иллюстрации сошлемся на пословицы, восходящие к Евангельскому тексту и на их трансформации в эпоху секуляризированного сознания: Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Мф. 19.6) → Муж да жена — одна плоть; Муж и жена — одна душа; Муж и жена — два сапога: Муж с женой, что вода с мукой: взболтать взболтаешь, а разболтать не разболтаешь → Муж и жена — одна сатана; Жена да муж — змея да уж; Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь и др. [10; 11; 12; 33].
Национальная специфичность пословичного фонда рассматривается исследователями как «наиболее сложная его характеристика, которая основана на национально-языковом своеобразии и национально-культурной маркированности» [33. С. 1001]. Вместе с тем в восточнославянских паремиях отчетливо просматривается общность ценностно-смыслового акцента. В качестве иллюстрации приведем пословицы с тождественными или близкими лексико-грамматическими структурами, в которых получила выражение девальвация брака и семейных устоев:
- Жонка не рукавіца: з рукі не скінеш (белор.); Жона не рукавиця, з руки не стягнеш (русин.); Жена не рукавица: с руки не сбросишь (русск.); Жінка не рукавиця, з руки не стягнеш (украин.);
- Грошы кошт любяць, а жонка кухталі (белор.); Грõші дõбрі личині, а жона бита (русин.); Деньги счет любят, а жена тумаки (русск.); Копійка любить, щоб її рахували, а жінка — щоб її били (украин.) [10–13].
Вместе с тем за характерной для этих пословиц иронией скрывается искомый этико-этический образ брака и семьи. Ведь прошлое не исчезает, но, «фиксируясь в памяти культуры, оно получает постоянное, хотя и потенциальное бытие» [34. С. 245]. Так присутствующий в сознании рефлексивный, бытийный (экзистенциальный) и духовный опыт [35. С. 113] становится источником семантического потенциала слова, свидетельствуя о культурно-исторической и философско-культурной ступени в его эволюции.
Заключение
Подведем итоги. Предпринятое обращение к генезису восточнославянской мифологемы священного брака Неба-отца и Земли-матери на фоне греческих мифов позволило проследить ее развитие, опираясь на концепцию эволюционирующего сознания (Г.Г. Шпет). В результате анализ восточнославянской и греческой мифологем, включая стоящие за ними ментальные сущности, раскрыл некоторые историко-этимологические, лингвокультурные и этико-эстетические особенности, в которых получили выражение соответственно коллективистический и индивидуалистический типы культуры, в которых они сформировались.
Действительно, мифологема как одна из составляющих мифологической картины мира вбирает в себя ценностные представления, «обертоны смысла» (Б.А. Ларин) и коннотативные значения, характерные для развивающегося этносоциокультурного пространства. Поэтому накопленный языком опыт бытия и «память культуры» остаются надежными источниками в развитии семантического потенциала слова. Таким образом, архетипическая семантика слова и укорененные в сознании ценности и идеалы не только сохраняют целостность культуры и ее самобытность, но выступают как «определенный механизм порождения» (Б.А. Успенский), способствуя ее дальнейшему саморазвитию.
1 Архивные записи Г.Г. Шпета опубликованы в [4. С. 79–80].
About the authors
Tatyana E. Vladimirova
Peoples’ Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: yusvlad@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-2458-3653
Professor, DSc, Russian Language Institute
6, Miklukho-Maclay st., Moscow, Russian Federation, 117198References
- Karaulov, Yu.N. (1989). Russian language personality and the tasks of its study. In: Language and personality, D.N. Shmelev (ed.). Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Shishova, Yu.L. (2002). Linguistic objectification of the path mythologeme in modern Englishlanguage literature [dissertation]. St. Petersburg. (In Russ.).
- Demyankov, V.Z. (1994). Cognitive linguistics as a kind of interpretive approach. Topics in the study of language, 4, 17–33. (In Russ.).
- Tolstaya, S.M. (2002). Slavic mythology. Encyclopedic Dictionary. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.).
- Tokarev, S.A. (1980–1982). Myths of the peoples of the world. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. (In Russ.).
- Benvenist, E. (1970). Dictionary of Indo-European social terms. Moscow: Progress-Univers. (In Russ.).
- Makovsky, M.M. (2016). Small etymological dictionary of modern French. From the history of the formation of pan-Slavic unity. Moscow: LENAND. (In Russ.).
- Chernykh, P.Ya. (1993). Historical and etymological dictionary of the Russian language: in 2 volumes. Moscow: Russkiy yazyk. (in Russ).
- Shaposhnikov, A.K. (2010). Etymological Dictionary of the Modern Russian Language: in 2 vols. Moscow: Flinta: Nauka. (In Russ.).
- Pop, D. (2011). Russian-Ukrainian-Russian and Russian-Russian-Ukrainian phrasebooks. Uzhgorod. (In Russ.).
- San’ko, Z.F. (1991). A brief Russian-Belarusian dictionary of proverbs, sayings and phrases. Minsk: Navuka i tekhnika. (In Russ.).
- Lepeshaў, I.Ya. & Yakaltsevich, M.A. (2002). The elephant of the Belarusian prikazaks. Minsk: Belarusian science. (In Russ.).
- Mokienko, V.M., Nikitina, T.G., & Nikolaeva, E.K. (2010). Large dictionary of Russian proverbs. Moscow: OLMA. (in Russ.).
- Dulichenko, A.D. (2015). Introduction to Slavic Philology. Moscow: Flinta. (In Russ.).
- Afanasiev, A.N. (1982). The tree of life: Selected articles. Moscow: Sovremennik. (In Russ.).
- Anikin, V.P. (1998). Russian incantations and spells: Materials of folklore expeditions 1953– 1993. Moscow: Moscow State University Publ. (In Russ.).
- Komarovich, V.L. (1960). Cult of the Family and the Land in the Princely Environment of the 11th—12th Centuries. In: Proceedings of the Department of Old Russian Literature. Moscow– Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Publ. Vol. XVI. pp. 84–104. (In Russ.).
- Fedotov, G.P. (1991). Spiritual poems. Russian folk faith according to spiritual verses. Moscow: Progress, Gnosis. (In Russ.).
- Teliya, V.N. (1996). Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguoculturological aspects. Moscow: School “Languages of Russian culture”. (In Russ.).
- Trubachev, O.N. (2009). The history of the Slavic terms of kinship and some of the oldest terms of the social system. Moscow: KomKniga. (In Russ.).
- Vladimirova, T.E. (2017). Sacred code of Eurasian myths about the ancestor totem. Siberian Philological Journal, 3, 5–18. https://doi.org/10.17223/18137083/60/1
- Rybakov, B.A. (1981). Paganism of the ancient Slavs. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Eliade, M. (1999). Essays on Comparative Religion. In: Selected writings. Moscow: Ladomir. (In Russ.).
- Arutyunova, N.D. (2003). Will and freedom. In: Logical analysis of language. Cosmos and chaos: Conceptual fields of order and disorder. Moscow: Ingrik. pp. 73–99. (In Russ.).
- Grishina, E.A. (2011). Individualistic and collectivistic cultures. In: Psychology of communication. Encyclopedic Dictionary, A.A. Bodalev (Ed.). Moscow: Kogito-Centre. pp. 306–308. (In Russ.).
- Gura, A.V. (2011). Marriage and wedding in Slavic folk culture: semantics and symbolism. Moscow: Indrik. (In Russ.).
- Hesiod (2001). Complete texts. Moscow: Labyrinth. (In Russ.).
- Shakhnovich, M.I. (1968). Creation World Myths. Moscow: Znaniye. (In Russ.).
- Losev, A.F. (1991). Philosophy. mythology. Culture. Moscow: Publishing house of political literature. (In Russ.).
- Ivanov, Yu.V. Mythological parallels in the story of N.V. Gogol “Terrible Revenge” in the legends of the Rusyns of the North of Moldova. Golden Lion, 97–98. URL: http://www.zlev.ru/97_1.htm/ (accessed 15.12.2021). (In Russ.).
- Tolstoy, N.I. (1995). Language and folk culture. Essays on Slavic mythology and ethnolinguistics. Moscow. (In Russ.).
- Melnikov, V.G. (comp.) (2021). Eternal Truths. Winged words, proverbs, sayings of biblical origin. Moscow: Siberian chime. (In Russ.).
- Ivanov, E.E., Lomakina, O.V. & Petrushevskaya, Yu.A. (2021). The National Specificity of the Proverbial Fund: Basic Concepts and Procedure for Determining. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 12(4), 996–1035. https://doi.org/110.22363/2313-22992021-12-4-996-1035 (In Russ.).
- Uspensky, B.A. (1994). Semiotics of history. Semiotics of culture. In: Selected works. Vol. 1. Moscow: Gnosis. (In Russ.).
- Zinchenko, V.P. (2010). Consciousness as a creative act. Moscow: Yazyki slavyanskih kul’tur. (In Russ.).
Supplementary files