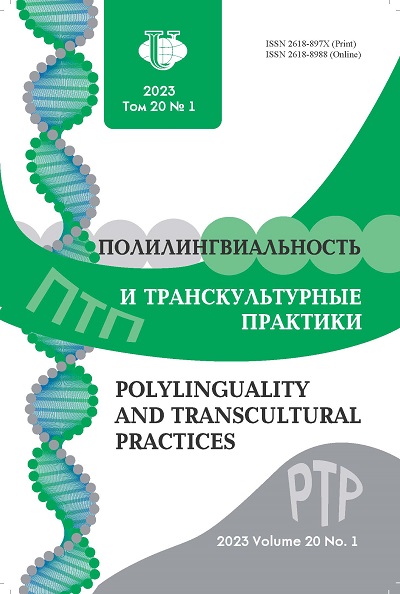Буквы, память, язык: о русской транскультурной литературе
- Авторы: Шафранская Э.Ф.1
-
Учреждения:
- Московский городской педагогический университет
- Выпуск: Том 20, № 1 (2023)
- Страницы: 55-65
- Раздел: Художественное измерение
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/34391
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2023-20-1-55-65
- EDN: https://elibrary.ru/WNOMWS
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Образ букв рассматривается как символ национальной исторической памяти — на примере повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки», где буквы выступают не только в своем прямом значении, они — антитеза навязанной культуре, языку, историческим интерпретациям. В статье обосновывается правомерность употребления термина «транскультурная литература» взамен распространенного и алогичного «русскоязычная литература», так как в этом виде творчества первостепенно изображение иной этнической картины мира, иных национальных образов мира. Аналитика романа «Руки-реки» современной писательницы Лианы Шахвердян представлена именно в этом ключе — транскультурной литературы: в романе выделены узловые темы и проблемы, связанные с восстановлением памяти семейного рода и армянского народа, подвергшегося, как и миллионы советских граждан, сталинским репрессиям. Развернута метафора ковроткаческой культуры «ковер», образы местной фауны — «птицы» и «змеи», ставшие ключевыми в сюжете романа «Руки-реки». Роман Лианы Шахвердян, основанный на архивных документах, восполняет утраченную страницу истории ХХ века, тем самым вписывается в актуальный вектор современного литературного процесса — архивный.
Полный текст
Введение В мировой словесности за буквами (деталью и образом) давно закреплена символика основ культуры. В повести-притче «Глиняные буквы, плывущие яблоки» Сухбата Афлатуни читателю предлагается не только раскодировать эпитет глиняные из заглавия, но и саму интенцию букв как детали, символа, концепта. Помещенные в контекст русского текста, повествование которого ведется от лица рассказчика, странно говорящего по-русски, буквы в этой повести - многогранная деталь, с новыми смыслами. Персонажи повести, жители села, знают буквы: они учат наизусть хрестоматийные тексты русской классики, ведут записи (рассказчик), делают надписи в различных учреждениях - казалось бы, отношения с буквами у них вполне адекватные. Однако в село пришел Новый Учитель с намерениями, отличными от тех, которыми руководствуется Старый Учитель, - к нему все привыкли: к его цитатам из Лермонтова, к его палке, мотиватору обучения, к его панегирикам в адрес русской литературы. Новый Учитель спокойно, без пафоса ищет вместе с учениками буквы древнего алфавита: Алейг, Яхиль, Сардош, Марафлион, Вараам… Юрудж, Шафхор, Барфаид, Осс, Кижжир, Юприхам, Форфур… Хукут, Ёриол, Катахтам[29]. (Это не существующий в реальности алфавит, он «реален» в контексте сюжета повести.) Найденные буквы символизируют не только собственно забытый алфавит, обретение куда шире: с их помощью будет найдена сама история этого народа, его культура, замененная на рубеже последних веков «русскоязычием» во всех нишах существования, которое привело к стагнации и эсхатологическому финалу. Время остановилось (см. об этом: [1]). Люди не стали манкуртами, но они учили другую историю, постигали чужие ценности, равнялись на непонятные им ориентиры. В рассказе-сказке «Ташкентский Голем» этого же автора стагнирующая, находящаяся в летаргии земля просыпается от двухвековой спячки - посредством Голема: Это месть, месть этой земли. Месть нам, приехавшим сюда, со своими лозунгами, заводами и трамваями. С гордостью, которая лезет из нас, как вакса из тюбика. А что делает в таких случаях земля? Поднатужится и рождает богатыря. Здесь древняя, умная и по-своему хитрая земля. И вот нам результат. Не богатырь, а голем. Гулям[30]. Эта преамбула важна для рассуждения об особом корпусе литературных текстов - как их называть: русскоязычными или транскультурными; о проблемах, которые в них поднимаются; об исторической памяти, обращение к ней содержится во множестве транскультурных текстов, природа которых зиждется на билингвальности и поликультурности, и потому острой проблеме самоидентификации и поисках своих корней. Обсуждение В отечественном литературном процессе второй половины ХХ века появились писатели, которых упорно стали называть русскоязычными. Термин неудачный, нелогичный (как будто русский писатель не русскоязычный), однако прижился и до сей поры активно употребляется в литературоведческом дискурсе. Картина мира таких «русскоязычных» авторов была сформирована вне зоны русской культуры, с детства они говорили на своих родных языках, не на русском. Однако социокультурный бэкграунд подвиг их к освоению русского языка, который стал языком их литературного творчества. Об исторических процессах, приведших к рождению такого «русскоязычного» творчества, пишут многие исследователи, в частности, У.М. Бахтикиреева (с соавторами) [2-4], собственно, этой исследовательнице и ее ученикам принадлежит более адекватный термин, взамен «русскоязычной» литературы, - транслингвальная, или транскультурная. Писатели нового поколения из бывших советских республик (конец ХХ и начало XXI века), чье творчество складывается в несколько иной культурной и языковой ситуации, по инерции могли бы называться «русскоязычными», но таковыми не являются. Часто характеристика «русскоязычные» сопровождается довеском «так называемые» [3. С. 15]. Это русские авторы (родной язык для них - русский). Таким образом, термин «русскоязычные» к сегодняшнему дню и в применении к писателям нерусского происхождения теряет свою историческую значимость. (Однако, к сожалению, многие исследователи упорно продолжают использовать этот термин не по назначению.) Русское транскультурное творчество играет в литературном процессе роль посредника между двумя культурами. Его авторы - составляющая литературного процесса ХХ-XXI веков, они - трансляторы культур: понимая обе, доводят до реципиентов инокультуры наиболее значимое в своей культуре и отличное от русской. Анализируя подобную ситуацию в творчестве Хамида Исмайлова, литературовед Г.Т. Гарипова пишет, что литератор, как человек рассказывающий, одновременно способен обрести систему любого национального миробытия и сохранить свое, приобретенное рождением, национальное самосознание, свою картину мира, которую средствами любой языковой эстетики воссоздает в художественном тексте. Так воплощается, по словам Гариповой, идея синтеза «наций, языков, культур, творческих методов и стилей» [5. С. 77]. В конце существования советской империи многие писатели поспешили отмежеваться от русской литературы, «встроив» себя в нишу какой-либо национальной литературы. Но языком их творчества по-прежнему является русский. Это больше говорит не о писателях, а о русском языке: он вне границ; никакое государство не вправе считать его своей собственностью, язык безграничен, он в моральном и этическом плане выше политики, деяний и чаяний чиновников; язык - некая субъектность, находящаяся на высшей ступени условной гуманистической шкалы. Так, по-русски пишет стихи и прозу Лиана Шахвердян, тбилисская армянка, которая после ряда опубликованных сборников в Ереване активно вошла в российский мейнстрим публикациями в журналах «Дружба народов» (рассказ «Белое платье» - 2017, № 7; роман «Руки-реки» - 2021, № 9) и «Нева» (стихи - 2020, № 3). Что заставляет этого автора писать по-русски? С одной стороны, это ее частная судьба и личное дело, с другой - она (и ее предки), как и миллионы людей, наследница бремени империи (сначала Российской империи, затем СССР), и еще не один век эти процессы не будут соответствовать месту проживания и этнической графе. Прошло совсем мало времени: постсоветские процессы пока находятся в агонии, до их угасания в тумане времени еще очень далеко. Однако это и радует, подтверждая высказанную мысль: язык - вне границ и чиновничьих циркуляров, он сам себе господин и хозяин. По поводу выбора писателем языка творчества заслуживает внимания фигура Хамида Исмайлова, литературное творчество которого - яркий пример транскультурной литературы. Хамид Исмайлов может быть представлен и как русский писатель - он пишет по-русски, и как узбекский писатель - пишет по-узбекски, и как английский писатель - пишет по-английски, и как французский - пишет по-французски. Г.Т. Гарипова считает, что для творческого сознания Хамида Исмайлова характерно размыкание границ языковых и художественно-национальных картин мира [6. С. 433; 7; 8]). Лиана Шахвердян не встраивает свое творчество ни в какую парадигму, она пишет так, как ей удобно и как для нее органично, искренне делится с читателями волнующими ее проблемами. Так случилось, что эти проблемы роднят Лиану Шахвердян с другими коллегами-литераторами. Возможно, здесь вступает в свои права метатекст - полумистичекая субстанция, как бы «диктующая» писателям, порой никак друг с другом не связанным, одни и те же темы, ставит перед ними одни и те же вопросы, в частности: что стало с моими дедушками и бабушками, жившими при Сталине, почему и за что тиран уничтожил миллионы? В 1990-е стали открываться архивы, подрастало новое поколение, не зашоренное советской пропагандой и страхами, и - как результат - уже в XXI веке в литературном процессе стал складываться новый литературный жанр - архивный роман. По поводу активного обращения литераторов к архивным документам писатель и критик Евгений Абдуллаев замечает: «Роман, в начале нулевых несколько потесненный нон-фикшеном, затем синтезировал его в себе. И не только в чисто документальном романе, но и во вполне вымышленном» [9. С. 119]. В статье «Архивный вектор в современной русской литературе» [10] рассмотрен ряд текстов, вписывающихся в этот вектор, писателей Натальи Громовой, Сухбата Афлатуни, Саши Филипенко. Совершенно органично этот ряд должен быть продолжен романом «Рукиреки» Лианы Шахвердян. Ошельмованные, запытанные, замученные граждане СССР, как правило, яркие и талантливые личности, уничтожались в 1930-1940-х годах в «промышленных» масштабах - работал сталинский конвейер. Как это было в реальности - уже описано в статье, которая основана на следственных делах советских художников, расстрелянных в Бутове [11]. Об этом трагическом этапе в истории ХХ века надо писать не останавливаясь - столько безвестных судеб, столько безвинных жертв, не найдены места захоронения, не восстановлены честные имена: если у приговоренного к расстрелу сталинскими «двойками» и «тройками» не было родственников, то этих людей редко и реабилитировали. Воссоздание их биографий могло бы стать глобальным проектом постсоветской истории, достойным высшего проявления человечности. Современная писательница Лиана Шахвердян включилась в этот необъявленный проект: она стала исследовать жизнь своего рода, делая для себя открытие за открытием: дед, бабушка, дяди, их близкое окружение - все попали под сталинский каток. История семейного рода превратилась в роман о Дануше, или Даниеле Александровиче Шахвердове, ее прапредке. Ханум, старая женщина, одна из собеседниц (и «информантов») главной героини романа, говорит, что все происходившее в их роду взаимосвязано, даже завязано в один узел и, чтобы понять прошлое, кому-то надо этот узел распутать - приложить руку, дотянуться руками до судеб предков. Возможно, тогда боль от утраты отступит, горе выпрямится[31]. Метафора узел запущена автором романа еще в экспозиции - во время сцены ковроткачества: Люсик, двоюродная тетка героини, завязывает из разноцветных нитей узелки, приговаривая, что теперь она впишет в узор имя своей племянницы, рассказчицы, точнее, первую букву ее имени - между ромбом и дугой спирали. Это важный момент, по мнению обеих участниц действа, так как ковер этот особый: в его орнаменте, как в родословном древе, имена всех детей дома Дурмиши, даже тех, кто уже давно приходится рассказчице пра- и прапрабабкой. Так ушедшие навсегда останутся в жизни дома, в памяти близких, только надо научиться это читать. Прабабушка навсегда вплела имя мое в зигзаги узоров ковра рода… народа… С тех пор все прапра… мне смотрят в затылок: я слышу их голоса… [32] Эти стихи Лианы Шахвердян, написанные в 2014 году, свидетельствуют, что мысль о роде и народе давно занимает писательницу. Ковер как родовой «штрих-код», как домашний архив - не вымысел автора, это давняя традиция, нашедшая отражение во многих ковроткаческих культурах. Вспомним «Джан» Андрея Платонова, где по вечерам женщины плели ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, где на базарах глаза покупателей останавливались на ковровых узорах, в которых читалась нелегкая участь его создательницы и ее рода; узоры повторялись и повторялись - и участь не сулила ничего неожиданного[33]. Вытканная и зашифрованная в коврах история жизни, рода подтверждается исследователями - историками и этнографами. Так, Ш.М. Каннадан пишет, что при изучении ковровых орнаментов на полотнах Ирана и Центральной Азии проступает не только генезис орнаментальных традиций, но и этногенетические связи народов этого региона [12. С. 3]. Археолог Е. Антонова, работая с ковровыми узорами, высказывается более метко: орнаменты как буквы, и их можно читать как книги [13]. Американский писатель Генри Джеймс (1843-1916) создает интригу в своей повести «Узор на ковре» («Фигура на ковре»), сопрягая ковровую метафору - complex figure - с литературным творчеством: прочитать ковер - все равно что разгадать скрытый мотив в литературном тексте, и тогда узоры, кажущиеся при первом взгляде хаотичными, вдруг предстанут правильными и осмысленными. Так работают «чтецы» ковров, так должны работать и те, кто аналитически читает литературные тексты. Так расширяет «ковровую» метафору французская исследовательница Паскаль Казанова [14. С. 6-7], поднимая эту метафору на новый уровень, отталкиваясь от замысла Г. Джеймса: теперь и мировая литературная словесность - это ковер. Однако мы ограничимся задачами статьи, останемся на том уровне метафорики, которая предложена Лианой Шахвердян: ковер - это закодированная карта рода. «Узлы», которые она пытается распутать-разгадать в продолжение всего повествования, - это ее предки и те, которые спасали их или вредили им. Карта рода предстает не только в виде ковра, но и стены́ в древнем доме Дурмиши, увешанной фотографиями: эта стена была знаменита на всю Лорийскую округу, ее соорудила Люсик - стена хранила память о членах семьи, рода, о тех, кто был вхож в этот дом. От фото к фото ведет свой опрос героиня, встраивая судьбы прямых предков в общий узор рода. Она скользила по знакомым и незнакомым лицам. Это были ее прапрабабки, прапрадеды, тетки и дядья. Совсем близко к портрету Дануша висел портрет Сталина - рассказчица обращается к Люсик: и он бывал в нашем доме? Сам не бывал, но прислал однажды своих опричников, которые перерыли весь дом, многое унесли с собой, - отвечает Люсик. Вот еще один известный по газетам и телеэкрану персонаж - Микоян. Люсик, а он - из опричников? Нет, отвечает тетка, благодаря ему был спасен сын Дануша. Такой предстает стена - срез частных судеб, частных контактов, врагов и друзей, губителей и спасителей - срез истории ХХ века. Основанная на документальных фактах сюжетная линия романа встроена в притчевую раму - о змеях и птицах. Эти персонажи фауны появляются то в преданиях и былях, то в виде метафизических знаков судьбы, то в метаморфных образах (Рипсимэ, Гаянэ, Нина), то в виде метафоры или сравнения, то в названиях глав и частей романа. Остановимся на сюжете одной лорийской были: трехметровая змея ползла по откосу стены в сторону гнезда с птенцами ласточки. Люди заметили эту змею и ее жертв - птенцов можно было спасти. Но Люсик скомандовала: не трогать. Змею убить было сложно - высоко, но птенцы были бы спасены, а змея могла потом вернуться и отомстить. И люди молча наблюдали, как змея заглатывала одного за другим птенцов, как они медленно передвигались вдоль и внутри ее тела. «Больше на той стене птицы не гнездились». Героиня, она же рассказчица, не пытается комментировать этот сюжет, но он выполняет функцию чуть ли не экспозиции в сюжете. Это аллюзия к сталинским репрессиям и безмолвным и безропотным наблюдателям - советским людям, парализованным страхом. В другом фрагменте романа опять всплывает змея. Когда аресты проходили повсюду: в городах и деревнях, в столицах и селах, в Тбилиси и в Ереване - начинался ад, уподобленный рассказчицей той сцене со змеей, пожирающей птенцов. Все персонажи из семейной и одновременно всеобщей истории империи разными нитями, руками-реками, тянутся к главному объекту разысканий рассказчицы - ее двоюродному прадеду Данушу, замученному в сталинско-бериевских застенках. Даниел Александрович оказался редкой птицей: он не дал себя оговорить, его не сломили пытки. По словам рассказчицы, в судьбе деда ее волновало то, как он держался - словно орел в небе над пропастью, а в его клюве - та самая ядовитая змея, выпустившая жало. «Схватка птицы и змеи была очевидна, и в ее трагическом исходе был урок…» Будучи ребенком, рассказчица спросила у Ханум-таты, что означает завораживающее слово «революция». Малограмотная, но мудрая Ханум ответила иносказательно: революция - это змея в когтях орла. Не очень поняв эту метафору, рассказчица выросла, не забыв так и непонятый смысл этого образного толкования. Возможно, роман «Руки-реки» и стал дешифровкой этой бабушкиной сентенции, а руки-реки - так названы душевные нити, связующие прошлое с настоящим. О том и стихи, вплетенные в повествование романа: …руки тянутся к птицам, птицы тянутся к рукам… Небо соединяет нас! Каждый раз вздрагиваю при мысли, что разучилась летать. Руки-реки - сердечные нити, руки-реки «в сердце сцепились - не расцепили…» - эта стихотворная строка из романного фрагмента как знак: русское слово сердце родом из армянского слова сирт,[34] так сплелись руки-реки не только из прошлого и настоящего, но и из стихий двух языков. Заключение Возвращаясь к транскультурности литературного текста, подведем итоги. В русском романе «Руки-реки» представлен не только корпус политических имен и личностей армянской истории сталинского периода, но и ландшафт Армении, особенности армянского быта и домашних ремесел, взаимоотношения между членами армянской семьи: между старшими и младшими поколениями. В русский текст вплетены слова-армянизмы, обозначающие этноспецифические реалии (например, кари-глуха - главное место в армянском селе, его место силы; имена персонажей из фольклорных преданий), усвоенные с детства рассказчицей, говорящей на русском языке. По наблюдениям исследователя алгоритмов и принципов построения моделей мира в русской литературе советского и постсоветского периодов Г.Т. Гариповой, культурная память указанного хронотопа вобрала в себя череду умираний и возрождений национального сознания (национальных сознаний) народов, населяющих бывшую советскую империю, именно эта череда, эти отливы и приливы национальной памяти определяют литературный облик более чем векового промежутка [15. С. 106]. Восстановлению культурной памяти и служит роман Лианы Шахвердян. Поиски правды, истинной истории сродни поиску глиняных букв - первому строительному материалу в истории человечества, расшифровке ковровых узоров. И поиск уже идет: как в буквальном смысле - найдены остраконы, глиняные таблички с буквами [16], так и в переносном - запущен архивный вектор в развитии литературы с целью сохранения памяти.Об авторах
Элеонора Фёдоровна Шафранская
Московский городской педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: shafranskayaef@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4462-5710
SPIN-код: 5340-6268
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской литературы
Российская Федерация, 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1Список литературы
- Шафранская Э.Ф., Гарипова Г.Т., Смирнова А.И. Метафоры остановившегося времени в современной литературе // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2022. № 4. С. 132–142.
- Бахтикиреева У.М. Русскоязычие как актуальная междисциплинарная проблема // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2015. № 1(45). С. 92–97.
- Бахтикиреева У.М., Валикова О.А. Истоки транслингвальной русскоязычной литературы // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2017. Т. XIV. Вып. 1. С. 14–19.
- Бахтикиреева У.М. Русофон — русофонный — русофония — русофонная литература — слова глобальные или локальные? // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2021. Т. XVIII. Вып. 1. С. 11–17.
- Гарипова Г.Т. «Археология письма» или сложноорганизованный смысл метасознания Х. Исмайлова // Вопросы филологии. 2020. № 3. С. 77–84.
- Гарипова Г.Т. Принципы миромоделирования в русской прозе ХХ века (неклассическая парадигма художественности): дис. … д-ра филол. наук. Владимир, 2021.
- Гарипова Г.Т. Полилингвизм и транслитературность в контексте метафикциольных стратегий Хамида Исмайлова // Полилингвиальность и транскультурные практики. 2020. Т. 17. № 1. С. 78–87.
- Гарипова Г.Т. Календарь Москвы: «Собрание утонченных» и пространство Лондона в метасознании Хамида Исмайлова // Genius loci в литературе, искусстве, культуре: cб. науч. статей. СПб.: Свое изд-во, 2018. С. 71–86.
- Абдуллаев Е.В. Как убить литературу: очерки о литературной политике и литературе начала XXI века. М.: Эксмо, 2021. 352 с.
- Шафранская Э.Ф. Архивный вектор в современной русской литературе // Przegląd Rusycystyczny. Польша, 2022. № 4(180). С. 25–38.
- Шафранская Э.Ф. Бутовский полигон vs Нукусский музей имени И.В. Савицкого // Знамя. 2021. № 7. С. 180–205.
- Каннадан Ш.М. История орнаментальных традиций в ковроткачестве Ирана и Центральной Азии: автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 2013.
- Канаева Н. Ковер можно читать как книгу // Голос Армении. 2013. 7 февраля. URL: https://www.golosarmenii.am/article/17371/kover-mozhno-chitat--kak-knigu (дата обращения: 01.11.2022).
- Казанова П. Мировая республика литературы / пер. с фр. М. Кожевниковой и М. Летаровой-Гистер. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
- Гарипова Г.Т. Специфика социокультурной модели узбекской литературы в постсоветскую эпоху // Проблемы распада и наследия СССР в современном публичном пространстве: cб. науч. статей Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Москва, 19 апреля 2021 г. М.: Книгодел, 2021. С. 105–116.
- Харченко А. Христианский монастырь в Ургуте // Фергана. Ру. 2006. URL: https://samtur.uz/na/155-otkuda-v-urgute-hristianskij-monastyr.html?fbclid=IwAR3pVhQGmj3tKGYMDd0L9NC7FfBrV2IP2Bzd5YUr-kVM-MQ5ERFx7tjSmYI&_utl_t=tm (дата обращения: 01.11.2022).