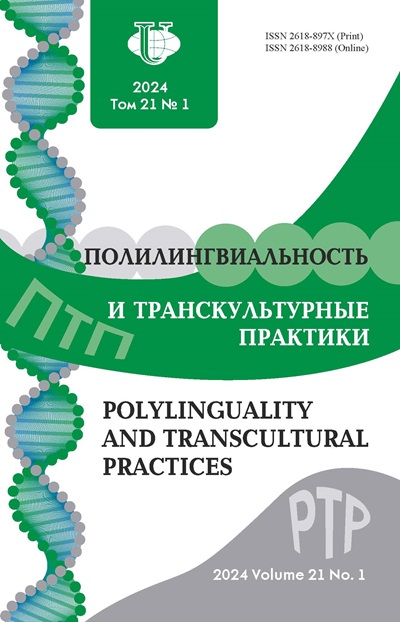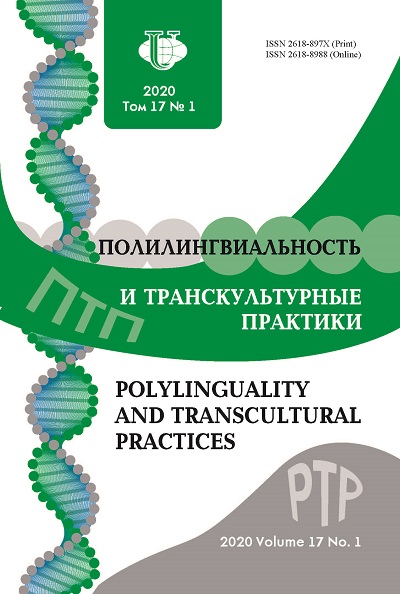Перевод как форма межлитературного диалога (на материале перевода повести А. Еники «Əйтелмəгəн васыять» («Невысказанное завещание») С. Хозиной)
- Авторы: Фахрутдинова Л.И.1, Аминева В.Р.2
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
- Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Выпуск: Том 17, № 1 (2020)
- Страницы: 45-58
- Раздел: Теория и практика перевода
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/23168
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2020-17-1-45-58
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Дан анализ структурно-содержательных особенностей переводных текстов в аспекте межлитературной коммуникации и диалога. Жанрово-стилистические трансформации оригинала в переводном тексте выявляются на основе их сопоставительного анализа. Перевод рассматривается как форма диалога культур, отражающая взаимодействие не только различных национальных языков, но и художественных моделей мира. Установлено, что при переводе повести «Невысказанное завещание» переводчик ориентируется на традиции жанра назира. Определены основные направления, в которых осуществляется сотворчество переводчика с автором произведения: происходит изменение принципов и приемов изображения внутреннего мира героев; усиливается лирическая ориентация повествования; актуализируется философский подтекст рассказанной истории, углубляется обличительная тенденция. Полученные результаты могут быть использованы при решении актуальных проблем межкультурной коммуникации и диалога, составлении комментариев к переводам произведений А. Еники для русскоязычного читателя.
Ключевые слова
Полный текст
1. Введение Восприятие татарской литературы, в частности творчества выдающегося татарского писателя А. Еники (1909-2000), российским читателем - тема, которая связана с исследованием путей и форм приобщения к художественно-эстетическому опыту одной из древнейших литератур мира. Воспринимая текст чужой культуры, читатель сопоставляет его со своим опытом, обогащает его новыми смыслами, давая ему, таким образом, новую жизнь, в новом времени и пространстве. Р оссийский читатель, не знающий татарского языка, может познакомиться с творчеством А. Еники только в переводах его произведений на русский язык. В связи с этим мы провели анализ структурно-содержательных особенностей переводных текстов в аспекте межлитературной коммуникации и диалога. Диалог культур принципиально открыт, бесконечен и представляет собой незавершимый и безграничный контекст, в котором «живут» и взаимодействуют тексты, принадлежащие разным национальным литературам. Это ценностносмысловое поле обладает культуротворческой функцией: формирует особый тип читательской культуры, являющейся ведущим компонентом духовного становления личности, включенной в пространство разных национальных культур, способной к эстетической, герменевтической, нравственной самоактуализации в современном полиэтническом обществе. Жанрово-стилистические особенности переводов произведений писателей, представляющих национальные литературы России, остаются до сих малоизученными. Немногочисленные исследования переводов произведений татарской литературы на русский язык затрагивают лишь отдельные аспекты соотношения языковых особенностей оригинальных текстов и их переводов и в целом носят оценивающий характер [1]. В то же время в современном переводоведении ощущается острый недостаток комплексных исследований переводов произведений татарских авторов на русский язык в проблемном поле диалога литератур. Творчество А. Еники - одного из величайших татарских писателей XX века, известного литературного и культурного деятеля, публициста вызывало неподдельный интерес не только у ученых-литературоведов, но и у переводчиков. Его произведения переводились на чувашский, башкирский и русский языки. Немало исследователей сосредоточили свое внимание на анализе переводов произведений татарского писателя - в частности, А.М. Галиева и Э.Ф. Нагуманова, Ф.Х. Габдрахманова, И.М. Габдулхакова, Е.Н. Денмухаметова, Р.Р. Салахова, Р.Х. Гараева, А.Г. Юсупова и некоторые другие. А.М. Галиева и Э.Ф. Нагуманова исследуют особенности перевода составляющих элементов художественного мира, а также концептосферы произведений А. Еники на русский язык. Анализируя переводы Х. Хусаиновой, М. Рафикова, А. Бадюгиной, М. Зарецкого, ученые отмечают самостоятельность, лиризм и особую мелодичность переводов Р. Кутуя, однако вместе с тем подчеркивают дистанцированность его произведений от оригинала: «Рустем Кутуй создал произведения по мотивам рассказов А. Еники, они самодостаточны, наполнены глубоким лиризмом, но часто в содержательном и формальном отношении далеки от оригинала… Он обращается к излюбленным образам: конь, птица (ястреб), через которые выражает свою личную тоску по свободе, по степному чувству воли, простору. Для Кутуя природа живое существо, ей присущи человеческие переживания, в его творчестве природа и человек слитны. В его переводах очень мало остается от самого А. Еники, но тексты Кутуя поэтичны и обладают особой музыкальностью» [2. С. 108]. Концепцию данной работы определяет идея М.М. Бахтина о диалоге как особом виде смысловых отношений, акцентирующая понимание эстетического объекта как бытийно-эстетического образования, в основе которого лежат персонологические и имманентно-социальные отношения между субъектами - «я» и «другим», автором и героем, произведением и читателем [3]. Методологической основой работы стали исследования, посвященные переводу как особой форме диалога литератур и культур [4-6]; проблеме восприятия и связанного с ним понимания [7]; идентичности и идентификации национально-художественных систем [8]. В основе сопоставительного анализа оригинального произведения и его перевода на русский язык лежит взгляд на перевод как на освоение инонационального художественного текста, в процессе которого происходит взаимовлияние двух языковых картин мира, двух художественноэстетических систем, двух авторских - создателя оригинала и перевода - концепций действительности и ее художественного воплощения, влияние, обусловленное стремлением переводчика к воссозданию целостного эстетического впечатления и сохранению стилистических черт оригинала. 2. Обсуждение Повесть А. Еники «Невысказанное завещание» (1965), знаковое в творчестве писателя 1960-х годов произведение, один из ключевых текстов татарской литературы этого периода, имеет два перевода, выполненных Х. Хусаиновой и С. Хозиной. В переводе Х. Хусаиновой точно переданы особенности субъектной организации произведения: сохраняется субъектный синкретизм голосов повествователя и главной героини; воспроизводится характерная для оригинала закономерность, в соответствии с которой углублению психологического анализа соответствует перевес плана персонажа в повествовании, усиление дидактически-назидательной тенденции отражается в замещенной прямой речи, в которой преимущественно слышен «голос» автора [9]. С. Хозина в переводе повести А. Еники «Невысказанное завещание» (1965) ориентируется на традиции жанра средневековой восточной литературы назира (назиры) - это «форма поэтического “отклика” на произведение другого автора, распространенная в литературах народов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии, Поволжья. Назира является канонической формой переделки известного произведения в части его фабулы и образов с обязательным привнесением оригинальных черт» [10. С. 343]. Прежде всего обращает на себя внимание расхождение в объеме оригинального и переводного произведений. Повесть А. Еники «Əйтелмəгəн васыять» в собрании сочинений А. Еники в трех томах представляет собой текст в 38 страниц, а в переводе - почти в полтора раза больше - 53 страницы [11. С. 7-44; 15. С. 426-479]. Переводя повесть А. Еники, С. Хозина выступает как соавтор, развивает образы и мотивы оригинального произведения. Значимы прежде всего стилистические трансформации оригинала в переводном тексте. Художественное слово А. Еники обращено к тексту эмоциональной стороной и наполнено глубоким смыслом, указывающим на сложность человеческих переживаний, стремление к национально-нравственным идеалам, печаль от сознания несовершенства жизни. Оно богато подтекстом и ассоциациями, обладает эмоциональной и психологической многозначностью: Карчык дəшмəде, тик «бар!» дигəндəй башын гына каккандай итте. Һəм бик озак күзлəрен йомып, берни уйламагандай, тын гына ятты. Əмма аның зиһене бер генə секундка да эшлəүдəн туктамаган иде. Нəрсəнедер, үзе өчен бик мөһим, бик яңа бер хакыйкатьне аңларга тырышып ята иде кебек... [11. С. 32]. Старушка не ответила и лишь кивнула, будто сказав «иди!». И очень долго лежала тихо, закрыв глаза, словно ни о чем не думая. Но ее сознание ни на одну секунду не прекращало свою работу. Она словно пыталась постичь что-то, очень важное для себя, новую истину[1]. В слове оригинального текста сконцентрированы богатые и тонкие ассоциации, придающие образам объемность и многомерность. Для татарского читателя оно обладает особой информативной емкостью и суггестивностью. Символические образы повести, используемые писателем синтетические методы психологизма, актуализация национальных архетипов, воздействуют на интуитивно-чувственный уровень читательского восприятия, обеспечивая таким образом понимание смысла текста: Аккилен үлмəде ул, китте генə... Китте генə... Кайтыр, насыйп булса, кайтыр... Ə син учагын карый тор, учагын... Учагында ут сүнмəсен [11. С. 44]. Аккилен не умерла, только ушла… Только ушла… Вернется, если суждено, вернется… А ты смотри за очагом, смотри. Пусть не погаснет в очаге огонь. В переводе принцип недосказанности, оставляющий простор для возможных новых осмыслений, заменяется конкретизацией. Происходит реализация одной из заложенных в тексте жанрово-стилистических стратегий. Сотворчество переводчика с автором произведения осуществляется в нескольких направлениях. Во-первых, в переводе происходит изменение принципов и приемов изображения внутреннего мира героев. Творчество А. Еники на уровне жанровой организации и приемов психологического изображения стало предметом исследования А.З. Карамовой и А.Р. Мотигуллиной. А.З. Карамова подчеркивает тот факт, что «в начале творчества А. Eники не наблюдается непосредственного, детального изображения внутреннего мира героя. Внимание уделяется воспроизведению реалий быта, внешних обстоятельств. Тем не менее, уже в первых рассказах писателя просматривается своеобразная психологическая зоркость писателя - в умении с помощью выразительной детали дать характеристику персонажа, в использовании повествования от первого лица, несобственнопрямой речи, образов природы. Повторяющиеся своеобразные признаки внешности информируют читателя о чувствах и переживаниях героя» [12. С. 94]. А.Р. Мотигуллина исследует используемые писателем формы и приемы психологизма. В произведениях писатель «анализирует сложные судьбы современников. Он не увлекается броскими сюжетами, в его произведениях события “отодвигаются на задний план, а на передний выступают внутренние, психологические взаимоотношения героев”. Писатель проникает в глубины души и, наблюдая поток мыслей, переживания, раскрывает характер героя в сложных жизненных ситуациях» [13. С. 3-4]. А. Еники использует подтекстовую форму психологизма, созвучную «тайному психологизму» И.С. Тургенева: писатель не столько описывает мысли и чувства человека, сколько указывает на них через какие-либо внешние проявления: жесты, мимику, телодвижения, изменение интонации и др. Часто используется и прием умолчания, т.е. действия персонажей не комментируются, побуждая читателя к последующему домысливанию происходящего. В татарской литературе эта форма восходит к приему умолчания, включающему в себя «невыразимые, непостигаемые, не поддающиеся вербальной характеристике психологические процессы» [14. С. 353]. Не менее важными в системе психологизма являются обобщенные обозначения эмоций - «слова не однопланово-понятийные, а “суммарные”, заключающие в себе большие смысловые резервы и актуализирующие опыт, исходящий из глубин эмоциональной жизни человека» [14. С. 353]. С. Хозина применяет прямо противоположный принцип - явный психологизм - непосредственное воспроизведение внутреннего мира героя. Из приемов «тайного психологизма» А. Еники чаще всего использует прием умолчания, отображая душевные переживания главной героини: Ə Акъəби үз нəүбəтендə бу җитеп килгəн зифа кызларга уйга калып, исе китеп, селкенмичə карап ята [11. С. 23]. А Акэби, в свою очередь, лежит, не шелохнувшись, и смотрит на повзрослевших стройных девушек с удивлением, о чем-то задумавшись. Писатель не говорит, какие мысли терзают главную героиню, мы можем лишь догадываться, о чем она думает. В переводе этого эпизода С. Хозиной чувства и мысли героини называются и анализируются: Акэби неподвижно лежит… и тоже смотрит на стройных, пышущих здоровьем девушек-подростков, своих внучек, и грустное удивление родится в ее душе: как выросли, какими странными, незнакомыми они кажутся [15. С. 449]. В эпизоде, где Акэби разговаривает с поэтом, создается емкий психологический подтекст: Шагыйрь, тезлəренə таянган килеш, бераз уйланып утыра, аннары тагын сорап куя: - Юлкотлыны сагынасыңмы? - Сагынам, улым! - Əйе, халык матур уйлаган, авылына, җиренə … матур исемнəр бирə белгəн. Юлкотлы! Юлың котлы булсын, Акъəби! - дип əйтəсе килеп тора [11. С. 27]. Поэт, опираясь на колени, немного задумывается, а затем снова спрашивает: - Скучаешь по Юлкотлы? - Скучаю, сын мой! - Да, народ красиво придумал, умел дать деревне, родной земле красивые имена. Юлкотлы! Пусть твоя дорога будет счастливой, Акэби! - так и хочется сказать. Создается особое «ценностное» пространство духовного общения. В переводе актуализируется принцип явного (прямого) психологизма: внутреннее состояние героев определяется, называется: Поэт надолго замолкает, невидящими глазами глядит перед собой, думая о своем… Потом, словно очнувшись, спрашивает опять: - А по Юлкотлы скучаешь? - Скучаю, сынок! - горестно вздыхает старушка, и у нее опять начинают подрагивать губы. - Да, высоко и вдохновенно думал народ, умел давать красивые, звучные имена своим аулам, землям... Юлкотлы… счастливая дорога... - Поэт смотрит на старушку долгим, проникающим в душу взглядом. - Да будут счастливы твои дороги, Акэби, - вот, что мне хочется тебе пожелать! [15. С. 455]. С. Хозина дает исчерпывающую характеристику душевным движениям героев, их настроениям и переживаниям: Акэби испытывает чувство грусти, тоски по родной земле, поэт же, напротив, вдохновлен и окрылен встречей с родственной душой. В разговоре Гульбики и ее матери Еники использует две формы психологизма: косвенную и суммарно-обозначающую. В первом случае чувства и эмоции героинь выражаются через телодвижения и изменение интонаций. Желание Акэби быть услышанной и понятой показано с помощью фразы «чак ишетелерлек зəгыйфь тавыш» [11. С. 31] (еле слышный слабый голос), о нежелании Гульбики понимать и принимать слова матери говорят движения ее тела: «кат-кат башын селкеп» [11. С. 31] («часто покачивая головой»). Суммарно-обозначающий психологизм[2] представлен в следующей сцене: Гөлбикə, кызганудан йөзен чытып, шунда ук аның сүзен бүлде…Кызы урыныннан ук торды - ул, гадəтенчə, каядыр ашыга иде [11. С. 31]. Гульбика, изменившись в лице от чувства жалости, сразу прервала ее слова… Ее дочь даже встала со своего места - она, как обычно, куда-то спешила. Здесь «выявляется вся глубина отчуждения дочери от родовых корней, ее исключенность из круга безусловных ценностей духовной жизни народа» [17. С. 227]. Но в то же время внимание привлекает предельно краткое, но очень емкое обозначение эмоционального состояния героини - это «кызгану» (в переводе - жалость, сочувствие). «Кызгану» - это не просто жалость, сострадание к больной матери, но и нестерпимая боль дочери, которая постепенно и безвозвратно теряет родного ей человека; торопливость Гульбики говорит о нежелании понять и принять сложившуюся ситуацию, бегство от нее. С. Хозина, используя принцип «явного психологизма», не только дополняет, но и изменяет оригинал: если в оригинале Гульбика от сочувствия хмурит лицо («кызганудан йөзен чытып») и перебивает мать, то в переводе она вся съеживается, физически и духовно закрываясь от тех эмоций и чувств, которые будоражат ее душу: Гульбика от сострадания к матери вся съежилась и поспешила перебить ее [15. С. 461]. У А. Еники читатель должен самостоятельно прочувствовать внутреннее состояние Гульбики. В переводе С. Хозиной ее состояние подчеркивается с помощью эпитетов и конкретизирующих фраз: …она помотала головой в отчаянии и нетерпении… Дочь даже привстала при этих словах, давая понять, что разговор окончен (она, по обыкновению, куда-то спешила) [15. С. 461]. Этот эпизод дает нам представление об эмоциях и чувствах героини - это неготовность услышать слова матери, отчаянное неприятие обстоятельств. Привстав, героиня выражает желание поскорее уйти не просто из комнаты, но и от тяжелых, угнетающих ее мыслей, от чувств, раздирающих ее сердце и душу. В переводе усиливается лирическая ориентация повествования. Во вступлении А. Еники подчеркивает раздолье и красоту башкирской степи, навевающей вдохновенные, но вместе с тем немного грустные мысли: Дала буш, дала киң... Рəхəт, һəй, рəхəт тə соң!.. Һəм ямансу... Шагыйрь əйтмешли, йөгереп уйныйсы, ятып елыйсы килə бу тын, буш, моңсу башкорт даласында! [11. С. 7]. Свободное поле, широкое поле... Хорошо, ах, как хорошо!.. И грустно... Как говорит поэт, так хочется бегать, резвиться, лечь и плакать на этой тихом, свободном, навевающем печаль башкирском поле! В переводе эта тема расширяется, меняется эмоциональное состояние - это не просто грусть, это что-то невыразимое, но вместе с тем это и печаль, тоска по чему-то несбыточному, недостижимому: …Не потому ли тихой печалью отзывается сердце, что нет у человека ни легких крыл, ни быстрых, неутомимых ног, чтобы унесли его вслед за мятущейся, неукротимой душой, подобной ветру. Как говорят поэты, хорошо в безбрежной башкирской степи, светлой и печальной, всласть порезвиться, ликуя от восторга, а потом упасть на шелковые ковыли и, обнимая теплую, родную землю, разрыдаться, задыхаясь от безмерности и невыразимости чувств, переполнявших сердце [15. С. 426]. Наряду с усилением лирической ориентации повествования происходит и актуализация философского подтекста рассказанной истории. Примером может служить описание могилы Акэби. В оригинале произведения представлена одинокая могила Акэби, находящаяся на берегах двух рек - Дёмы и Белой: Агыйдел, Дим буйларына караган биек тау башында Акъəби берүзе генə торды да калды [11. С. 42]. На вершине высокой горы, касающейся берегов Белой и Дёмы, Акэби осталась одна. В переводе повествователь размышляет над тайнами мира и бытия человека: Облака, подгоняемые ветром, плыли нескончаемой чередой в бездонном небе от горизонта до горизонта, стремительные стрижи мелькали в чистом воздухе… лениво шевелилась трава… шуршали, ползали невидимые цикады, подсыхал, покрываясь серым налетом, могильный бугор. И вся земля, насколько доставал глаз с золотистопепельными полями, подвижными пятнами рощ, кубиками домов, жгутами дорог, озерами, отливающими синевой, - вся округа, приняв в себя еще одну страдальческую душу и слившись с ней воедино, дышала ровно и спокойно, молчаливо храня великую тайну бытия и смерти [15. С. 475]. Человек не противопоставлен природе, он тесно связан с ней и является ее частью. Душа Акэби соединяется с природой, с универсумом. Здесь мы наблюдаем и тихое, неторопливое течение жизни (как и жизнь Акэби), которое противопоставляется хлопотливой, нервной, торопливой и несколько однообразной жизни ее детей: Жизнь опять покатилась по наезженной колее, полная всевозможных дел, хлопот, волнений, усталости… Для детей Акэби жизнь эта была желанной и привлекательной, полной приятных предвкушений [15. С. 478]. В переводе наблюдается усиление обличительной тенденции повествования. В оригинале повести отношение автора к героям раскрывается в сцене, где дети Акэби пытались понять, кому были предназначены вещи из зеленого сундука матери. Гульбика решает взять себе чулпы[3], которые Акэби хотела бы передать внучке Гузель: Гөлбикə шулай да əсəенең төсе итеп, уртасына кызыл якут куеп, саф көмештəн челтəрлəп эшлəнгəн ике зур чулпыны үзенə алып калды [11. С. 44]. Гульбика все же в память о матери взяла себе два больших накосника[4] из чистого серебра, в середине украшенных красным яхонтом. Эта деталь становится символической и является формой выражения авторской позиции - осуждения детей Акэби, которые так и не услышали последних слов матери, не узнали ее завещания. В переводе обличительная тенденция распространяется и на описание внешности детей, появляются отсутствующие в оригинале снижающие портретные детали: Гульбика и зять имеют «холеные» лица, Суфиян «незадачливый сын», «глуповатый», «бешеный» шурин. Дети не придают значение вещам, которые остались от Акэби, для них это лишнее, ненужное «добро»: Давайте-ка мы не станем делить эти вещи - никому из нас они не нужны, все равно пропадут, а лучше сдадим все в гардероб театра. Вот там этому «богатству» самое место… Эту идею тут же поддержала Мария Васильевна: - По-моему, Сахип Карамович высказал дельную вещь: зачем нам это «добро», пусть пользуются артисты [15. С. 478]. В переводе зять героини не столь радетельный как в оригинале, так как ждет похвалы, благодарности за уход: Мы привезли эсей[5] из аула, привезли к себе, и обеспечили ей уход, и приняли все меры, чтоб она выздоровела. И думаем, эсей догадается сказать нам за это спасибо [15. С. 471]. В переводе происходит и жанровая трансформация оригинала. Произведение А. Еники по жанру определяется как озын хикая[6], в то время как у С. Хозиной оно становится повестью, имеющей все ее признаки: прежде всего это преобладание циклической сюжетной схемы - «изображенный мир состоит из двух сфер, противопоставленных по признакам “своего-чужого”» [21. С. 390]: «своим» является мир Акэби, старика Минибай и деревенских жителей, «чужим» - мир суетливого и жестокого города, в котором живут дети и внуки Акэби. В основе сюжета повести лежит «ситуация неустойчивого равновесия противоположных мировых сил» - доброты, отзывчивости главной героини и жестокосердия, черствости окружающих ее родных людей. Судьба героя повести «связана с его удалением от исходной точки (места действия, а также первоначального положения и/или статуса) и последующим возвратом к ней - как в пространственно-временном, так и в ценностном планах» [21. С. 390]. В повести «Невысказанное завещание» обращает на себя внимание вынужденная необходимость Акэби оставить свой дом, деревню, родные края; наблюдается и смена ее статуса - вначале героиня занимается домом и ведет хозяйство, впоследствии - не может встать с постели из-за обнаружившейся серьезной болезни. Конец повести возвращает главную героиню в прежнее время и пространство - в необъятный простор Вселенной, где время течет медленно и неторопливо; в ценностном плане Акэби проходит цикл, итогом которого является возврат к прежним традициям, устоям, обычаям, к неугасающему домашнему очагу. Произведение А. Еники соотносится с традициями адаба. «С литературной точки зрения адаб представляет собой особый полудидактический-полубеллетристический жанр, идейная направленность которого состоит в просвещении и воспитании правоверного читателя на основе Корана и хадисов, а важное место отводится различным рассказам, поучительным историям, научным сведениям. Нередко в литературе адаба восточные авторы высмеивали пороки общества, применяя принцип “смеясь, исправлять нравы”» [22. С. 16]. Адаб как адабият - литература - «это название совокупности правил хорошего тона, вежливости, морали и нравственности, это слова и поступки, которые по исламу считаются порядочными… это действия, совершаемые в соответствии с учением Посланника Всевышнего» [23. С. 14-15]. Повесть «Əйтелмəгəн васыять» представляет собой повествование в традициях адабият. Еники изображает героев идеальных, следующих правилам и предписаниям адаба (Акэби и Минибай), противопоставляя им персонажей другого, индустриального, современного мира (внуки и дети главной героини). Следовательно, повесть поучает и наставляет читателей, воспитывает их. Назидательная тенденция реализуется в переводе иначе, чем в оригинале. Оценки С. Хозиной героев и ситуаций подчеркнуто однозначны, и здесь читатели не ждут изменения ситуаций и характеров персонажей. Таким образом, перевод С. Хозиной - это не дословный, пересказанный текст, особая форма сотворчества, выполненная в традициях назира. Выбранная форма объясняется своеобразием творческой индивидуальности переводчика, соединяющего в своем творчестве традиции татарской и русской литератур и культур. 3. Выводы С. Хозина вступает в активное сотворчество с автором оригинального текста, что приводит к преобладанию в ее переводе «пересоздающего» начала над «воссоздающим». Изменение принципов и приемов психологизма, усиление лирической ориентации повествования, актуализация философского подтекста сюжетной истории позволяют говорить о выходе за границы перевода и переходе к жанру вариации. Жанрово-стилистические особенности переводов произведений А. Еники на русский язык являются результатом о риентации на нового адресата, отражают национальные художественные традиции и актуальные для русской литературы и культуры ценностно-смысловые установки. Вместе с тем несомненно творческий характер перевода ограничен возможностями и пределами интерпретации оригинала - субъективным пониманием и оценкой переводчиком данного произведения. Изучение основных ценностных идей татарской культуры и особенностей их художественного воплощения в переводном тексте раскрывает систему аксиологических координат, оказывающих воздействие на восприятие произведения инонациональной литературы. Исследование жанрово-стилистических трансформаций оригинала в переводном тексте значимо для решения теоретических вопросов переводоведения: о природе перевода как особой формы межлитературного диалога, о границах творчества переводчика, о том, чем собственно является перевод по отношению к оригиналу: его аналогом, субститутом, эквивалентом идейно-художественного содержания текста оригинала или эквивалентом художественного произведения и других.
Об авторах
Лилия Ильдаровна Фахрутдинова
Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: Liliyaphahrutdinova@yandex.ru
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации, ассистент кафедры гуманитарных наук подготовительного факультета для иностранных учащихся Казанского (Приволжского) федерального университета
Российская Федерация, 121069, Москва, ул. Поварская, 25аВенера Рудалевна Аминева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Email: amineva1000@list.ru
доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18Список литературы
- Khaybullina A., E. Nagumanova, A. Khabibullina. Some problems of translation of modern tatar poetry in to the Russian language // AD ALTA-Journal of interdisciplinary research. Vol. 8. Is. 1. 2018. Pp. 221-223.
- Галиева А.М., Нагуманова Э.Ф. Особенности перевода пейзажных зарисовок (на материале произведений А. Еники и их переводов) // Zbior raportow naukowych Aktualne problem w wspoliczesnej nauki. 26.06.2013-30.06.2013. Czesc 5. Warszawa, 2013. С. 102-110.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986.
- Топер П. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М.: Наследие, 2000.
- Amineva V., M. Ibragimov, E. Nagumanova, A. Khabibullina, L. Yuzmukhametova. A esthetic interference and untranslatability as concepts of comparative literary studies. The Social Sciences. No. 10 (7). 2015. Pp. 1868-1872.
- Shemshurenko O., A. Khabibullina, E. Nagumanova. Interliterary Communication and Aesthetic Interference In The Perception of The Russian Poetry of The Xix Century By The Representatives of The other Nationalities, Modern journal of language teaching methods. Vol. 8. Is. 11. 2018. Pp. 464-469.
- Гадамер Г.-Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
- Sultanov K. Crossing the Terek, or The Two Banks of Life’s One River. Rereading Tolstoy. Russian Studies in Literature. Vol. 48. No. 3. 2012. Pр. 25-56.
- Фахрутдинова Л.И. Жанрово-стилистические трансформации оригинала в переводе (на материале перевода повести А. Еники «Невысказанное завещание», выполненного Х. Хусаиновой) // Материалы Международной конференции «Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии». Т. 2. Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2018.
- Татарская энциклопедия / отв. ред. Г.С. Сабирзянов; гл. ред. М.Х. Хасанов. Казань: Институт татарской энциклопедии. Т. 4. 2008.
- Еники Ə. Əсəрлəр, өч томда. II том: Повестьлар. Казан: Татар. кит. нəшр., 1991. 415 б.
- Карамова А.З. Психологизм в творчестве А. Еники: дисс. … канд. филол. наук. Казан. гос. пед. ун-т, 2005.
- Мотигуллина А.Р. Характеры героев в прозе А. Еники: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Казань, 2000.
- Аминева В.Р. Типы диалогических отношений между национальными литературами (на материале произведений русских писателей второй половины XIX в. и татарских прозаиков первой трети XX в.). Казань: Казанский государственный университет, 2010.
- Еникеев А. Невысказанное завещание. Повести и рассказы / пер. Р. Кутуя, С. Хозиной. Казань: Татарское кн. изд-во, 1990.
- Страхов И. Психологический анализ в литературном творчестве: пособие для студентов педагогических институтов. Ч. 1. Саратов: Саратов. гос. пед. инст., 1973.
- Еникеев А. Невысказанное завещание: рассказы, повесть. Казань: Татар. кн. изд-во, 2017.
- Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] URL: https://tatar_ explanatory.academic.ru/22966 (дата обращения: 05.07.19).
- Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] URL: https://fashion. academic.ru/1606/Накосник (дата обращения: 05.07.19).
- Татарская энциклопедия / отв. ред. Г.С. Сабирзянов; гл. ред. М.Х. Хасанов. Т. 6. Казань: Институт татарской энциклопедии, 2014.
- Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: учеб. пособие. В 2 т. Т. 1. М.: Академия, 2004.
- Ахмадуллина Л.Я. «Маджмаг аль-адаб» («Сборник благопристойностей») Хибатуллы Салихова в контексте общетюркских литературных традиций: автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 2017. [Электронный ресурс] URL: https://docplayer.ru/74654473-Madzhmag-aladab-sbornik-blagopristoynostey-hibatully-salihova-v-kontekste-obshchetyurkskih-literaturnyhtradiciy.html (дата обращения: 24.06.19).
- Якупов М.Т. Адаб как форма реализации исламской нравственности: монография. Уфа: Изд-во БГПУ, 2012.