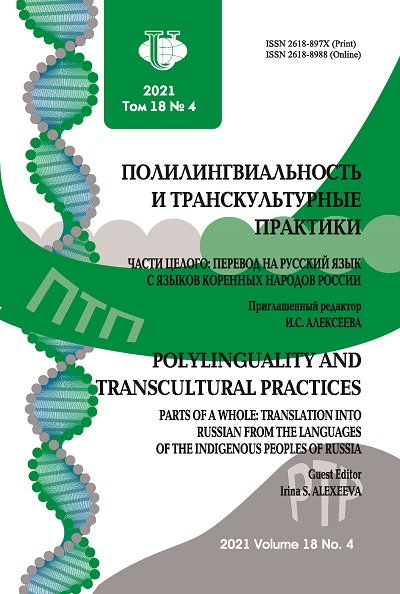Culturological Aspect of Russian Interpretation of Avar Literary Works: Based On “My Daghestan” by R. Gamzatov
- Authors: Mallaeva Z.M.1, Magomedov M.A.1, Khalidova R.S.2
-
Affiliations:
- G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art of the Daghestan Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences
- Daghestan State Pedagogical University
- Issue: Vol 18, No 4 (2021): PARTS OF A WHOLE: TRANSLATION INTO RUSSIAN FROM THE LANGUAGES OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF RUSSIA
- Pages: 347-357
- Section: EDITORIAL
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/29671
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2021-18-4-347-357
- ID: 29671
Cite item
Full Text
Abstract
The topic of this article is up-to-date due to the fact that the problems of adequate Russian interpretation of “My Daghestan” book by Rasul Gamzatov are not completely solved yet. Moreover, the urgency of further solvation of this problem is complicated by the fact that all translations of this book into other languages are done on the basis of its Russian version. Thus all the flops in the Russian interpretation are kept in the translations into other languages as well. The main objective of the article is to claim attention to the importance of original ethnic context for proper reflection of the cultural peculiarities. The source for research is taken from “My Daghestan” book by R. Gamzatov in the original (Avar), as well as from its Russian interpretation done by V. Soloukhin. The main approach in the research is the method of comparative analysis of the original text and its interpretation. The given research results in the conclusion that lack of ethnic cultural knowledge of the Avar language world picture as well as the differences between ethnic and cultural values led to some certain mistakes in Russian interpretation of the text. In some cases the interpreter doesn’t perform literary images corresponding to the original and to Daghestan mentality, instead leading to lack of original artistic and emotional impressions in the translation. The interpreter has also some difficulties with transmission of the original text by Rasul Gamzatov from one linguistic and cultural sphere into other, not though on the reason that it is unknown, but because it is strange for him. We should admit that while interpreting the text it is inevitable for the interpreter to use some of his individual thinking. But the best adequate interpretation needs maximum keeping to the characteristic features of the original. The individualism of the interpreter must not interfere.
Full Text
Введение Сложности, возникающие при переводе художественного текста с языка одного типа на язык другого типа, многократно возрастают, когда языки оригинала и перевода принадлежат к разным культурам. В таком случае переводчик должен сочетать в себе качества переводчика, культуролога, историка, этнографа и обладать фоновыми знаниями, чтобы адекватно передать особенности другой культуры и при этом максимально сохранить содержание оригинального текста. Разные культуры создают для переводчика больше проблем, чем разные языки, тем более, что в таком случае различаются и литературные традиции. Так, для представителей русской культуры сравнение красивой женщины с куропаткой кажется нелепым, а в аварской поэзии и прозе оно довольно распространено. Куропатка, как это ни странно для европейцев, в дагестанской литературной традиции является символом грациозности женщины. Обсуждение Чтобы сохранить стиль определенной культуры и определенной эпохи, переводчик должен быть не только исследователем в данной области, но и в какой-то мере быть готовым принять эту культуру. Иначе оплошности в переводе художественного текста неизбежны. В качестве примера можно привести отрывок из книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан»: КечI ахIилалде цебе халат хъвалеб пандурги, концерт гьабилелде цебе бицунеб хабарги, пардав рагьилелде цебе цIалулеб лекцияги дида церего, вакьадасул малъиял дурцасда гIадин, рихун рукIана[2] (стр. 8). Дословный перевод, сделанный нами, звучит следующим образом: И пандур, на котором долго играют, прежде чем спеть песню, и долгие выступления перед началом концерта, и лекция перед открытием занавеса мне давно надоели, как нравоучения тестя зятю. Переводчик неоправданно вмешивается в авторский текст, вводит нового персонажа, новые артефакты и вносит такие коррективы, которые смещают акценты и искажают смысл текста, ср.: Вот певец взял в руки пандур. Я знаю, что у певца хороший голос, так зачем же он так долго и бездумно бренчит, прежде чем начать песню? То же самое скажу о докладе перед концертом, о лекции перед началом спектакля, о нудных поучениях, которыми тесть угощает зятя, вместо того, чтобы сразу позвать к столу и налить чарку[3] (здесь и далее выделено нами - З.М., М.М., Р.Х.). Выделенная часть текста, добавленная переводчиком, не только не соответствует оригиналу, но и противоречит законам горского этикета, согласно которым тесть и зять, так же как и отец и сын, не могут сидеть за одним столом и выпивать. Поэтому такой перевод вызывает недоумение у дагестанских читателей. Недостаточное владение фоновыми знаниями и различия в культурных ценностях привели к искажениям в переводном тексте, в котором нарушаются нормы вежливости, принятые в дагестанской культуре. Для успешного перевода текста переводчик должен хорошо знать реалии (исторические, социально-политические, географические, топонимические, культурные, артефактные, ментефактные, конфессиональные и др.) и этнокультурные традиции носителей переводимого языка, так называемые фоновые знания. Перевод предполагает взаимодействие не только языков, но и различных культур. Каждый национальный язык формируется и развивается в рамках определенной этнической культуры, поэтому не может рассматриваться в отрыве от нее. Этнокультурные особенности каждого народа вербализуются в языке и даже при очень близком переводе не всегда понятны реципиентам - представителям другой культуры. Поэтому у специалистов по теории перевода нет разногласий в вопросе признания решающего значения фоновых знаний для решения проблемы культурной непереводимости. Отсутствием фоновых знаний можно объяснить казус, когда Гидатлинское общество в переводном тексте названо аулом Гидатли, что, естественно, не соответствует действительности: Цебе магIарул цо-цо росабалъ, яс росасе кьолеб мехалъ, гьелъул разилъи гьикъулеб гIадат букIинчIо. Амма васасда гьикъичIого ригьин цо гьидалъес гурони гьабун рагIуларо. Гьидалъайищ нуж? Нужер хIукму рагIула. Дир хIукму хIажатаб гьечIебищ? (стр. 18). Перевод В. Солоухина: Когда-то, выдавая девушку замуж, не спрашивали ее согласия, как бы теперь сказали, ставили ее перед фактом. Говорили, что все решено. Но даже в те времена у нас в горах никто не посмел бы сыграть свадьбу своего сына без его согласия. На это, говорят, решился однажды некий гидатлинец. Но разве мой уважаемый редактор журнала из аула Гидатли? Он все решил за меня... (стр. 13). Такого аула не существует. Гидатлинское вольное общество располагалось на территории Нагорного Дагестана, в основном на территории нынешнего Шамильского района, состояло из ряда сельских общин, носителей гидского диалекта аварского языка. (Кстати, дагестанцы свои селения не называют аулами.) Иногда переводчик допускает вмешательство в смысловое содержание текста, не только не соответствующее смыслу текста оригинала, но и неприемлемое с точки зрения менталитета дагестанцев, например: Рукъалда къоно барав, къавулъе рачIчI хьвагIулеб жо бахинчIев, кидаго юргъан бачIев, гъоркьан горде ретIинчIев, хьимал бусада гIурав, гIумруялъ тохтирасда черх бихьичIев, я гьавураб, я хвараб сон лъидаго лъаларев дир гъаримав инсул эмен (стр. 26). Перевод В. Солоухина: Во двор моего дедушки ни разу не заходило ни одно четвероногое животное, кроме разве собаки да кошки. Едва ли он когда-нибудь спал под одеялом, едва ли он знал, что такое нижнее белье. Ни один доктор в мире не мог бы похвастаться тем, что осматривал Магомета, заглядывал ему в рот, щупал пульс, заставлял дышать его то глубже, то реже и вообще видел его тело. Никто не знал также у нас в ауле точных дат его рождения и смерти (стр. 22). Буквальный перевод: Запиравший дом приставлением большого камня, никогда во двор которого не заходила хвостом машущая скотина, никогда не накрывавший себя одеялом, никогда не надевавший нижнее белье, выросший на матрасе, заполненном сушеной травой, тело которого не осматривал ни один врач, ни год рождения, ни год смерти никому не известный, бедный отец моего отца. Собаку и кошку переводчик добавил «от себя». Кошку-то еще можно было добавить (хотя речь идет однозначно о скотине), но собак во дворе мусульмане не держали, так как в исламе слюна и шерсть собаки считаются нечистыми (скверной). Это не мешает мусульманам заботливо относиться к собакам, их можно держать только для охраны скота и охоты. Фоновые знания как обязательный компонент культурной картины мира представляют одновременно и важнейшую составляющую профессиональной компетенции переводчика. Особенно возрастает роль фоновых знаний при переводе культурообусловленого текста, например: АбутIалибица абула: бихъараб хъабарча тIадго букъулеб мехалъ, гьеб мусруялде буссунгутIизе кIалдиб кквезе кьолеб гIучI буго цеберагIи (стр. 9). Перевод: Абуталиб сказал: «Предисловие к книге - это та же соломинка, которую суеверная горянка держит в зубах, латая мужу тулуп. Ведь если не держать в это время соломинку в зубах, тулуп, согласно поверью, может обернуться саваном» (стр. 8). В данном тексте переводчик исказил два важных момента: 1) соломинку держат в зубах только тогда, когда зашивают надетую одежду, а не всякую; 2) не суеверная горянка держит в зубах соломинку, а тот, на котором зашивают одежду. Поэтому более адекватным будет перевод: Абуталиб говорит: «Предисловие - это соломинка, которую дают держать в зубах тому, на ком латают (надетым) тулуп, чтобы он не превратился в саван». Безусловно, перевод - это творческий процесс, и здесь индивидуальность переводчика - неизбежный компонент переводного текста. Однако это не должно нарушать главное условие перевода - сохранение в переводе характерных черт оригинала. Для сохранения в переводном тексте художественного и эмоционального впечатления от подлинника переводчик должен использовать соответствующие оригиналу и менталитету (дагестанскому - в данном случае) художественные образы. При наличии заметных культурных различий А.Д. Швейцер считает целесообразным создать на основе первичного переводного текста «вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде... Процесс, характеризуемый установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями» [1. С. 75]. В следующем примере дополнения переводчика противоречат нормам речевого этикета дагестанцев: Блокноталдаса: Москвалда цIалулев мехалъ инсуца дие гIарац битIун бачIун букIана хасалоялде пальто босеян. Гьудубе-гьанибе ун, пальто босичIого, гIарацги хвезабун вуссана дун. Инсуда аскIоб гьелъул бицен ккараб мехалъ, дун щай пальто босичIебали, гIарац кибе арабали, цоцаде данде кколарел баянал кьезе лъугьана. Инсуца дие кIиго суал кьуна: - Пальто босанищ? - БосичIо. - ГIарац бугищ? - ГьечIо… (стр. 10). Данный текст переведен на русский язык с неоправданными дополнениями переводчика: Из записной книжки. Когда я был московским студентом, отец прислал мне денег на зимнее пальто. Получилось так, что деньги я истратил, а пальто не купил. На зимние каникулы в Дагестан пришлось ехать в том же, в чем уехал летом в Москву. Дома я стал оправдываться перед отцом, на ходу сочиняя всякие небылицы, одну нелепее и беспомощнее другой. Когда я окончательно запутался, отец перебил меня, сказав: - Остановись, Расул. Я хочу задать тебе два вопроса. - Задавай. - Пальто купил? - Не купил. - Деньги истратил? - Истратил (стр. 11). Курсивом выделен текст, добавленный переводчиком. Проблема в том, что в такой ситуации сын никогда не скажет отцу «задавай», поскольку это будет воспринято как проявление неуважения к отцу и нарушение традиционного аварского (дагестанского) речевого этикета. К сожалению, это свидетельствует о том, что переводчик не знаком с дагестанском менталитетом. Еще пример: Дица лъалиниса ханжар бахъулеб буго. МагIарулаз абула: бахъанищ ханжар - кьабе, кьабунищ ханжар - къотIе. Амма кьабилалде цебе цин рекIун бугищали балагьизе ккола (стр. 9). Перевод: Горцы говорят: «Не вынимай кинжал без надобности. А если вынул - бей! Бей так, чтобы сразу убить наповал и всадника и коня». Вы правы, горцы! И все же. Прежде чем обнажить кинжал, вы должны быть уверены, что он хорошо заточен (стр. 9). Везде в переводе вместо «аварцы» употреблено слово «горцы». Это неправильно. Когда пишет магIарулал, Расул Гамзатов имеет в виду аварцев, а не всех горцев. Эндоэтноним магIарулав переводится на русский язык с аварского только как аварец, а не как горец. Лексема магIарулав «аварец» этимологически восходит к слову мегIер «гора», но эта связь утрачена, и ныне слово магIарулав не обладает семантикой «горец». Переводчик добавил здесь фразу Бей так, чтобы сразу убить наповал и всадника, и коня, которой нет в оригинале. Коня-то за что убивать? К чему такая жестокость? Аварцы не такие кровожадные, какими их здесь преподносит переводчик. Назидательный смысл аварской пословицы «Не вынимай кинжал из ножен, если вынул - бей» прямо противоположный, направлен на то, чтобы тот, кто носит кинжал, хорошенько подумал, прежде чем вынуть его из ножен, поскольку в противном случае он вынужден будет применить его по назначению. При переводе текста: «Гьале чода тIикъва-магIал чIван рахъана. Гьеб кьолона» (стр. 44) вместо одного аварского предложения «Вот закончил подковать коня», дан целый текст: Хорошо подкован мой нетерпеливый, мой верный конь. Я сам поднял каждую его ногу и проверил крепость подков. Я оседлал коня, потянул за подпругу. Пальцы едва подлезают под нее. Хорошо и умело оседлан конь (стр. 38). Ничего этого в оригинале нет. Перевод следующего предложения: Дир инсуда релъарав цо херав чияс, узденгалъуб хIетIе лъезегIан гьебги ккун, дун рекIинавуна (стр. 44) [Старик, похожий чем-то на моего отца, отдал мне повод] (стр. 38) свидетельствует о том, что переводчик не понял автора. Расул Гамзатов здесь подчеркивает неопытность ездока, которому помог вставить в стремя ногу старик, похожий на отца автора. Отдать повод и помочь вставить ногу в стремя - совершенно разные действия. Переводчик из неопытного ездока делает опытного наездника. Вольный перевод в данном случае приводит к изменению сути замысла автора. Переводчик должен целостно и точно выразить средствами другого, структурно и типологически отличного языка, содержание оригинального текста, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Как указывает Я.И. Рецкер, «под “целостностью” перевода надо понимать единство формы и содержания на новой языковой основе. Если критерием точности перевода является тождество информации, сообщаемой на разных языках, то целостным (полноценным или адекватным) можно признать лишь такой перевод, который передает эту информацию равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено в нем. Это требование относится как ко всему переводу данного текста в целом, так и к отдельным его частям» [2. С. 7]. Текст: Москвалда лъаларо, Парижалда лъаларо тирулаго цо лакасда вихьун вуго Дагъистаналъул формаялъул, гIагараб бакIалъул махI-хасияталъул чи (стр. 63). Перевод: И вот рассказывают. По большому городу, то ли по Москве, то ли по Ленинграду, бродил по улицам лакец. Вдруг он увидел человека в дагестанской одежде (стр. 56). У автора Москва и Париж, в переводе - Москва и Ленинград. Безусловно, перевод является весьма специфическим видом словесного искусства. Специфику перевода В.С. Виноградов видит в том, что он представляет собой «вторичное» искусство, искусство «перевыражения оригинала на материале другого языка. Переводческое искусство на первый взгляд похоже на исполнительское искусство музыканта, актера, чтеца тем, что оно репродуцирует существующее художественное произведение, а не создает нечто абсолютно оригинальное, тем, что творческая свобода переводчика ограничена подлинником. Но сходство на этом и кончается. В остальном перевод резко отличается от любого вида исполнительского искусства и составляет особую разновидность художественно-творческой деятельности, своеобразную форму «вторичного» художественного творчества» [3. С. 8]. Для успешного перевода текста иной культуры переводчик должен не только в совершенстве владеть переводческой техникой, но и обладать фоновыми знаниями. Перед переводчиком стоят трудные задачи «перевода юмора, устойчивых выражений, сохранения стиля и культурных особенностей, ухода от дословного перевода» [4. С. 40]. Л.С. Бархударов рассматривает перевод как определенный вид трансформации, а именно межъязыковой трансформации [5. С. 6]. Невозможно не согласиться с мнением, что «переводчик, которому следует отдать должное, все же до конца не вник в смысл содержания произведения, пренебрег местами точностью, пунктуальностью при передаче текста оригинала, авторского замысла, концепции и пр. А это, в свою очередь, отразилось на художественном достоинстве перевода, на уровне его адекватности. В результате многие интересные, знаковые с художественной точки зрения высказывания, мысли, оценки Гамзатова, его поэтические миниатюры, зарисовки, штрихи, то есть важнейшие элементы того эстетического мира, который он реализовал с таким мастерством в аварском тексте “Моего Дагестана”, не дошли до русского читателя, а через него и до иноязычных реципиентов» [6. С. 139-140]. Известный немецкий филолог, лингвист, философ и государственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт, к идеям которого восходят все современные лингвистические междисциплинарные науки (лингвокультурология, этнолингвистика, когнитивная лингвистика и др.) рассматривал перевод как средство освоения культурных достижений других народов. По мнению В. Гумбольдта, перевод достигает своих величайших целей, пока переводчик воспринимает другую культуру не как чуждую, а как чужую. Но когда чуждое заявляется во всей своей красе и может затушевывать даже чужое, тогда ясно, что переводчик не дорос до своего оригинала [7], например: НекIсияв магIарулав, Матенадаран дуда Доб мехалъ лъачIогонищ, Лъанигийищ абичIеб? Пикрабазул алмазал, Асаразул жавгьарал, Жанир цIунараб гъамас Босизейищ хIал гIечIеб? Дур бакIалда дицани Нилъер Дагъистаналъе Босилаан доб мехалъ Хъвай-хъвагIайги тIахьалги (стр. 583). Перевод: Ах, горец, горец, предок мой, Какой ты промах дал. Коня и саблю взял с собой, А книгу ты не взял. Не положил ты в свой мешок, Наивный предок наш, Пергамента большой листок, Перо и карандаш. Душа твоя чиста была, Но голова пуста. Нам книга больше бы дала, Чем стали острота. Сравнение перевода и оригинала показывает, что в оригинале слов «голова пуста» нет вообще. В оригинале это передано (буквальный перевод) так: Древний аварец, Ты в то время или не знал Матенадаран, Или хотя знал, но не сказал? (стр. 415). В переводе речь идет о каком-то Селиме, которого нет в оригинале, но нет даже слова «Матенадаран», на которое делает акцент поэт. В оригинале есть обобщение ситуации с Дагестаном целом в том плане, что письменности не было у всех народов Дагестана. В целом, перевод в данном случае совершенно не соответствует тексту оригинала. Заключение Нисколько не подвергая сомнению профессионализм известного отечественного писателя, поэта и переводчика Владимира Солоухина, отметим досадные недоразумения в переводе, обусловленные игнорированием фоновых знаний. Трудно переоценить роль Владимира Солоухина в популяризации книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан», поскольку все иноязычные переводы осуществлялись на основе переводного текста В. Солоухина. И в то же время высока его ответственность за неадекватность перевода, особенно когда речь идет о переводе культурообусловленного текста. В качестве перспективы для дальнейших исследований в этой области можно рассмотреть особенности перевода публицистики Расула Гамзатова, характеризующейся нестандартными формами художественного выражения.
About the authors
Zulaikhat M. Mallaeva
G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art of the Daghestan Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: logika55@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4303-6663
Doctor of Philology, Professor
45, M. Gadzhieva Str., Makhachkala, 367032, Russian FederationMagomed A. Magomedov
G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art of the Daghestan Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Email: dun2@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2333-6565
Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Head of Department of Grammatical Studies
45, M. Gadzhieva Str., Makhachkala, 367032, Russian FederationRashidat Sh. Khalidova
Daghestan State Pedagogical University
Email: rashi-dr@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6150-2704
Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Theory and Methods of Teaching Russian Language and Literature
57, Yaragskogo Str., Makhachkala, 367003, Russian FederationReferences
- Shvejcer, A.D. 1988. Teorija perevoda: status, problemy, aspekty. Moscow: Nauka publ. Print. (In Russ.)
- Recker, Ja.I. 1974. Teorija perevoda i perevodcheskaja praktika. Moscow. Print. (In Russ.).
- Vinogradov, V.S. 1978. Leksicheskie voprosy perevoda hudozhestvennoj prozy. Moscow: Moscow University publ. Print. (In Russ.)
- Kolesnikova, V.S. 2001. K probleme hudozhestvennogo perevoda kak rechemyslitel’noj dejatel’nosti. In Mir jazyka i mezhkul’turnaja kommunikacija Proceedings. Part 1. Barnaul: BGPU publ. Pp. 38—42. Print. (In Russ.)
- Barhudarov, L.S. 1975. Jazyk i perevod (Voprosy obshhej i chastnoj teorii perevoda). Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija publ. Print. (In Russ.)
- Murtazaliev, A.M. 2014. Rasul Gamzatov i Turcija: grani vzaimopoznanija. Mahachkala: ALEF, IJaLI DNC RAN publ. Print. (In Russ.)
- Gumbol’dt, W. 2000. Izbrannye trudy po jazykoznaniju. Moscow: Progress publ. Print. (In Russ.)
Supplementary files