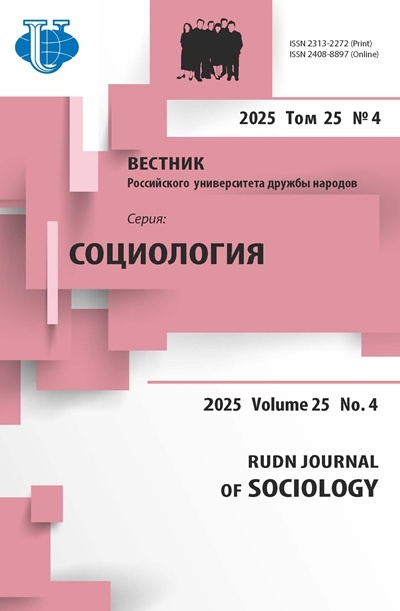The Russian way: Horizons of the future in the context of civilizational confrontation
- Authors: Andreev A.L.1, Andreev I.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Sociology of FCTAS RAS
- Issue: Vol 25, No 4 (2025)
- Pages: 822-834
- Section: Sociological lectures
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/48127
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-822-834
- EDN: https://elibrary.ru/KBHVXR
- ID: 48127
Cite item
Full Text
Abstract
The authors conduct a sociological analysis of the development prospects of the Russian society, focusing on the characteristics of Russian strategies for creating the future in the context of opposition to the Western model of social-historical development. The article considers the theoretical foundations of the sociology of the future, introducing the concept of dynamic lines leading from the past to the future; various types of ideas about the future, including its rationalistic concept as an object of purposeful, constructive activity (a project-based type of social thinking) and Russian ideas about the future in connection with the so-called Russian idea; transformation of the logic of creating the future in the context of Russians’ changing attitudes toward the Western model of development and their history (rejection of the reproductive method of creating the future); Russian style of social development in recent decades and accepted method of creating the future as a traditionalist modernization. The authors believe that it is fundamentally impossible to manage the creation of the future but admit that it is possible to manage our movement towards the future. Based on the sociological research of recent decades, the authors identify the key semantic components of the attractive future for Russia, including the Russian understanding of democracy. When assessing the recent trends, the authors note the changing global civilizational landscape, which creates conditions for a new Russian idea combining notions of “good society” inherent in the Russian cultural-historical tradition with the current global agenda.
Full Text
Будущее в российской ментальности
Среди сущностных качеств человека особое место занимает потребность знать будущее в различных его преломлениях — от личной судьбы до судеб царств и народов. Эта потребность удовлетворялась разными способами — от гаданий и пророчеств до научного прогнозирования и стратегического планирования. В Новое время сложилось отношение к будущему как объекту, который, как все другие объекты, следует подвергнуть направляемым разумом преобразующим воздействиям (проектный тип социального мышления). Такое отношение к будущему можно связать с веберовской концепцией рациональности и рассматривать ориентированную на созидание будущего ментальность как один из признаков современности (modernity) в ее характерологических отличиях от традиционных обществ.
В России формирование такой ментальности просматривается уже в период становления московского самодержавия, когда, как и в странах Европы, усиливались рационалистические устремления Нового времени. Первоначально формирование такой ментальности проявилось в общественной мысли (социально-политические идеи и проекты Ф. Карпова, Ермолая–Еразма, И. Пересветова), но постепенно распространилось на всю сферу государственного мышления. Так, петровские преобразования и создание Российской империи были реализацией определенного проекта будущего — превращения России в «просвещенную Европию». Идеологическая инерция этого проекта давала о себе знать на протяжении всего имперского периода российской истории. Еще большую роль отсылки к образам будущего («прекрасное завтра», грядущее бесклассовое общество и др.) стали играть в советское время. Постепенно приоритетная ориентация на будущее стала одним их характерных элементов как российской политической культуры, так и национальной психологии. Показательно, что у большинства россиян понятие «будущее» вызывает более сильные позитивные ассоциации, чем «прошлое» и «настоящее», хотя аналогичные исследования в других странах показывали иную картину [13].
Если в периоды спокойного эволюционного развития будущее мыслится в основном абстрактно-символически (разумеется, не личное будущее, поскольку восприятие индивидуальных судеб часто сопряжено с сильными переживаниями), то в эпохи быстрых перемен и назревающих социальных потрясений будущее обретает осязаемую конкретность и усиливаемую ощущением неопределенности эмоциональную напряженность. Поскольку Россия долгое время следовала по пути догоняющего развития, в отечественной истории подобные эпохи случались особенно часто. Это обстоятельство далеко не всегда способствовало тому, что в повседневности может расцениваться как улучшение, но дало уникально богатый социальный опыт созидания будущего — как «хорошего», так и «плохого», «катастрофического». Полагаем, что выводы, которые можно извлечь из этого опыта, важны для выработки реалистического понимания проблемы проектирования будущего и стратегий, позволяющих сделать оптимальный выбор из направленных в будущее исторических альтернатив.
Логика проектирования будущего
Что касается стратегий целеполагания, то мировоззрение высших и средних слоев российского общества, начиная по крайней мере с XVII столетия, формировалось и развивалось в поле европейского (и — шире — западного) влияния, которое сохранялось и после революции 1917 года. Более того, несмотря на идеологическое противостояние с буржуазным Западом, в советское время увлечение им стало принимать гипертрофированные и даже экзальтированные формы. Так, в 1920-е годы многие считали, что «страсть к американизму — закономерная черта формирующегося социалистического общества, а американскую деловитость» надо рассматривать как «составную часть ленинского стиля в работе» [12]. На этой культурно-психологической почве получил распространение репродуктивный способ проектирования будущего — как воспроизведения неких существующих за рубежом «передовых» образцов. Едва ли не самый показательный пример репродуктивного подхода — проект создания на южном берегу Крыма грандиозного «советского Голливуда» в 1930-е годы.
Применение репродуктивного подхода имело определенную динамику: вначале он ограничивался отдельными, пусть очень крупными и высокозатратными, но все же локальными проектами, но в годы «перестройки» стал применяться к обширным сферам жизнедеятельности (сельскому хозяйству, образованию и т.д.) и даже ко всему обществу: целью развития на обозримое будущее становилась реализация некой предзаданной социальной «модели»; дискуссии велись лишь по поводу выбора наиболее предпочтительной модели — бескомпромиссного «капитализма сильных» в стиле Р. Рейгана и М. Тэтчер, скандинавского «социализма» или какой-то умозрительной конструкции, составленной из «признаков социалистичности» (по поводу которых теоретикам эпохи «перестройки» так и не удалось договориться). Однако на практике очень быстро выяснилось, что такой метод проектирования и созидания будущего чреват серьезными проблемами, а попытки переносить на российскую почву успешные социальные модели других стран, вопреки ожиданиям, могут приводить к разрушительным последствиям. После 2000 года прослеживается стремление выработать более практичные, эффективные и реалистичные стратегии социально-исторического развития, однако и в теории, и в практике они еще долго переплетались с инерцией скомпрометировавших себя «модельных» стереотипов 1980–1990-х годов. Показательный пример — присоединение к Болонскому процессу (2003), когда вразрез с политикой возрождения суверенной государственности и восстановления позиций страны как великой державы в сфере высшего образования проводился курс на интеграцию России в «европейское образовательное пространство».
Пройдя в 1990-е годы нелегкий период социальных экспериментов, российское общество определенно извлекло из них уроки, в частности, это признание необходимости стратегического суверенитета в созидании будущего. Так, в ходе проведенного ФНИСЦ РАН в 2023 году социологического опроса почти 40 % россиян высказали убеждение, что «Россия должна жить своим умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран». В русле этого крепнущего убеждения постепенно формируется новая культура планирования, которая нашла выражение в разработке национальных проектов. Соответственно, меняется и логика проектирования будущего: теперь задача состоит не в том, чтобы удачно воспроизвести некоторую предзаданную социальную, экономическую, политическую модель, а в том, чтобы исходя из соотношения потребностей и возможностей сформировать набор конкретных национальных целей в основных сферах общественной жизнедеятельности и под эти цели разработать программы их ресурсного обеспечения и алгоритмы их пошагового достижения. Из скоординированных и контролируемых в мониторинговом режиме действий, направленных на достижение конкретных целей, и сложится в дальнейшем своеобразная и неповторимая модель будущего российского общества.
Образ будущего сквозь призму русской идеи
Перспективное видение будущего России так или иначе связано с разрабатывавшимся в отечественной интеллектуальной традиции понятием русской идеи, в котором переплетаются по крайней мере два смысловых аспекта. С одной стороны, русская идея — это некое «слово» и одновременно выражаемая этим словом метаисторическая миссия: «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [11]. С другой стороны, это определенная, консолидирующий россиян как нацию ментальность, благодаря которой российский народ и государство способны возвестить и исполнить миссию, возложенную на них то ли провидением, то ли особенностями их месторазвития, то ли объективной логикой геополитических противостояний. От модели развития национальная идея отличается значительно меньшей детализацией — указывает лишь самое общее направление исторического движения. Кроме того, ее характеризует особая эмоциональная окрашенность, характерная для всех понятий и образов, связанных с экзистенциальными и сакральными смыслами: за модели не сражаются и не умирают, а за национальные идеи — могут.
Концепция русской идеи оказалась эвристически продуктивной (чего и следует ожидать от философии), поскольку была подхвачена политической мыслью и повлияла не только на формирование целого ряда политических концепций, но и опосредованно на политическую практику. Первоначально русская идея трактовалась в финалистском духе — как некое раз и навсегда установленное задание, реализация которого составляет смысл истории и придает смысл существованию России. Однако в философских размышлениях более позднего времени за русской идеей стали признавать способность приобретать разные исторические формы, например, Н.А. Бердяев трактует идеологию русского коммунизма как особую модификацию традиционного русского мессианизма, начало которому положила теория третьего Рима. Однако во всех случаях русская идея понималась как своего рода проекция изначальной сущности народа, порождение его духовных сил и отражение его внутренней эволюции (не исключающей выборочного восприятия определенных внешних влияний, преимущественно интеллектуальных). Культурно-психологические черты народа задают границы ментального пространства, в рамках которого формируется и как бы «пульсирует» тот комплекс ориентированных на будущее образов, представлений, идеалов, ценностных установок, целеуказаний, суждений о должном и недолжном, который и называют национальной идеей. Поэтому национальную идею нельзя изобрести, а затем внедрить в массовое сознание, как в свое время наивно полагали ведущие идеологи администрации Б.Н. Ельцина. Разумеется, их инициатива не встретила в обществе отклика, и большинство россиян не проявило энтузиазма в отношении спущенных «сверху» целей на будущее. Да и какие «большие идеи» (демократию, рыночную экономику, мультикультурализм, этику успешности) могла предложить перенастраивавшаяся по западным образцам Россия 1990-х годов? Казалось, что Запад выигрывает конкурентную борьбу проектов будущего, и в этой ситуации русская идея утрачивала raison d’être — оказывалась ненужной ни миру, ни самим россиянам.
Однако к концу 1990-х годов ситуация стала быстро меняться, заставляя вновь задуматься над гегелевским концептом иронии истории: момент, переживаемый тем или иным деятелем, народом, государством как момент их высшей славы, на самом деле становится начальной точкой их падения. Не произошло того «слома ядра русской культуры» [6] и «переналадки» системы ценностей в соответствии с ориентированной на западные, преимущественно американские, образцы «этики успеха», которого стремились добиться западные советники и следующие их рецептам «молодые реформаторы» гайдаровского призыва. Напротив, случилось нечто противоположное — возвращение российского общества к собственным ценностям, традициям, идеалам и мечтам. Многое из того, что отличало российский социум от западных обществ и еще недавно оценивалось как помеха, стало вновь рассматриваться как ценность. По данным социологических исследований, сегодня категорических сторонников западных ценностей среди россиян не более 7 %, а вместе с теми, кто готов принять западную модель развития и западные правила за основу, — около 20 % [9]. Эта тенденция постепенно становилась доминирующей и привела к разделению образа будущего и образа Запада: желаемое будущее стало мыслиться уже не как превращение России в страну западного типа, а как реализация издавна крайне важного для россиян принципа социальной справедливости, укрепления национальных традиций и перехода на путь инновационного развития, чтобы страна стала одним из мировых лидеров научного и технологического прогресса. Одновременно происходило «выветривание» тех элементов прекраснодушного и несколько наивного альтруизма, которые были присущи некоторым интерпретациям русской идеи, особенно советским практикам бескорыстной, в ущерб себе, помощи всем странам и народам, которые декларировали дружбу с Россией и идеологическую с ней близость.
Путь в будущее как создание «хорошего общества»
Изменения в общественном сознании и политическом мышлении создавали новое пространство возможностей, стимулируя российские интеллектуально-политические элиты к поиску исторических и концептуальных оснований для самоопределения и проектирования будущего, согласующихся с массовыми представлениями о «хорошем обществе». Исследования по исторической социологии, как и многолетние мониторинговые опросы последних десятилетий показывают, что эти представления весьма устойчивы и в некоторых случаях имеют давние истоки. Так, первое место в рейтинге российских ценностей занимает социальная справедливость: по данным всероссийских опросов 2021–2023 годов реализацию принципа справедливости на первое место в иерархии целей на будущее выдвигает примерно половина россиян [7]. При этом, вопреки распространенной в либеральной публицистике 1980–2000-х годов точке зрения, понимается принцип справедливости не как «все отнять и поделить». Главные ее составляющие — искоренение коррупции, соблюдение социальных прав, благоприятные условия для самовыражения, беспристрастное правосудие и соответствие вознаграждения реальным заслугам человека перед обществом.
Кроме того, в представлении россиян будущее России — это однозначно путь инновационного развития. В условиях нарастающего противостояния цивилизаций страна должна стремиться к роли лидера в области науки, технологий и высокотехнологичных отраслей экономики. При этом риски научно-технического прогресса вызывают у россиян тревогу намного реже, чем у европейцев. Почти половина россиян (46 % в 2016 году) полагает, что совершенствование технологий в конце концов позволит решить основные проблемы человечества, тогда как среди европейцев так считает почти в два раза меньше респондентов [2]. Важно отметить, что в России приверженность инновационной модели развития не перерастает в абсолютизацию новизны, а органично сочетается с глубоким уважением к традициям. Так, по данным опроса 2024 года слово «традиции» вызывает положительный отклик у 87 % опрошенных россиян, отрицательный — у 2 % (сооветствующие показатели понятия «инновации» — 71 и 7 %) [13]. Эти и аналогичные данные позволяют охарактеризовать реализуемый в настоящее время российский стиль проектирования будущего как традиционалистскую модернизацию [8].
Проецируя свои представления о «хорошем обществе» на будущее страны, россияне не видят альтернативы демократии, но понимают ее иначе, чем на Западе. В ходе проводившихся в разное время опросов россиянам предлагали расположить основные признаки демократии в порядке их значимости: оказалось, те из них, что на Западе признаются определяющими (например, многопартийность и постоянная сменяемость лиц у власти), в России оказались в середине или даже конце списка, потому что россияне ценят не формальные процедуры, а социальные характеристики демократии, считая не менее важными, чем на Западе, наличие политической оппозиции и независимость СМИ. Однако главная задача политической оппозиции, по мнению большинства россиян, — не в том, чтобы сменить находящееся у власти правительство (модель политического маятника), а чтобы своей критикой «помогать ему в решении общенациональных задач» [10].
В русле этих взглядов и настроений с конца 1990-х — начала 2000-х в России формируется культурно-психологическая почва для пересмотра сложившегося в условиях кризиса советской системы представления о будущем в русле западных социально-экономических и политических моделей. В марте 2024 года, выражая свое мнение по поводу уроков, которые следует извлечь из нашей истории, более половины россиян согласились с утверждением, что Россия должна жить своим умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран. Но как можно претворить это мнение в конкретные практические действия? Опыт хаотических социально-экономических трансформаций кризисного периода показал, что желаемое будущее не может возникнуть само по себе из игры стихийных социальных, экономических и политических сил без опоры на целенаправленную деятельность и государственное планирование, что, однако, не означает возвращения к не отвечающей реалиям рыночной экономики и быстро меняющимся социальным потребностям практике советского Госплана. Стратегическое планирование, как его стали понимать в современной России, начинается с определения национальных целей, утверждаемых, как правило, указами президента, а главными инструментами достижения национальных целей стали комплексные федеральные программы, получившие название национальных проектов. Концентрация ресурсов на тщательно отобранных и выстроенных в определенную последовательность стратегических целях создает сильный мультипликативный эффект, что позволяет эффективно решать самые болезненные проблемы (созданные неумелыми реформаторами 1990-х годов и коренящиеся в значительно более отдаленном прошлом) и открывает возможности для опережающего развития и быстрых ресурсно-технологических маневров, эффективно реализующих самые «горячие» разработки сегодняшнего дня (примеры — успехи в наращивании сельскохозяйственного производства, чрезвычайно быстрая и интенсивная цифровизация, интенсивное развитие инфраструктуры для высоконагруженных систем, создание в сжатые сроки полноценной индустрии беспилотных летательных аппаратов и др.).
Можно ли управлять будущим?
Если будущее не просто наступает, но созидается, причем с использованием определенных социальных технологий (стратегическое планирование, мониторинговый контроль за исполнением и др.), то нельзя ли поставить перед собой задачу управлять будущим? Такое словосочетание стало появляться в литературе, но реального социологического смысла не имеет, потому что для управления объектом (явлением) необходимо определенного типа знание, позволяющее построить идеальную модель объекта. Попытки моделирования процессов социально-исторического развития предпринимались (например, марксизмом), но все они в конечном счете расходились с действительностью. И дело не столько в недооценке каких-то эмпирически данных, сколько в ограничениях принципиального характера. Один из них — так называемый эффект Эдипа: знание об обществе, влияя на установки и поведение индивидов, со временем оказывает существенное влияние на само общество, вызывая такие изменения в сознании и социальном поведении, которые коренным образом меняют траектории социального развития. Поскольку же объект знания становится другим, он, подобно мифическому Протею, как бы ускользает из сети призванных «схватить» его теоретических категорий — теперь для его понимания требуется новое знание, но, даже если оно будет выработано, через некоторое время ситуация повторится. Как отметил А. Шюц, «допущение о том, что конечное мышление может обладать совершенным знанием о будущих событиях, ведет к неразрешимым противоречиям» [14]. На практике эффект противоречий усиливается и другими факторами неопределенности, в частности, неконтролируемыми и часто неожиданными природными «выбросами», а также технологическими изменениями, которые сложно в полной мере предугадать.
Из сказанного следует принципиальная нереализуемость социально-исторических концепций, направленных на реализацию неких фиксированных конечных целей — будь то марксов «скачок из царства необходимости в царство свободы» с формированием бесклассовой социальной структуры или фукуямовский глобальный либеральный порядок. Однако данный вывод не следует истолковывать в духе исторического пессимизма и тем более фатализма: будущим нельзя управлять, но можно управлять движением в будущее, используя не финалистские, а рефлексивно-градуальные стратегии, предполагающие периодические фазы ментальной реконструкции (выстраивания новой картины мира с корректировкой базовых целеуказаний и образов желаемого будущего).
В рамках таких стратегий важно правильно зафиксировать характеристики начальной стадии, ответив на вопрос о субстрате и субъекте изменений. Данная задача нетривиальна, потому что социальная реальность всегда неоднозначна — сложностная реальность [5] не только может быть описана по-разному, но и требует для своего описания разных языков. Так, культурно-исторические особенности российского общества долгое время пытались свести к таким социологическим и политическим характеристикам, как «тоталитаризм», «отсутствие гражданского общества», «психология рабства» и т.п., и на этой почве широко распространились теории «демократического транзита», которыми в России увлекались в 1990-е — начале 2000-х годов и которые на поверку оказались наукообразной схоластикой. Для выявления заложенных в российском социуме реальных импульсов развития важнее всего понимать, как устроена определяющая социальные устремления мотивационная среда. В этом смысле Россию с конца XIX века следует рассматривать с точки зрения формирования особого типа социальности, завершение которого совпадает с периодом так называемой оттепели и «экономическим чудом» середины 1950-х — середины 1960-х [1]. Тогда социальная история постсоветской России предстает как история частичного разрушения данного типа социальности (в 1990-е), а затем его частичной реставрации и интеграции с другими социальными формами и тенденциями, в том числе новейшими, возникающими буквально на наших глазах в быстро меняющихся условиях начала XXI века.
Динамические линии социально-исторического процесса
Зафиксировав положение вещей как точку отсчета на пути в будущее, мы получаем логическое основание для следующего шага. Аналитически общий ход социально-исторического процесса может быть представлен как суперпозиция (наложение) нескольких взаимодействующих, но независимых процессов, которые мы назовем динамическими линиями. В принципе таких линий всегда несколько, и их число меняется. В этом плане ситуация начала XXI века отличается повышенной сложностью, поскольку в последнее время к постоянно или, по крайней мере, издавна присутствующим в социальной истории динамическим линиям (рост хозяйственной продуктивности, совершенствование технологий, смена политических, экономических и культурных элит, увеличение плотности населения и антропогенной нагрузки на природу, усиление транспортной связанности территорий и т.д.) добавился ряд новых, имеющих важные последствия процессов (массовые миграции, становление так называемого многополярного мира, перестройка климатических циклов и т.д.). Поскольку Россия является государством-цивилизацией и ее будущее во многом определяется этим специфическим двойным статусом, следует обратить внимание на ряд мегатрендов, которые предположительно являются началом зарождающихся динамических линий, ведущих к возникновению принципиально новых цивилизационных форм и изменению отношений между цивилизациями.
В первую очередь, это отчетливо наметившаяся специализация в рамках глобальной системы уже не только отдельных стран, но и целых цивилизаций. Примечателен, в частности, наблюдаемый в последние десятилетия демографический кризис во всей экономико-географической зоне техногенной «развитой экономики», сделавший ее зависимой от импорта человеческих ресурсов. При этом вместо ожидавшейся ассимиляции мигрантов и возникновения мультикультурных обществ происходит освоение принимающих территорий мигрантами-носителями иных культур и формирование постепенно расширяющихся этнокультурных анклавов — своего рода обратная колонизация. Впрочем, кризис проявляется не только в падении рождаемости и нехватке рабочих рук — в развитых странах Запада это и снижение уровня политического мышления правящих элит. Примечательны слова вице-президента США Дж.Д. Вэнса об угрозе цивилизационного самоубийства Европы как колыбели западной культуры [4]. Если в обозримой перспективе данная угроза не будет устранена, произойдет глубокая перестройка всего глобального цивилизационного ландшафта, что так или иначе затронет Россию и ее будущее. Дело в том, что исчезнет не только навязчивый противник, периодически охватываемый волнами русофобии, но и «значимый Другой» как важный фактор самоопределения и в каком-то смысле самосовершенствования. В результате скорее всего произойдет перестройка смысловых матриц российской идентичности с актуализацией сформулированной когда-то славянофилами идеи «второй Европы».
Другая важная с цивилизационной точки зрения динамическая линия связана с социально-антропологическим резонансом от ряда новейших технологий. Конечно, технический прогресс всегда был важным фактором социальных изменений и двигателем истории, однако совокупность новейших технологических разработок настолько сильно меняет антропологическое значение техники, что технологическую революцию конца ХХ — начала XXI века можно считать началом новой динамической линии в эволюции системы социум–техносфера–природа. В течение многих столетий — вплоть до середины ХХ века — технические устройства и приспособления служили своего рода усилителями естественных сил человека (способности видеть, слышать, поднимать тяжести, перемещаться в пространстве, менять форму различных предметов и т.д.), но сегодня многие новейшие технологии в парадигму органопроекции уже не укладываются. И человек недалекого будущего, способный трансформировать тело, редактировать генотип, мыслить с помощью искусственного интеллекта и производить на свет клоны живых организмов, — в социально-философском и антропологическом смысле совсем не то человеческое существо, каким его знала предшествующая история по крайней мере до второй половины ХХ века. С одной стороны, возможности «нового» человека сильно возросли. С другой стороны, наметились серьезные проблемы с суверенитетом личности: человек из «хозяина техники» может превратиться в функциональный элемент информационно-технологических систем с соответствующим упрощением ментальности, симптомы которого заметны уже сегодня. Теоретическим откликом на эту тенденцию стало распространение в социологической и философской литературе идей трансгуманизма, причем на Западе они имеют тенденцию радикализации вплоть до признания неизбежным финала человеческой истории и перехода к «постчеловеческой цивилизации» [3].
***
Динамические линии, переплетение и взаимодействие которых и составляет ход истории, можно отнести к двум основным категориям — социетальным и цивилизационным изменениям, причем ведущими драйверами хода истории становятся то одни, то другие. Рискнем высказать гипотезу, которая согласуется с наблюдениями других социальных теоретиков: в современных условиях ведущую роль в социальных изменениях всемирно-исторического значения играют цивилизационные динамические линии, и разворачивающееся многообразие цивилизационных процессов невозможно свести к отношениям конфликтного типа. Поэтому, в отличие от С. Хантингтона, мы предпочли бы охарактеризовать происходящее не как столкновение цивилизаций, а как трансформацию глобального цивилизационного ландшафта. Соответственно, стратегии достижения социальных и политических целей российского общества должны сообразовываться с этой трансформацией по принципу «вызов– ответ», т.е. социальные цели (выправление демографической ситуации, ликвидация бедности, снижение уровня социального неравенства и т.п.), должны быть увязаны с цивилизационными, что может стать залогом реактуализации русской идеи как идеологической формы, совмещающей в себе русскую мечту и повестку дня для всего человечества.
Разумеется, речь не идет о простом повторении того, что говорили Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев или Н.А. Бердяев, а о программе, исходящей из современной реальности и способной реагировать на экзистенциальные вызовы и угрозы. В первую очередь, это необходимость снятия нарастающих противоречий между тотальным поглощением нашей субъектности большими социотехническими системами и логикой воспроизводства сущностных сил суверенного человечества — эти противоречия в обозримой перспективе могут привести к своего рода антропному кризису. В ситуации выбора между разными вариантами глобального развития новая русская идея, опирающаяся на традиционные ценности, выглядит не как ресентимент, а как гуманистический проект будущего: когда в курсе социально-исторической эволюции обозначилась некая постчеловеческая перспектива, речь должна идти об удержании хода истории на такой траектории, где человек останется человеком, полностью сохранив свою сущность.
About the authors
A. L. Andreev
Institute of Sociology of FCTAS RAS
Author for correspondence.
Email: sympathy_06@mail.ru
Krzhizhanovskogo St., 24/35-5, Moscow, 117218, Russia
I. A. Andreev
Institute of Sociology of FCTAS RAS
Email: v-andreev_07@mail.ru
Krzhizhanovskogo St., 24/35-5, Moscow, 117218, Russia
References
- Andreev A.L. “Problema Andropova”: k sotsiologicheskoj kharakteristike sovetskogo obshchestva [“Andropov’s problem”: A sociological characteristic of the Soviet society]. Vestnik Instituta Sotsiologii. 2023; 1. (In Russ.).
- Andreev A.L., Andreev I.A. Tekhnika v sotsialnom kontekste: k kharakteristike rossijskogo opyta [Technology in the social context: Russian experience]. Filosofiya Khozyajstva. 2023; 2. (In Russ.).
- Ivanchenko M.A. Osnovaniya dlya postroeniya natsionalnoj idei Rossii: usilenie intellekta kak alternativa silnomu iskusstvennomu intellektu [Foundations for Russia’s national idea: Strengthening intelligence as an alternative to the strong artificial intelligence]. Voprosy Filosofii. 2025; 2. (In Russ.).
- Interviyu J.D. Vance telekanalu Fox News, fevral 2025 [Interview of J.D. Vance to the Fox News channel in February 2025]. URL: https://rutube.ru/video/8ac6249f22073be6498928f236b7e7a4. (In Russ.).
- Mainzer K. Slozhnosistemnoe myshlenie. Materiya, razum, chelovechestvo. Novy sintez. [Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind]. Moscow; 2009. (In Russ.).
- Rakitov A.I. Tsivilizatsiya, kultura, tekhnologiya i rynok [Civilization, culture, technology and the market]. Voprosy Filosofii. 1992; 5. (In Russ.).
- Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni. Kn. 7 [Russian Society and Challenges of the Time. Book 7]. Moscow; 2024. (In Russ.).
- Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni. Kn. 4 [Russian Society and Challenges of the Time. Book 4]. Moscow; 2016. (In Russ.).
- Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni. Kn. 6 [Russian Society and Challenges of the Time. Book 6]. Moscow; 2022. (In Russ.).
- Rossiya na rubezhe vekov [Russia at the Turn of the Century]. Moscow; 2000. (In Russ.).
- Russkaya ideya [Russian Idea]. Moscow; 1992. (In Russ.).
- Stalin I.V. Ob osnovah leninizma [On the foundations of Leninism]. Stalin I.V. Sochineniya. Vol. 6. Moscow; 1947. (In Russ.).
- “Strela vremeni” v massovom soznanii rossiyan: otsenki proshlogo, suzhdeniya o nastoyashchem, predstavleniya o budushchem [“Arrow of Time” in the Russian Mass Consciousness: Assessments of the Past, Judgments about the Present, Ideas about the Future]. Moscow; 2024. (In Russ.).
- Schutz A. Smyslovaya struktura povsednevnogo mira. Ocherki po fenomenologicheskoj sotsiologii. [The Everyday World: Essays on Phenomenological Sociology]. Moscow; 2003. (In Russ.).
Supplementary files