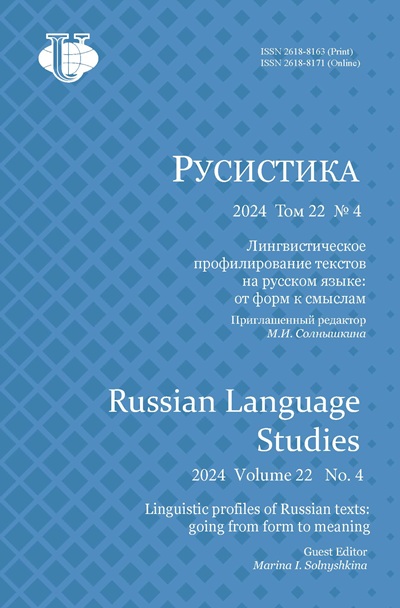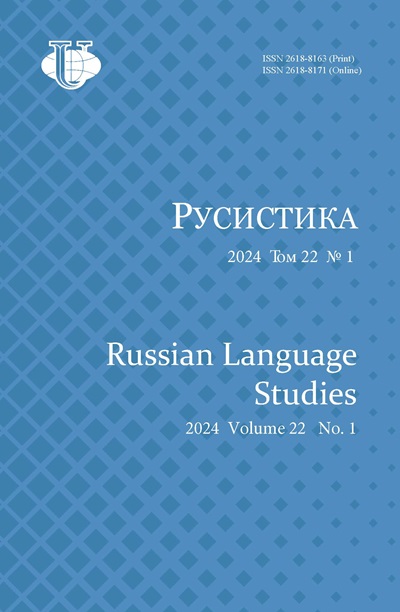Падежная система в процессе освоения русского языка как первого и второго
- Авторы: Цейтлин С.Н.1, Круглякова Т.А.2
-
Учреждения:
- Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том 22, № 1 (2024)
- Страницы: 135-149
- Раздел: Методика преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/39392
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-8163-2024-22-1-135-149
- EDN: https://elibrary.ru/QTISXN
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Актуальная задача создания инновационных технологий преподавания русского языка как родного, неродного и иностранного, учитывающих возраст обучающихся, их когнитивные способности и особенности первого языка, требует проведения фундаментального психолингвистического изучения процессов, сопровождающих становление языковых механизмов детей и взрослых. Цель исследования - уточнение представлений об овладении русской падежной грамматикой в различных условиях освоения языка. В качестве основного выбран метод сопоставительного анализа процессов овладения русской падежной грамматикой в ситуации одноязычия, симультанного детского двуязычия, изучения русского языка как иностранного во время обучения в вузе и освоения русского языка иноязычным ребенком в ходе естественной коммуникации. Материал получен в ходе лонгитюдного наблюдения за речью учеников младших классов школ Санкт-Петербурга - носителей тюркских и кавказских языков. Дана классификация ошибок выбора и ошибок конструирования падежных форм. Описаны пути доступа к ментальному лексикону и механизмы становления процедурных правил пользования грамматикой. Выявлены стратегии морфологической редукции и сверхгенерализации, позволяющие индивиду конструировать собственную падежную систему на ранних стадиях. Сделан вывод о дисбалансе между когнитивным и коммуникативным развитием ребенка-инофона и уровнем владения языком, который приводит к характерному для сукцессивного естественного билингва построению развернутого, но грамматически не оформленного высказывания. В то время как русскоязычный ребенок прибегает к извлечению из памяти готовых предложно-падежных конструкций, ребенок-инофон самостоятельно конструирует предложно-падежные формы, соотнося предлог с базовой формой существительного. Дальнейшие перспективы видятся в выработке единого инструментария, позволяющего исследовать становление грамматических механизмов, в расширении эмпирической базы. Полученные сведения о речевом онтогенезе должны учитываться при построении научно обоснованных методик преподавания русского языка как неродного и иностранного.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В последнее время активно обсуждается вопрос о специфике освоения и, соответственно, методах преподавания русского языка детям и взрослым в разных ситуациях. Лингвисты ведут дискуссии о приемлемости использования терминов и границах таких понятий, как первый, второй, родной, неродной, материнский, иностранный, херитажный язык (отличный от языка окружения язык, освоенный в кругу семьи в ситуации миграции); билингвы, инофоны; освоение, усвоение языка, обучение языку и т. д. (см., например: Залевская, Медведева 2002: 7–10; Кудрявцева, Громова, 2013; Московкин, 2019; Низник, 2019; Хамраева, 2018 и др.). Методисты разрабатывают специальные линейки учебников для каждой ситуации, однако специфика протекания речевой деятельности в различных условиях исследована недостаточно. При наличии исследований, посвященных освоению падежной системы русского языка детьми-монолингвами (Воейкова, 2015; Гвоздев, 2007; Ионова, 2007), детьми-билингвами (Протасова и др., 2017; Янссен, Пеетерс-Подгаевская, 2016; Ringblom, 2014) и взрослыми иностранцами (Cherepovskaia et al., 2021; Kempe, Brooks, 2008; Portin et al., 2008), сопоставление представленных данных предпринимается крайне редко (Ван, 2022; Schwartz, Minkov, 2014).
Мы исходим из убеждения, что в речевой деятельности вырабатываются и используются процедурные правила, регламентирующие выбор языковой единицы, основанный на знании ее семантических и структурных функций, а в случае ее отсутствия – самостоятельное конструирование. Естественный путь в язык начинается со спонтанного анализа речевого инпута, в результате которого формируется ментальный лексикон и ментальная грамматика. При этом с декларативными правилами ребенок знакомится гораздо позже, и именно на их осмысление направлены уроки родного языка в школе. Перед взрослым, осваивающим язык в ситуации направленного обучения, напротив, стоит задача автоматизировать навык использования декларативных правил. Разумеется, часть информации тоже осваивается имплицитно; преобладание стратегии «сверху вниз» или «снизу вверх» зависит и от методики преподавания, и от психологических особенностей индивида, но невозможно переоценить роль сознательного в изучении языка взрослым.
В детстве когнитивное, коммуникативное и языковое развитие происходит параллельно. Формирование сознания влечет усложнение коммуникативных намерений, что в свою очередь, как писал Д. Слобин, приводит к «появлению новых средств, позволяющих распознавать выражение этих намерений в речи» (Слобин, 1984: 159). Взрослый, напротив, уже знает способы выражения значений в родном языке, а потребность формулировать мысли на новом существенно опережает его возможности.
Ребенок, осваивающий русский язык как неродной в русскоязычном окружении, получает из речевого инпута процедурные правила, но при этом его инпут беднее, чем у монолингва, а когнитивные способности и коммуникативные потребности, как правило, опережают языковые возможности. Мы предположили, что при освоении языка ребенком-инофоном возникают трудности, которые испытывают русскоязычные дети и взрослые иностранцы.
Анализ затруднений, которые испытывают при освоении русского падежа носители и неносители языка разного возраста, может способствовать формированию представлений об общих и специфических чертах процессов овладения языком, а следовательно, расширению потенциала методических средств в арсенале преподавателей.
Цель исследования – уточнение представлений об овладении русской падежной грамматикой в различных условиях освоения языка. Основным предметом является речь детей, осваивающих русский язык как неродной.
Методы и материалы
На первом этапе предпринят краткий обзор исследований освоения падежа русскоязычными детьми и взрослыми носителями разных языков. В мировой науке исследования в области First Language Acquisition и Second Language Acquisition дополняют друг друга, но в отечественной лингвистике процессы освоения русского языка как родного исследуются онтолингвистами, как иностранного – специалистами в области русского языка как иностранного (РКИ), и часто достижения тех и других остаются неизвестными представителям смежных областей, поэтому использование сравнительно-аналитического метода представляется крайне актуальным.
В дальнейшем мы опирались на данные, полученные лонгитюдным методом, то есть методом включенного длительного наблюдения за русской речью иноязычных детей в естественных условиях. Наблюдение за стратегиями выбора и конструирования падежных и предложно-падежных словоформ (СФ, ППСФ) в речи четырех носителей азербайджанского языка 4–6 лет проводилось С.Н. Цейтлин. Наблюдения проходили в ситуации непринужденного общения ребенка и экспериментатора, записи велись от руки, а затем подвергались систематизации и анализу (проанализировано 100 инноваций).
Также использованы выполненные Г.С. Рогожкиной записи речи 33 младшеклассников школы № 624 Санкт-Петербурга, носителей тюркских и кавказских языков. Наблюдения проводились во время дополнительных занятий по русскому языку и включали в себя как фиксацию естественной речи, так и ответы учеников на специально разработанные учителем вопросы. Записи велись от руки и содержат около 150 инноваций в области существительных. Материалы хранятся в Фонде данных детской речи (РГПУ им. А.И. Герцена, ИЛИ РАН).
Мы сознательно избегали применения экспериментального метода, потому в работе не приводятся привычные для современных исследований количественные данные. Убеждены, что в ситуации эксперимента дети опираются на иные, чем в естественных условиях, механизмы речевой деятельности, и потому экспериментальные данные, представленные в научной литературе, нуждаются в дополнительной проверке при помощи иных, «экологически чистых» методов.
Результаты
Сопоставление данных об освоении русской падежной системы русскими детьми-монолингвами, детьми-билингвами, осваивающими русский как второй родной, и взрослыми иностранцами с результатами анализа наблюдений за речью детей, овладевающих русским как неродным в ситуации естественной коммуникации, позволило сформулировать результаты исследования.
- Дети и взрослые, осваивая язык в естественных и искусственных условиях, самостоятельно конструируют его грамматику, совершая ошибки, обусловленные спецификой строения категории падежа.
- На начальных этапах иноязычные дети и взрослые прибегают к морфологической редукции, игнорируя некоторые синтаксические конструкции, устраняя семантические и формальные различия между единицами языка.
- Процедурные правила вырабатываются на основе категоризации представлений о СФ и ППСФ. При восприятии речи внимание слушающего сосредоточено на постижении смысла, и усвоение пакета лексических и морфологических значений проходит в фоновом режиме.
- Русскоязычный ребенок совершает ошибки выбора реже, чем иноязычные дети и взрослые. Эти ошибки легче поддаются логическому объяснению и быстрее исчезают.
- Языковое, когнитивное и коммуникативное развитие моноязычного ребенка гармонично, его инпут комфортно организован. Развитие синтаксиса и морфологии взаимосвязано и происходит постепенно. У детей, осваивающих русский как неродной, наблюдается дисбаланс между когнитивным и коммуникативным развитием, с одной стороны, и уровнем владения языком, с другой. Готовность строить многокомпонентное высказывание может существенно опережать возможности грамматического варьирования.
- При освоении языка человек движется от использования замороженных ППСФ к их разделению и осознанию моделей, а затем к блоковому хранению и извлечению из памяти в процессе речевой деятельности.
- При отсутствии необходимой СФ или затрудненном доступе к ментальному лексикону происходит ее конструирование. Ошибки конструирования объясняются сложностью русской морфологии. При использовании языка, изученного в учебной ситуации, человек склонен извлекать из памяти готовые СФ; при естественном пути в язык конструирование СФ более частотно.
- Носитель языка обычно извлекает из памяти готовый каркас синтаксемы, состоящий из предлога и соответствующей флексии; неносители конструируют ППСФ.
- Факт совпадения ошибок при освоении русского языка носителями типологически разных языков говорит о том, что их причина связана с фактом вторичности осваиваемой языковой системы, а не с давлением родного языка.
Обсуждение
Специфика овладения падежом определяется планом содержания и планом выражения этой категории. В плане содержания необходимо освоить семантический потенциал каждой из падежных граммем, который увеличивается при сочетании СФ с предлогами. Выбор граммемы бывает продиктован не только семантической функцией, но и лексическими требованиями: некоторые глаголы и предлоги употребляются с определенными СФ. Осложняет выбор грамматическая омонимия и омофония. Так, при восприятии финали [и] слушающий вынужден учитывать арсенал значений им., род., вин. пад. (орфографическая флексия -и), дат. и предл. пад. (орфографическая флексия -е).
СФ и ППСФ могут извлекаться из ментального лексикона в готовом виде, степень их закрепленности в памяти напрямую зависит от частотности лексем и аллолексов, от продуктивности и регулярности словоизменительных моделей. Овладение планом выражения предполагает способность конструировать СФ, если нужные единицы отсутствуют или доступ к ним затруднен. Наличие трех вариантов склонения в мягкой и твердой разновидностях, безударность флексий, осложняющая отнесение существительного к определенному типу, вариантные формы образования род., им. пад. ед. и мн. ч.; предл., род. пад. ед. ч. существительных муж. р., наличие морфонологических изменений в основе могут служить препятствием для верного образования СФ.
Представим данные, характеризующие освоение формы и содержания категории падежа в различных ситуациях овладения русским языком.
Освоение падежной грамматики русскоязычным ребенком. Начиная с публикации первых дневников речевого развития исследователи обсуждали способы образования форм и порядок их появления в речи (Гвоздев, 2007: 393). Отмечалось, что изначально существительные представлены в им. пад., первое противопоставление им./вин. пад. позволяет ребенку по-разному маркировать субъект и объект. Дальнейшая последовательность может быть различной, но, как отмечает М.Д. Воейкова, формы косвенных падежей, включая вин. пад., появляются почти одновременно (Воейкова, 2015: 144). Н.И. Лепская считала, что, несмотря на многочисленные попытки, установление порядка появления падежей не имеет научной ценности: маленькие дети осваивают значения раньше, чем способы их выражения, или прибегают к собственным грамматическим способам таким, как порядок слов (Лепская, 1997: 64–67). К сходным выводам приходят и другие исследователи (Babyonyshev, 1993; Мурашова, 2000; Ионова, 2007).
Опережением в освоении значений можно объяснить неоднократно зафиксированное отсутствие ошибок выбора СФ (Гвоздев, 2007: 394; Воейкова, 2015: 144; Ионова, 2007: 77; Уфимцева, 2015: 118 и др.). При этом, по словам Н.В. Уфимцевой, в детской речи «значения падежей отличаются гораздо большей простотой и последовательностью, чем в языке взрослых» (Уфимцева, 2015: 118). Употребление СФ на ранних этапах сверхегенерализовано. Так, наблюдаемый нами в течение длительного времени А. до 2 л. 10 м. для выражения любых объектных значений использовал -у, а в речи Т. (1 г. 10 м.) -ами указывало на объект как во множ., так и в ед. ч.
Большинство исследователей отмечают, что флексия осваивается раньше предлога (Гвоздев, 2007: 458). Н.И. Лепская приводит сведения об использовании предлога с псевдоименительной формой, но также отмечает, что объединение предлога с «чужим» окончанием происходит крайне редко (Лепская, 1997: 66–67).
В результате наблюдений за конструированием форм разработана классификация формообразовательных инноваций (Цейтлин, 2009: 160–198) и обнаружены некоторые дефолтные правила образования СФ (предпочтение флексии -ов в род. пад. мн. ч., отнесение существительных, оканчивающихся на безударную гласную, к жен. р. и др.).
Описаны две стратегии обработки морфологически сложных слов: хранение в ментальном лексиконе готовых СФ или разложение их на отдельные морфемы и последующее реконструирование в речи. Выбор стратегии зависит от психологических особенностей индивида и языковых характеристик сигнала: частотности слова, регулярности и продуктивности словоизменительной модели. Доказано, что выбор стратегии обусловлен регулярностью морфологических правил, перцептивной выпуклостью граммем, степенью вариативности морфем в осваиваемом языке (Portin et al., 2007: 137; Janssen, 2016: 288). Вопрос о том, как часто русские дети в сравнении с детьми, осваивающими языки с менее сложной морфологией, предпочитают аналитический путь и когда прибегают к конструированию, остается открытым.
Освоение падежной грамматики в ситуации симультанного детского двуязычия. Под симультанным двуязычием мы понимаем одновременное освоение нескольких языков. В науке имеются данные об освоении русского падежа в результате одновременного освоения русского и грузинского (Имедадзе, 1979), финского (Протасова и др., 2017), немецкого (Janssen, Meir, 2019), иврита (Schwartz, Minkov, 2014), голландского (Янссен, Пеетерс-Подгаевская, 2016), английского (Bar-Shalom, Zaretsky 2008; Чиршева, 2012), шведского (Ringblom, 2014). Исследователи отмечают общность становления падежной системы у носителей разных первых языков, а также у монолингвов и билингвов. Г.Н. Чиршева утверждает, что ошибки в речи билингвов объясняются не влиянием родного языка, а характерными особенностями усвоения субстантивных синтаксем (Чиршева, 2012: 273).
В первую очередь параллелизм очевиден в области конструирования форм. Так, для русско-финских билингвов характерно отмеченное у монолингвов невыпадение беглой гласной, сложности в освоении ср. рода, перенос ударения (Протасова и др., 2017: 783), а для детей с первым ивритом – сложности в осознании категории одушевленности, освоении ср. рода и 3-го склонения, инновации в род. пад. мн. ч., включая замены род. пад./предл. пад. (Schwartz, Minkov, 2014: 55).
М. Шварц и М. Минков полагают, что к конструированию СФ способны дети, познакомившиеся с русским языком на этапе формирования базовых навыков в пользовании флективной грамматикой. Ошибки у них сохраняются дольше, что вызвано качеством русского инпута (Schwartz, Minkov 2014: 55). Другое объяснение темповых задержек предложила Н.В. Имедадзе. В ее эксперименте русско-грузинские билингвы, отвечая на вопрос с грамматической ошибкой, не влекущей искажение смысла, не замечали ее (Имедадзе, 1979: 46–53). Это позволяет утверждать, что билингв больше полагается на лексические маркеры, чем на падежные.
Ориентация на лексические маркеры приводит к длительному сохранению «замороженных форм» им. пад. (Протасова и др., 2017: 782; Bar-Shalom, Zaretsky, 2008: 295; Janssen, 2016: 292). Малое количество опубликованных данных не позволяет делать выводы об освоенности отдельных семантических функций: так, неверно выбранные формы им. пад., приведенные в (Schwartz, Minkov, 2014: 78), в отрицательных конструкциях и при указании на совместность не свидетельствуют о неосвоенности субъектного значения.
О том, что отставание происходит не в осмыслении значений, а в способах их презентации, свидетельствует зафиксированный Е. Шмитт в речи англо-русских билингвов правильный выбор предлога при «чужой» флексии (Schmitt, 2004). В условиях дефицита флексий билингвы прибегают к собственным грамматическим способам: так, в высказываниях русско-голландских детей первому слову приписывается значение субъекта (Янссен, Пеетерс-Подгаевская, 2016: 151).
К сожалению, сведения о способах обозначения многоязычными детьми семантических функций единичны (Modyanova, 2006; Schwartz, Minkov, 2014: 79). Тем не менее имеющиеся данные позволяют проследить как общие для билингвов и монолингвов, так и специфические билингвальные стратегии.
Освоение падежной грамматики в ситуации учебного двуязычия. Исследования, посвященные усвоению падежа, обычно проводятся в целях выработки оптимальных методик преподавания РКИ, однако работ на русском языке, посвященных лингвистическому анализу причин ошибок иностранных студентов в области падежа, мало.
Лингвисты ставят целью выяснить, к каким стратегиям прибегает человек в речевой деятельности на чужом языке. В экспериментах предлагают употребить определенную СФ (Kempe, Brooks, 2008), распознать ошибки (Cherepovskaia et al., 2021), соотнести рисунок с высказыванием (Kempe, MacWhinney, 1998); измеряют скорость восприятия монои полиморфемных слов (Portin et al., 2008). При этом вопрос о сходстве стратегий пользования 1-м и 2-м языком остается без ответа, так как иностранец, даже владея языком на уровне С1–С2, может прибегать к специфическим стратегиям (Cherepovskaia et al., 2021). Делаются выводы, что иностранцы редко прибегают к морфологической декомпозиции при речевосприятии и к самостоятельному формообразованию при речепроизводстве. Этому предлагаются разные объяснения: от способа обучения до особенностей устройства языкового механизма. Так, Х. Клахсен подчеркивает ослабленную возможность приобретения имплицитных знаний взрослым (Clahsen et аl., 2010: 38). В. Кемпе и П.Дж. Брукс приходят к выводу, что имплицитному извлечению правил мешает сложность русской падежной системы (Kempe, Brooks, 2008). Ф. Прево и Л. Уайт полагают, что иностранцы затрудняются не с извлечением правил, а с их реализацией в речи, испытывая чрезмерную когнитивную нагрузку в коммуникации (Prévost, White, 2000).
Методисты описывают формообразовательные инновации носителей разных языков: трудности в определении рода, постановке ударения, образовании род. пад. мн. ч. Общий характер ошибок объясняется фактом вторичности осваиваемой грамматической системы, но стоит отметить совпадения между речевой продукцией иностранцев и русскоязычных детей.
Ошибки конструирования редко попадают в поле зрения методистов. Чаще фиксируют ошибки выбора, такие как смешение предлогов, близких или противопоставленных по значению; выбор неправильной флексии, в том числе при глаголах с сильным управлением; смешение управления при многозначных предлогах (Данилова, Юркина, 2020: 181–183). Подобные ошибки легко объясняются системными семантическими связями.
Однако в речи иностранцев возможно немотивированное с точки зрения носителя использование СФ, которое обычно интерпретируют как результат интерференции. Так, специфическое выражение атрибутивного значения турецкими студентами (Тимошенко-Оздемир, Савицкая, 2020) объясняется тем, что в русском языке определяющее слово ставится в род. пад., тогда как при турецком одноаффиксном изафете суффикс получает определяемое слово.
При этом роль интерференции бывает существенно преувеличена – большинство ошибок повторяется в речи носителей разных языков. Так, говорящие на английском, арабском, турецком, китайском языках передают инструментатив конструкцией «с + твор. пад.», бенефактив и малефактив – вин. пад. без предлога, избегают род. пад. при отрицании, используют им. пад. в безличных предложениях и счетных сочетаниях и пр. (Холодкова, 2012; Унежева, 2016; Тимошенко-Оздемир, Савицкая, 2020; Ван, 2022). Совпадение ошибок указывает на действие стратегии генерализации: в условиях языкового дефицита человек кодирует грамматические значения, пользуясь общими представлениями о способах их выражения.
Общей для всех изучающих иностранный язык стратегией является и морфологическая редукция, которая заключается в игнорировании грамматических категорий. Так как в русском языке не существует немаркированных падежных форм, редукция может приводить к расширительному использованию одной из существующих (обычно им. пад.).
В условиях языкового дефицита иностранцы прибегают к факультативным для русского языка грамматическим способам. В. Кемпе и Б. Мак-Уинни обнаружили, что носители английского языка принимают решение об объектно-субъектных отношениях на основании лексического значения и порядка слов (SVO), а не значения флексий (Kempe, MacWhinney 1998: 566).
Таким образом, осваивая русский как иностранный, человек самостоятельно выстраивает систему выражения падежных значений, переходя от «замороженного именительного» к другим грамматическим средствам. Неслучайно лингвисты проводят параллели между освоением первого и второго языков, в частности анализируют схемы «появления падежей» (Cherepovskaia et al., 2021). Однако вопросы о том, в какой последовательности в русской речи возникает потребность выражения тех или иных грамматических значений, какие семантические функции плохо подлежат вербализации и какие формальные трудности возникают в процессе конструирования СФ и ППСФ, остаются открытыми.
Освоение падежной грамматики в ситуации сукцессивного естественного двуязычия. Под сукцессивным естественным двуязычием мы понимаем последовательное освоение двух языков в условиях естественной коммуникации. Процесс конструирования русской падежной системы в этих условиях отмечен рядом особенностей.
Когнитивные возможности и коммуникативные потребности определяют синтаксическую сложность высказываний русского ребенка, поэтому периодизацию целесообразно строить на основании количественного критерия, соотнося число единиц в высказывании c возникновением падежных противопоставлений (Воейкова, 2015: 166). Иноязычные дети с самого начала строят развернутые, но грамматически плохо оформленные и эллиптичные в силу лексического дефицита высказывания, что создает проблемы в коммуникации и резко различает речь иноязычных и русскоязычных детей.
Анализируя падежную грамматику инофона, можно опираться на морфологический критерий. В рамках проекта В.У. Дресслера «Ранние стадии усвоения морфологии детьми» рассматриваются этапы преморфологии, протоморфологии и модулярной морфологии в зависимости от степени освоения парадигматики языка (Voeikova, Gagarina, 2002). Стадиальность сохраняется и при освоении грамматики иноязычным ребенком, хотя и имеет несколько другой характер.
На преморфологическом этапе система частей речи не сформирована, грамматические категории отсутствуют. В активном словаре преобладают существительные в им. пад. ед. ч., что часто бывает уместно, так как СФ используется для номинации предмета, указания на субъект, в том числе в безличных конструкциях или при обозначении отправителя, выступает в счетных сочетаниях и предложениях с отрицанием.
СФ, совпадающие с базовой, могут восходить к род. пад. мн. ч. или вин. пад. неодуш. существительных. Наличие омонимичных СФ в инпуте затрудняет разграничение способов выражения значений и служит причиной инноваций: много учебник, поймали слон. Им. пад. может использоваться иноязычным ребенком в сверхгенерализованных значениях, маркируя комитатив (с мама пришел), инструментив (буду ручка писать), каузатор (яма от бомба). Как и у взрослых иностранцев, «замороженные» формы остаются надолго, особенно если семантические функции СФ понятны из ситуации. Они выражают объектные (пятёрка получал), атрибутивные (миска из стекло), обстоятельственные значения (в школа пойду, из-за пробка опоздал); используются в сочетании с предлогами.
Русские дети тоже используют псевдоименительные формы, но, осваивая предлоги, обычно сразу пользуются цельным каркасом синтаксемы – предлогом и соответствующей флексией. На начальных этапах предлоги опускаются или заменяются филлерами в соответствии с оперативным принципом Слобина «Обращай внимание на конец слова» (Слобин, 1984: 167). Иноязычные дети, напротив, более внимательны к предлогам, что, возможно, связано с условиями восприятия перцептивно невыпуклых русских флексий. Затрудненное восприятие редуцированной флексии приводит к пропуску окончаний, в том числе ударных, как и у русскоязычных детей до 2-х лет (Babyonyshev, 1993: 15).
Базовой может стать форма одного из косвенных падежей. Так, прилагательные цветообозначения «застывают» в форме род. пад. (какого цвета?), что создает у носителя русского языка ощущение аграмматичности: в красного шапка. Подобные рассогласования в падеже не встречаются в речи даже самых маленьких русскоязычных детей.
Отсутствие падежных маркеров при существенной длине высказывания заставляет ребенка использовать другие грамматические способы, такие как порядок слов SVO.
Длительное предпочтение редуцированных и застывших форм связано со сложностью задачи, которая стоит перед инофоном: инпут, который он перерабатывает, плохо организован и не приспособлен к возможностям «неофита»; вербализуемая ситуация бывает сложной и нестандартной. К тому же нередко в родном языке падежные значения специально не маркируются или тип маркировки не совпадает с русской. Чем сложнее передаваемые смыслы и уникальнее их языковое оформление, тем сильнее когнитивная нагрузка и вероятнее проявления редукции. Упрощение на ранних стадиях неизбежно при освоении любого языка в любых условиях, а в ситуации массового билингвизма ведет к пиджинизации.
Редукция может выражаться в выборе флексии под влиянием синтагматических связей с зависимым прилагательным (пишу простом карандашом) и существительным (за памятником Пушкином). В отличие от носителей языка инофоны редко замечают собственную ошибку, а влияние контекста в их речи распространяется за пределы словосочетания: удкой ловят рыбой, маму сделал подарку. Прайминг-эффект помогает объяснить выбор, кажущийся немотивированным: так, -ом в о большом ежом служит для единообразного оформления изъяснительного значения у прилагательного и существительного.
Несмотря на сложность задачи, стоящей перед ребенком-инофоном, ошибки не обязательны даже на ранних этапах, что находит объяснение в островной гипотезе М. Томаселло (Tomasello, 2002): наиболее частотные ППСФ хранятся в памяти гештальтно, глаголы в них служат «островами», к которым постепенно «причаливают» корабли-существительные, что влечет разложение цельной конструкции на элементы.
На протоморфологическом этапе осваиваются основные функции граммем и прототипические грамматические способы. От «замороженного именительного» инофон, как и русскоязычный дошкольник, переходит к «замороженному винительному»: базовые формы маркируют субъект, окончание -у – объект (вырезала бумагу, помогал маму). Усложняющаяся коммуникация заставляет искать способы различения объектных и обстоятельственных значений. Различение оттенков и освоение валентности конкретных глаголов происходит на заключительном этапе. В речи русского ребенка новые конструкции появляются постепенно, когда возникает необходимость указать на нюансы: например, подвижность/неподвижность инструмента (твор./вин. + о) или его дополнительный характер (твор./твор. + с). Репертуар средств иноязычного ребенка может быть широким с самого начала. Иногда ненормативный выбор точно передает значения (намочил о лужу, смотрит с очками), но нередко ППСФ используются в несвойственных им контекстах (об мыло руку моет, пишет с ручкой).
Сверхгенерализации способствует интерференция. Так, трудно осваиваемое азербайджанскими детьми указание на направление изнутри/наружу объясняется особенностями азербайджанского языка, где на движение к локализатору указывает суффикс дат. пад., а от него – исходного (положите в рюкзакам, упал из стула). Неразличение предлогов в одном из их значений может приводить к их смешению в другом (картинка из мальчишкой, то есть с мальчишкой).
На активный характер пользования языком указывают и формообразовательные инновации. Иноязычные дети ошибаются чаще, чем взрослые, нередко проявляющие осторожность в пользовании чужим языком. Дети испытывают трудности в определении типа склонения существительных ср. рода и слов, оканчивающихся на мягкий согласный. Для носителей тюркских языков проблему представляют существительные всех трех родов, в том числе с основой на твердый. Кроме ошибок в сложном для носителей твор. пад., тюркоязычные дети неверно конструируют им. пад. по мужскому типу (желтый кукуруз) и вин. пад. по женскому: вижу небу, принесу учебнику (вин. пад. на -у характерен для монолингвов раннего возраста).
Иноязычные и русскоязычные дети неверно образуют формы местного падежа существительных муж. р. (на рюкзаку), им. пад. мн. ч. слов муж. и ср. р. (дóмы, деревы), род. пад. множ. ч. (восемь стулов, без игрушков), пренебрегают морфонологическими изменениями в основах (зайчонки, молотоком, ухи). Характерно сохранение неподвижного ударения на основе и на окончании (у стóла, ударил руку́).
В отличие от русскоязычных детей инофоны ошибаются в конструировании не только СФ, но и ППСФ. В сознании русского ребенка морфологический каркас синтаксемы формируется с самого начала, инофону приходится самостоятельно конструировать этот каркас, унифицируя, например, флексии в антонимических ППСФ: с усами без бородами, к дедушку от бабушку (дат. пад. дедушку по аналогии с муж. р.).
Язык анализа «реальной грамматики» (термин В.Б. Касевича) еще не разработан, и трудно комментировать связь «звучание – значение» вне привычных падежных ярлыков. Но у исследователя часто нет достаточных оснований судить о том, какое значение воспринял и выразил ребенок. Так, флексии в гонялся за дво[ьм] зайц[ъм] можно представить как твор. пад. при ошибочном согласовании в числе (за одним зайцем) или дат. пад. множ. ч. в значении малефактива с неправомерным предлогом за (вредить зайцам). При такой постановке вопроса мы как бы исходим из убеждения, что индивидуальная система инофона совпадает с общенациональной, а ошибка совершается им в момент порождения речи. Действительно же обобщение происходит на этапе восприятия, и тут было бы точнее констатировать, что «за + [ъм (ьм)]» указывает на ориентир или цель движения. В отсутствии удобного инструментария для анализа мы можем только наметить пути онтогенеза падежных синтаксем в речи инофонов.
Заключение
Наше исследование нельзя назвать законченным. Впереди выработка единого инструментария, позволяющего исследовать «реальную грамматику», а также расширение эмпирической базы. Должны быть получены количественные экспериментальные данные, позволяющие сравнить освоение падежной грамматики в разных условиях и на пересечении разных языков.
Однако уже сейчас очевидно: стратегии освоения первого и второго языков во многом сходны, но и существенно различаются. О каждой из этих стратегий онтолингвистами и специалистами РКИ собрано уже немало фактов, и на современном этапе развития науки необходимо объединение усилий для их сопоставительного анализа.
Психолингвистические исследования процессов, сопровождающих становление языковых механизмов детей и взрослых, должны быть использованы для построения индивидуально ориентированных методик преподавания русского языка как неродного, учитывающих возраст и уровень когнитивного и речевого развития обучающихся.
Дети-инофоны нуждаются в специфической лингвистической поддержке. Поскольку ребенок самостоятельно конструирует грамматическую систему как первого, так и второго языка, на уроках и дополнительных занятиях по русскому как неродному должен быть представлен обширный речевой материал, позволяющий детям самостоятельно осознать различия между ППСФ, выражающими разные типы объектных и обстоятельственных значений. Удачным решением этого вопроса представляется использование текстов, в том числе художественных, построенных на языковой игре.
Наличие специфических ошибок в выборе форм в речи иноязычных детей делает невозможным простое следование программам по русскому языку как родному. Иноязычным детям должны предлагаться специальные задания и лингводидактические игры, помогающие осознать специфику употребления СФ и ППСФ, связь между выбором предлога и падежного окончания слова.
Морфологическая редукция в речи инофона вызвана дисбалансом между потребностями выразить сложные смыслы и возможностями их языкового выражения. Устранению этого дисбаланса может способствовать продуманная предтекстовая лексико-грамматическая работа, выбор тем для бесед с иноязычными детьми.
Об авторах
Стелла Наумовна Цейтлин
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
Email: stl2006@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-1222-2968
SPIN-код: 3891-9220
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры языкового и литературного развития ребенка
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48Татьяна Александровна Круглякова
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: t.kruglyakova@spbu.ru
ORCID iD: 0000-0003-4408-7673
SPIN-код: 6409-3610
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9Список литературы
- Ван Л. Русские предложно-падежные конструкции с медиативным значением в детской речи и в речи китайских студентов // Проблемы онтолингвистики – 2022: материалы международной конференции. СПб. : ВВМ, 2022. С. 111–117.
- Воейкова М.Д. Становление имени. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии русского языка. М. : ЯСК, 2015. 352 с.
- Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. СПб. : Детство-пресс ; М. : Сфера, 2007. 472 с.
- Данилова Е.А., Юркина Т.Н. Типичные ошибки иностранных студентов при образовании и употреблении русских падежных форм // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. 2020. № 4 (109). С. 180–185.
- Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия. Тверь : Тверской гос. пед. ун-т, 2002. 194 с.
- Имедадзе Н.В. Экспериментально-психологические исследования овладения и владения вторым языком. Тбилиси : Мецниереба, 1979. 229 с.
- Ионова Н.В. Семантические функции падежных форм и предложно-падежных конструкций имени существительного в речи детей дошкольного возраста : дис. … канд. филол. наук. Череповец, 2007. 142 с.
- Кудрявцева Е.Л., Громова Л.Г. Размышление о терминологии и практике преподавания русского языка в мире : русский как иностранный, как неродной и другой родной // Этнодиалоги. 2013. № 2 (43). С. 27–39.
- Лепская Н.И. Язык ребенка : онтогенез речевой коммуникации. М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. 151 с.
- Московкин Л.П. Русский язык как родной, неродной и иностранный : история становления и современное употребление терминов // Учителю русской зарубежной школы : сборник научных статей / под ред. П.Г. Гельфрейх, А.В. Голубевой. СПб. : Златоуст, 2019. С. 93–107.
- Мурашова О.В. Онтогенез субстантивных синтаксем : дис. … канд. филол. наук. Череповец, 2000. 220 с.
- Низник М. В чем разница между эритажниками и билингвами, или Некоторые актуальные вопросы терминологии современной теории двуязычия // Учителю русской зарубежной школы : сборник научных статей / под ред. П.Г. Гельфрейх, А.В. Голубевой. СПб. : Златоуст, 2019. С. 90–97.
- Протасова Е.Ю., Мяки М., Родина Н.М. Экспериментальное исследование освоения русских падежей детьми-билингвами в Финляндии // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2017. № 3. С. 774–788.
- Слобин Д. Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика. М. : Прогресс, 1984. С. 143–207.
- Тимошенко-Оздемир Е.Н., Савицкая Ю.В. Преподавание падежной системы русского языка в турецкой аудитории : проблема интерференции и пути ее решения // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6. URL : https://science-education.ru/ru/article/view?id=30274 (дата обращения : 14.03.2023).
- Унежева М.К. Трудности, возникающие у арабских студентов при изучении падежной системы русского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 11–1 (65). С. 202–205.
- Уфимцева Н.В. Языковое сознание – образ мира – языковая картина мира // Вопросы психолингвистики. 2015. № 24. С. 115–119.
- Хамраева Е.А. Лингводидактические основы измерения коммуникативных умений билингвов // Наука и школа. 2018. № 3. С. 29–40.
- Холодкова М.В. Преподавание русской падежной системы существительных в англоязычной аудитории: проблема интерференции и пути ее решения // Вестник Тамбовского государственного университета. 2012. № 4. С. 275–278.
- Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. СПб. : Знак, 2009. 592 с.
- Чиршева Г.Н. Детский билингвизм : одновременное усвоение двух языков. СПб. : Златоуст, 2012. 488 с.
- Янссен Б., Пеетерс-Подгаевская А. О влиянии фонетической яркости в интерпретации падежных отношений у русскоязычных и голландско-русских детей // Проблемы онтолингвистики – 2016 : материалы ежегодной международной научной конференции. Иваново : ЛИСТОС, 2016. С. 149–156.
- Babyonyshev M. Acquisition of the Russian case system // MIT Working Papers in Linguistics. 1993. No. 19. Рp. 1–43.
- Bar-Shalom E.G., Zaretsky E. Selective attrition in Russian-English bilingual children : preservation of grammatical aspect // International Journal of Bilingualism. 2008. No. 12. Рp. 281–302.
- Cherepovskaia N., Reutova E., Slioussar N. Becoming native-like for good or ill : online and offline processing of case forms in L2 Russian // Second Language Research. 2021. Vol. 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.652463
- Clahsen H., Felser C., Neubauer K., Sato M., Silva R. Morphological structure in native and nonnative language processing // Language Learning. 2010. Vol. 60. No. 1. Рр. 21–43.
- Janssen B. The acquisition of gender and case in Polish and Russian : a study of monolingual and bilingual children. Amsterdam : Uitgeverij Pegasus, 2016. 302 р.
- Janssen B., Meir N. Production, comprehension and repetition of accusative case by monolingual Russian and bilingual Russian-Dutch and Russian-Hebrew children // Linguistic Approaches to Bilingualism. 2019. Vol. 9. No. 4–5. Рр. 736–765.
- Kempe V., Brooks P.J. Second language learning of complex inflectional systems // Language Learning. 2008. Vol. 58. No. 4. Рр. 703–746.
- Kempe V., MacWhinney B. The acquisuition of case marking by adult learners of Russian and German // Studies in Second Language Acquisition. 1998. Vol. 20. Issue 4. Рр. 543–587.
- Modyanova N. The genetive of negation construction in Russian/English bilinguals // BULCD 30 Online Proceedings Supplement. Sommerville, MA : Cascadilla Press, 2006. Pр. 1–12.
- Portin M., Lehtonen M., Laine M. Processing of inflected nouns in late bilinguals // Applied Psycholinguistics. 2007. Vol. 28. No. 1. Рр. 135–156.
- Prévost Ph., White L. Missing surface inflection or impairment in second language acquisition? Evidence from tense and agreement // Second language Research. 2000. Vol. 16. No. 2. Рр. 103–133.
- Ringblom N. The acquisition of Russian in a language contact situation : a case study of a bilingual child in Sweden. Stockholm : Stockholm University, 2014. 276 p.
- Schmitt E. No more reductions! To the problem of evaluation of language attrition data // First Language Attrition : Interdisciplinary Perspectives on Methodological Issues. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2004. Pр. 299–316.
- Schwartz M., Minkov M. Russian case system acquisition among Russian-Hebrew speaking children // Journal of Slavic Linguistics. 2014. Vol. 22. No. 1. Рр. 51–92.
- Tomasello M. Do young children have adult syntactic competence? // Cognition. 2000. Vol. 74. No. 3. Рp. 209–253.
- Voeikova M., Gagarina N. Early syntax, first lexicon and the acquisition of case forms by two Russian children // Preand Protomorphology : early phases of morphological development in nouns and verbs. Munich : Lincom Europa, 2002. Pp. 115–131.