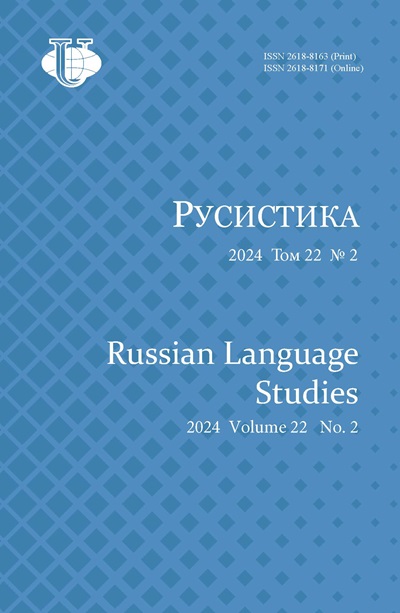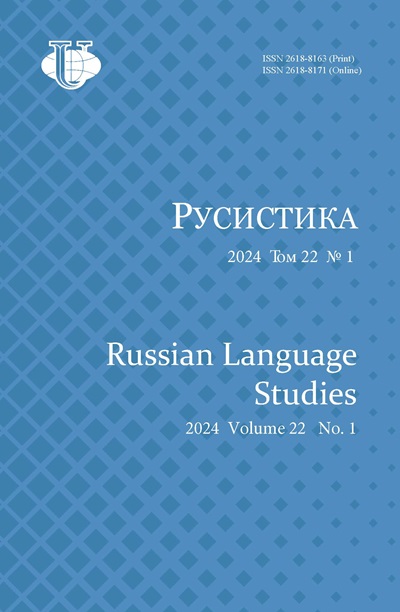Корпусная экспликация семантики дихотомического концепта «Жизнь - Смерть» в русской языковой картине мира
- Авторы: Люй С.1, Полякова Е.В.1, Джолдасбекова Б.У.2
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Казахский национальный университет имени аль-Фараби
- Выпуск: Том 22, № 1 (2024)
- Страницы: 91-102
- Раздел: Лингвокультурология: теоретические и прикладные аспекты
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/39389
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-8163-2024-22-1-91-102
- EDN: https://elibrary.ru/QDXLLG
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Анализируется концепт-диада «Жизнь - Смерть» в русской языковой картине мира. Актуальность исследования обусловлена экзистенциальной значимостью изучаемого феномена для формирования целостного представления об аксиологическом поле русской языковой картины мира. Цель - корпусный анализ концептуальной диады «Жизнь» и «Смерть». Материал исследования составили 70 поэтических единиц, содержащих ядерные лексемы «Жизнь» и «Смерть», из Национального корпуса русского языка. В качестве поэтических единиц взяты семантически полнозначные контексты стихотворений русских поэтов (М. Цветаевой, М. Волошина, С. Есенина, З. Гиппиус и др.). Применялись дескриптивный метод, концептуальный анализ, метод лингвокультурологического комментирования, контекстуальный анализ, корпусный метод. Определено, что на базе концептов «Жизнь» и «Смерть» становится возможной реконструкция доминантных черт русской языковой картины мира, которая отличается не только квалитативной гетерогенностью, но и определенной биполярностью в поведении субъекта (агентивность vs пассивность, провиденциальность vs активность и т. д.). Установлены такие семантические параметры концептов «Жизнь» и «Смерть», как скоротечность и неконтролируемость жизни; жизнь как стихия, внутри которой человек выступает не активным субъектом, но объектом, над которым властвуют внешние силы; скоротечность жизни и ее непредсказуемость; вера в посмертное существование; смерть как переход в инобытие. Сформирован объяснительный контекст для адекватного комментирования концептуальных значений.
Полный текст
Введение
Связь языка и культуры исследует лингвокультурология – наука синтезирующего типа, которая начала активно развиваться в 90-е гг. XX в. Стремясь обосновать методологические рамки лингвокультурологии, В.М. Шаклеин доказывает, что лингвокультурологический подход может эффективно применяться в процессе адаптации индивида к новому для себя социокультурному пространству (Шаклеин, 2012); этот подход мы принимаем для себя как эпистемологическую «точку отсчета».
Лингвокультурология исследует запечатленные в языковой системе культурные феномены, позволяющие нам приобщиться к духовным исканиям определенного народа, его жизненной телеологии. Она обладает существенным потенциалом объяснительного знания, которое, по мысли Е.С. Кубряковой (Кубрякова, 2007), является важным принципом современной науки (категория экспланаторности).
Базовой единицей лингвокультурологии становится культурный концепт – «ячейка ментальности», «квант смысла», составляющий основу нашего внутреннего тезауруса. Концепт – одновременно индивидуальный и надындивидуальный феномен. В отличие от понятия, он чувственно маркирован, эмотивен, архетипичен. Анализ тех или иных концептов – это реконструкция сущностных смыслов, необходимых для приобщения к определенной культуре. Концепты имеют длительную историю изучения в отечественной лингвистике. Как культурно-языковые феномены они исследуются в работах В.Н. Телия (2004), Ю.Е. Прохорова (2009), Ю.С. Степанова (2007), В.В. Воробьева, В.А. Масловой (2008), В.В. Карасика (2002), В.В. Колесова (2006), В.В. Красных (2003), А.А. Залевской (2005), М.В. Пименовой (2004) и др.
А. Вежбицкая полагает, что в репертуаре любой культуры существуют базисные универсалии – концепты, обладающие стабильной ретранслируемостью в процессе интергенеративной трансмиссии (Wierzbicka, 2021, 2022). К таким концептам относится диада «Жизнь – Смерть». Исследование дихотомического концепта «Жизнь – Смерть» предпринято рядом ученых. Экзистенциальную сущность заявленного концепта раскрывает в своей работе Хо Сон Тэ (Хо Сон Тэ, 2001). Его семантическую структуру на материале русских паремий описывает М.М. Логинова (2016). О биполярности концептов «Жизнь» и «Смерть» пишет А.В. Прохорова (2018). Исследователи приходят к выводу, что концептуальная диада «Жизнь – Смерть» относится к экзистенциалам (М. Хайдеггер) языковой картины мира (ЯКМ), следовательно, ее экспликация способна предоставить данные о ценностях культуры того или иного этноса.
Реконструкция концептуальной семантики происходит, как правило, на материале корпуса текстов. Возможности корпусной лингвистики исследованы в отечественной науке рядом ученых (Чилингарян, 2021; Novospasskaya, Lazareva, 2021; Bilá, Ivanova, 2020). Для выявления узуальных значений концепта целесообразно использовать паремиологический фонд языка. Однако не менее значимые результаты способны предоставить индивидуально-авторские дефиниции ядерных лексем, в частности поэтические тексты. Экспликация концептуальной семантики на базе корпуса текстов – актуальное поле междисциплинарных исследований; они маркируют тот уровень актуального прагматикона языковой личности, который участвует в формировании целостной ЯКМ этноса (Ремчукова, Кузьмина, 2022; Ремчукова, Соколова, 2020; Красных, 2020; Уфимцева, Балясникова, 2021).
Поэтический текст включен в некий глобальный интертекст как парадигму, и его актуализация интенционально обусловлена. Можно рассматривать его как индивидуальную репрезентацию исследуемых концептов.
Актуальность исследования определяется онтологической значимостью изучаемой концептуальной диады для формирования представлений о русской языковой картины мира. Являя собой базисную универсалию культуры, концептуальная диада «Жизнь – Смерть» акцентуирует значимые для этноса категории, культурные скрипты, сценарии, табу. Для адекватной экспликации концептуальных значений привлечен вертикальный контекст – тот фон знаний, благодаря которому возможна адекватная развертка заложенных в концепте смыслов.
Цель исследование – изучение концептуального комплекса «Жизнь – Смерть», реализованного в русской языковой картине мира на базе поэтического корпуса текстов.
Материалы и методы
В исследовании развивается идея о том, что материалом «извлечения» концептуального знания может послужить корпус поэтических текстов, которые обладают свойствами воспроизводимости и экспрессивности. По мнению исследователей, «языковые образы, интегрирующие в себе реальные представления о картине мира и эмоциональное отношение автора к ним, синергетически создают этнокультурную ауру художественного текста» (Абдельхамид и др., 2023).
Материалом послужили поэтические единицы, содержащие лексический компонент «Жизнь» и «Смерть» в русском языке. Рассмотрены и прокомментированы 70 контекстуальных единиц таких авторов, как С.А. Клычков («Ты умирать собираешься так скоро…»), В.В. Каменский («Берег – письменный стол…»), С.А. Есенин («Снова пьют здесь, смеются и плачут»), З.Н. Гиппиус («Не угнаться и драматургу…»), Ю.Н. Верховский («Когда-то был рекою наш ручей…»), К.К. Вагинов («Среди ночных блистательных блужданий»), А. Белый («Я…»), Э.Г. Багрицкий («Великий немой»), А.Е. Адалис («Пейзаж кудряв, глубок, волнист…»), М.А. Волошин («На отмели незнаемого моря…»), М.И. Цветаева («Сколь пронзительная, столь же…») и др. Выборка всех приведенных текстуальных единиц произведена из Национального корпуса русского языка.1
Методы исследования: дескриптивный метод, концептуальный анализ, метод лингвокультурологического комментирования, контекстуальный анализ, корпусный метод.
Результаты
Жизнь и смерть в русской лингвокультуре неразрывно связаны. Анализ прецедентных текстов с ядерными лексемами «Жизнь» и «Смерть» позволил установить следующие дифференциальные признаки концептуальной диады:
- Жизнь – главная ценность человеческого существования; она проявляется во всех и во всем – в природе, в людях, в единении всего сущего. Смерть, напротив, сравнивается с вором: мотив ночного воровства сигнализирует о ее неожиданности. Эмоция, связанная с жизнью, – любовь, со смертью – страх.
- Жизнь – «карусель»: указывает на смену модусов восприятия жизни; она многоаспектна и изменчива.
- Жизнь можно «погубить» неразумными поступками, аффективным поведением.
- Жизнь причудлива, многообразна, непредсказуема. Человек не может ее спрогнозировать. Скоротечность и неконтролируемость жизни – ее дифференциальные концептуальные признаки.
- Жизнь как стихия, внутри которой человек выступает не активным субъектом, но пассивом, над которым властвуют внешние силы. Жизнь как «вход» (рождение) связана со смертью как «выходом». Знаковые этапы человеческой жизни, представленные в единстве.
- Мотив иллюзорности земной жизни и веры в «жизнь вечную». Жизнь как срок; мотив старения и увядания. Смерть антропоморфна. Ключевая характеристика: безжалостность и справедливость: всякой вещи есть свое время на земле.
- Жизнь как мучение. Мотив страдания и преодоления. Осознание ценности жизни с позиции настоящего к прошлому. Прошлое как топос воспоминаний и озарения. Эмотив, связанный с жизнью, – горесть; страх перед смертью как перед неизведанным. И жизнь, и смерть имеют смысл, если человек разделяет их с другими, в ином случае они бессмысленны.
Обсуждение
Психология любого народа обусловлена многими факторами. Это и специфика геоклиматических условий бытования этноса, и историко-социальный контекст, и культурный фон. Как отмечает В.О. Ключевский, человек перманентно приспосабливается к природе и приспосабливает природу к себе самому; из этого двустороннего взаимодействия вырабатывается национальный характер, а также энергия, стремления, чувства и отношения между людьми (Ключевский, 1990: 54).
Природный контекст существования русского народа детерминировал такую черту, как коллективность, выражающуюся в совместном жизнеположении: суровые зимы, короткое и засушливое лето, ограниченность светового дня не позволяли человеку выжить изолированно. По мнению В.Е. Купченко, на психический склад этноса повлияли такие факторы, как:
– широкое материковое пространство;
– однообразие ландшафта, которое способствовало относительно гомогенному распределению социальных ролей.
Продолжительное «скитальничество», свойственное древним славянам, было обусловлено различными обстоятельствами (например, пожарами) и воспитало в русском человеке пренебрежение к житейскому благоустройству (Купченко, 2012: 29).
Факторы, сформировавшие «русскую душу», по Д.В. Ольшанскому:
– отставание в цивилизационном развитии;
– отношение к частной собственности;
– татаро-монгольское иго;
– крепостное право;
– враждебное окружение (Ольшанский, 2002: 118).
Страх перед внешним врагом способствовал развитию принципов коллективности, чувства общности и соборности. Ячейкой социального уклада считалась община. Это был мир русского человека, как пишет Т.Г. Стефаненко (2006: 117).
Индивидуализм не свойственен русскому национальному характеру. Характерными его чертами выступают подчинение определенным ритмам жизни, широта, щедрость, жалость, доброта. Климат сказался на этническом мироощущении: ведение хозяйства зависело от суровых погодных условий и определяло соответствующий темп жизни. Зимы располагали к размышлениям и «думам»; непредсказуемое лето заставляло человека задуматься о соответствии ожидаемого и реального, рождая представления о том, что не все в руках личности, запланированное может не осуществиться, а вероятность случайного стечения обстоятельств чрезвычайно высока. Периоды бездействия зимой (зачастую, длительного) сменялись необходимостью активности весной и летом. Отсюда – «стихийность» русского характера, неравномерное распределение сил: «Русский мужик долго запрягает, да быстро едет».
На характере русского человека сказалось и двоеверие, в котором языческое начало сочеталось с аскетическим православием. Последнее повлияло на этический кодекс русского человека, на отношение к жизни и смерти.
Овеществляясь в культурном контексте, категории жизни и смерти перестают восприниматься в аспекте биологических значений: они проходят стадии мифологизации и эстетизации, постепенно трансформируясь в ценностные концепты. Их диалектическое единство неоспоримо: их существование взаимообусловлено, смысловые коннотации образуют зону пересечения, а семантика порой взаимозаменяема: порой жизнь конституируется как смерть, порой происходит наоборот.
Принято считать, что жизнь и смерть находятся в устойчивой оппозиции, которая влияет и на другие ценностные категории – начало и конец, время и вечность. Жизнь человека действительно имеет начало и конец; дополнительным (но сущностным!) атрибутом выступает идея бессмертия, и в этом смысле земная жизнь противопоставлена вечности. В этом случае концепт «Жизнь ‒ Смерть» тесно связан с концептом «Душа».
Зачастую данные категории могут быть подменены родственными им; так, «место» жизни в концептуальном поле культуры может занять «любовь», «вечность», «бытие». Следовательно, эти категории не изолированы, они активно взаимодействуют с другими аксиологемами, в результате чего рождаются все новые констелляции смыслов.
Жизнь и смерть – не только противоборствующие силы; они представляют собой диалектическое единство, баланс, в котором пребывает мироздание. В соответствие с тем, в сильной или слабой позиции одна из категорий представлена в языковых единицах, формируется и модальность культуры: противостояние жизни и смерти определенным образом фиксируется в устойчивых сочетаниях, ритуалах, обрядах. Оно становится мотивом, реализующемся на уровне сюжета, характерологической чертой актантов эстетического пространства литературы, «просвечивает» сквозь семантические напластования символов и метафор.
По мысли Гегеля, «чистая жизнь есть бытие» (Гегель, 1976: 154). С этим тезисом соглашается и русская философская мысль: «Мы знаем, что истинное бытие в единстве смерти и жизни, уничтожения и созидания, наслаждения и страдания и что несчастие мира в разъединенности всего этого, вызванной медлительностью круговорота»2.
Как отмечает В.В. Колесов, в языческих представлениях о целостности бытия содержится эквиполентность равнозначных рубежей: осознания себя и омертвления сознания, события, абсолюта Добра и Зла, предикатов Жизни и Смерти (Колесов, 2006). Эта неразделимость полярных категорий рождает ту метафизическую свободу, с которой «русский народ идет навстречу смерти» (Ильин, 1997: 458).
Различение сознания как Бытия и собственно жизни пришло с христианством. Примечательно, что слово «жизнь», заимствованное из старославянских текстов в XI в., изначально подразумевало жизнь духовную. Биологическое существование обозначалось другим словом – живот.
В языковом сознании русского народа смерть – витальная энергия времени и движения, олицетворенная в антропоморфном существе (женского рода), которое все видит, все примечает, слышит, смеется, плачет; она памятлива, беспощадна, беспристрастна (Кондратьева, 2000).
Итак, диада «Жизнь – Смерть» является базовой для русской языковой картины мира (более того, она универсальна). Вне зависимости от этнической принадлежности человека, его социальных параметров и контекста существования она выполняет роль «ключевой» ячейки ментального тезауруса.
Чтобы дифференцировать ключевые параметры концептов «Жизнь» и «Смерть» в русской ЯКМ, произведем анализ ядерных лексем на базе Национального корпуса русского языка. Так как объем основного корпуса превышает задачи настоящего исследования, мы остановимся на поэтическом подкорпусе. Элементы поэтических текстов в силу своей прецедентности, устойчивого вхождения в когнитивную базу носителей языкового сознания и «твердой формы» наиболее близки паремиологическим единицам.
Сейчас сосредоточимся на дифференциальных признаках указанных лексем, выявляемых посредством контекста.
Лексема «жизнь». В подкорпусе3 обнаружено 10 120 документов, 13 951 вхождение. Анализировать все входящие в подкорпус синтаксические конструкции в рамках настоящей работы нецелесообразно. Остановимся на 60 примерах произведений, которые являются наиболее репрезентативными.
Страшусь я смерти, как ночного вора, / Во всех, во всем златую жизнь любя (С.А. Клычков. «Ты умирать сбираешься так скоро...»). В приведенном контексте дифференцированы следующие семантичекие элементы конструкта: страх и любовь, которые несут в себе эмоциональный компонент. Жизнь – главная ценность человеческого существования; неслучайно она атрибутирована эпитетом «златая»: на языке символизма «священная», «благостная». Жизнь проявляется во всех и во всем – в природе, в людях, в единении всего сущего. Смерть, напротив, сравнивается с вором: мотив ночного воровства сигнализирует о ее неожиданности. Эмоция, связанная с жизнью, – любовь, со смертью – страх. О том, что жизнь изменчива, свидетельствует контекст: Наша жизнь – карусель / В Кумачовой стране (В.В. Каменский. Прибой в Сухуме: «Берег – письменный стол...»). Метафора «карусель» указывает на смену модусов восприятия жизни; она многоаспектна и нестабильна. Похожие значения находим в контексте: Не угнаться и драматургу / за тем, что выдумает жизнь сама (З.Н. Гиппиус. Бродячая собака: «Не угнаться и драматургу...»): жизнь причудлива, многообразна, непредсказуема. Человек не может ее спрогнозировать.
Неслучайно к нашему концептуальному анализу подведен соответствующий теоретический базис: восприятие жизни носителем русской ЯКМ детерминировано отношением к ней как к ряду «случайностей», предопределенных тем не менее безличной Судьбой. Несмотря на то что жизнь дается человеку свыше, она может подвергаться трансформациям со стороны действующего субъекта. Это подтверждает пример: Жалко им тех дурашливых, юных, / Что сгубили свою жизнь сгоряча (С.А. Есенин. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...»). Жизнь можно «погубить» неразумными поступками, аффективным поведением. Разонравилось пить и плясать / И терять свою жизнь без оглядки (С.А. Есенин. «Заметался пожар голубой...»). Характеристика, которую дает нам контекст, такова: жизнь может быть утрачена, если относиться к ней бездумно. Скрипт: осмысленный подход к отпущенному человеку времени. Жизнь как любовь.
О провиденциальности в восприятии жизни носителем русского языкового сознания свидетельствует контекст: Жизнь бурною волной его помчала – / И я его жалею (Ю.Н. Верховский. Два креста: «Когда-то был рекою наш ручей...»). Семы, входящие в содержательный комплекс конструкта, скоротечность и неконтролируемость жизни; жизнь как стихия, внутри которой человек выступает не активным субъектом, но пассивом, над которым властвуют внешние силы. Жизнь имеет протяженность, ограниченную двумя хронологическими «точками»: рождением и смертью: И входим в жизнь, откуда выход – смерть (К.К. Вагинов. «Среди ночных блистательных блужданий...»). О том, что смерть воспринимается как «развязка», «финал» индивидуальной судьбы, читаем: Потому что: трудная / Жизнь / У всех – / С одною развязкою (Андрей Белый. Поется под гитару: «Я ...»). Эпитет, поясняющий жизнь – «трудная»: она связана с тяготами и страданиями. Смерть не названа прямо, представлена альтернативной номинацией – «развязка». Примечательно, что развязка – в строгом смысле термин, сигнализирующий об окончании некоего события (последовательности событий) в наррации. Это сообщает жизни оттенок драматичности. Несмотря на то что жизнь трудна и непредсказуема, смерть также нежеланна до срока: Жизнь не хочет жить… но часто / Смерть не хочет умереть!(М.И. Цветаева. Педаль: «Сколь пронзительная, столь же...»). Имплицитная информация: вопреки тяготам жизнь имеет ценность. Это в высшем значении Путь, который атрибутирован дополнительными характеристиками: разлуками и встречами как компонентами семантического комплекса: «Жизнь – рельсы! Не плачь!» (М.И. Цветаева. Крик станций: «Крик станций: останься!..»).
Актуализируется семантика жизни через родственный концепт «Любовь» по принципу семантического замещения: Любовь, это значит: жизнь (М.И. Цветаева. «Движение губ ловлю...»). Тем не менее жизнь способна восприниматься и как топос, непригодный для человеческого существования: Жизнь – это место, где жить нельзя (М.И. Цветаева. «Частой гривою...»). В данном случае реализовано пространственное измерение жизни, атрибутированное негативными характеристиками: жизнь тяжела, невозможна.
Для русской ЯКМ характерна вера в преходящую земную жизнь, которая не является собственно жизнью: истинное бытие начинается за порогом смерти. Однако земная жизнь стихийна: жизнь – водоворот (Саша Черный. Политический сонет: ««Суровый Дант не презирал сонета»).
С целью выявить характеристики концептов «Жизнь» и «Смерть» как диады проанализированы следующие единицы подкорпуса:
Ввергает в горесть жизнь, и смерть / ввергает в страх (М.М. Херасков. Венецианская монахиня: «Вот стены, где моя любезная живет!..»).
Мы видим, что эмотив, связанный с жизнью, – горесть; страх перед смертью как перед неизведанным. Однако если жизнь и смерть разделяемы другими (мотив коллективного переживания), они имеют смысл: Ни для себя, ни для других! Несносна жизнь и смерть скупых (А.Е. Измайлов. Умирающая собака: «Султанка старый занемог...»). Жизнь и смерть нерасторжимы; в строгом смысле, это концептуальная пара. У М.Ю. Лермонтова читаем: Что жизнь и смерть – все за одно!!! (М.Ю. Лермонтов. Корсар: «Друзья, взгляните на меня!..»). Единство и эквивалентность жизни и смерти представлена и в контекстах: Что жизнь и смерть нам заодно, – / Я рассказать тебе успею (И.И. Козлов. «Кто знает край далекий и прекрасный...»); Что жизнь и смерть равны для нас (К.Н. Батюшков. Странствователь и домосед: «Объехав свет кругом...»). Мы видим в данном случае одинаково важное, сущностное значение жизни и смерти для человеческого бытия. Жизнь и смерть как метафизические «поля» человеческой онтологии на уровне мотивики представлены в тексте В.Г. Бенедиктова: Жизнь и смерть / Через все пути земные / С незапамятной поры / В мире ходят две родные, / Но несходные сестры (В.Г. Бенедиктов. «Через все пути земные...»).
Жизнь и смерть проявлены как родственные категории, принципиально различные в форме, но не сути. Когда и жизнь, и смерть – одной лишь цепи звенья (П.Ф. Якубович. «Ни дружеской руки, ни любящего взгляда...»).
Жизнь и смерть и в данном случае актуализированы в пределах контекста как элементы единого процесса, чередующиеся между собой.
Следовательно, жизнь и смерть целесообразно рассматривать как единицы концептуального комплекса (концептуальной пары), так как значения их взаимно атрибутируют друг друга.
Заключение
Концептуальный инвентарь любой культуры включает категории жизни и смерти, так как они связаны с осмыслением бытия этноса. В зависимости от их восприятия формируется аксиологическая система и идеалы этноса; и в обыденном, и в философском восприятии жизнь и смерть представлены в виде антиномии; оба концепта находятся в отношениях оппозиции в языковых единицах разного уровня. Причем жизнь оценивается положительно, а смерть амбивалентно.
Жизнь и смерть в поэтических текстах, рассмотренных на базе корпусных единиц, представляют собой семантическое единство. Жизнь, как показал проведенный анализ, требует усилий, ответственности и активности; она сложна, порой непосильна для человека, но смерть даже в таком случае не желанна до времени. Смерть воспринимается русскими поэтами как трансцендентное: это переход в Вечность, в истинное бытие. Такая трактовка связана с религиозным пониманием смерти и вечной жизни.
1 Национальный корпус русского языка. URL : https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=&spp=&spd=&ct=&mydocsize=&mode=poetic&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexform&ext=10&req=жизнь (дата обращения: 13.07.2022).
2 Карсавин Л.П. Saligia. Пг., 1919. С. 79.
3 Все примеры, приведенные в статье, взяты на материале поэтического подкорпуса русского языка по запросам «жизнь», «смерть». URL : https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=&spp=&spd=&ct=&mydocsize=&mode=poetic&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexform&ext=10&req=жизнь (дата обращения: 08.09.2022).
Об авторах
Сыци Люй
Российский университет дружбы народов
Email: lvsiqi@mail.ru
аспирант, кафедра русского языка и методики его преподавания, филологический факультет Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Елена Викторовна Полякова
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: polyakova-ev@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0003-4964-3560
SPIN-код: 7299-8030
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания, филологический факультет
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Баян Умирбековна Джолдасбекова
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Email: dzoldasbekovab@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1217-4799
член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета
Республика Казахстан, 050040, Алма-Ата, пр-т Аль-Фараби, д. 71Список литературы
- Абдельхамид С., Алефиренко Н.Ф., Шахпутова З.Х. Этнокультурная аура языковых образов в свете когнитивной лингвопоэтики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Теория языка. Семиотика. Семантика. 2023. Т. 14. № 1. C. 189–207. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2023-14-1-189-207
- Гегель Г.В. Философия религии : в 2 томах. М. : Мысль, 1976. Т. I. 532 с.
- Залевская А.А. Слово. Текст : избранные труды. М. : Гнозис, 2005. 546 с.
- Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М. : Республика, 1993. С. 134–289.
- Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.
- Ключевский В.О. Сочинения : в 9 томах. М. : Мысль, 1988. Т. 2. 356 с.
- Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб. : Петербургское востоковедение, 2006. 624 с.
- Кондратьева О.П. Концепт «смерть» и его языковые репрезентанты в книжно-письменном языке конца XVII – начале XVIII в. // Mentalit. Konzept. Gender / hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. Landau : Verlag Empirische Padagogik, 2000. Bd. VII. Pp. 111–116.
- Красных В.В. «Свой» среди «чужих» : миф или реальность? М. : Гнозис, 2003. 375 с.
- Красных В.В. Архаические слои сознания современной языковой личности (на примере базовой метафоры жидкость) // Вопросы психолингвистики. 2020. № 3 (45). C. 153–168.
- Кубрякова Е.С. Предисловие // Концептуальный анализ языка : современные направления исследования. М. : ИП Кошелев А.Б., 2007.
- Купченко В.Е. Влияние русской культуры на формирование жизненной стратегии личности : теоретический анализ // Вестник Омского университета. Серия: Психология. 2012. № 1. С. 29–37.
- Логинова М.М. Структура концептов «Жизнь» и «Смерть» (на материале русских паремий) // Вестник ВУиТ. 2016. № 1. С. 1–7.
- Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. М. : Академия, 2008. 266 с.
- Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб. : Питер, 2001. 368 с.
- Пименова М.В. Типология структурных элементов концептов внутреннего мира (на примере эмоциональных концептов) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 82–90.
- Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. М. : Флинта ; Наука, 2009. 176 с.
- Прохорова А.В. Биполярность концепта «жизнь/смерть» в дискурсивном пространстве ранних рассказов Л. Андреева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. Т. 16. № 2. С. 224–241. https://doi.org/10.22363/2313-2264-2018-16-2-224-241
- Ремчукова Е.Н., Кузьмина Л.А. «Прецедентный мир» Ф.М. Достоевского в социокультурном и «игровом поле» современных медиа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Теория языка. Семиотика. Семантика. 2022. Т. 13. № 1. C. 45–67. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2022-13-1-45-67
- Ремчукова Е.Н., Соколова Т.П. Прецедентные имена культуры в ономастическом пространстве современного города (глава 5) // Лингвистика креатива – 5 : коллективная монография. Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2020. С. 327–341.
- Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М. : Языки славянских культур, 2007. 248 с.
- Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М. : Аспект Пресс, 2006. 368 с.
- Телия В.Н. Живодейственное наследие культуры в лексикографическом формате «Толково-культурологического словаря фразеологизмов современного русского языка» // Проблемы русской лексикографии. М. : РАН, 2004. С. 102–105.
- Уфимцева Н.В., Балясникова О.В. Национальное самосознание и ассоциативно-вербальная сеть : об одной гипотезе Ю.Н. Караулова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Теория языка. Семиотика. Семантика. 2021. Т. 12. № 2. C. 238–254. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-2-238-254
- Хо Сон Тэ. Концепты «жизнь» и «смерть» в русском языке (на материале фразеологизмов и паремий» : дис. … канд. филол. наук. М., 2001. 179 с.
- Чилингарян К.П. Корпусная лингвистика : теория vs методология // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Теория языка. Семиотика. Семантика. 2021. Т. 12. № 1. C. 196–218. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-1-196-218
- Шаклеин В.М. Лингвокультурология : традиции и инновации. М. : Флинта, 2012. 301 с.
- Bilá M., Ivanova S.V. Language, culture and ideology in discursive practices // Russian Journal of Linguistics. 2020. Vol. 24. No. 2. Pp. 219–252. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-2-219-252
- Novospasskaya N.V., Lazareva O.V. Linguistic dominants of grammar and lexis // RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics. 2021. Vol. 12. No. 3. Pp. 537–546. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-3-537-546
- Wierzbicka A. “Semantic Primitives”, fifty years later // Russian Journal of Linguistics. 2021. Vol. 25. No. 2. Pp. 317–342. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-2-317-342
- Wierzbicka A. I and Thou : universal human concepts present as words in all human languages // Russian Journal of Linguistics. 2022. Vol. 26. No. 4. Pp. 908–936. https://doi.org/10.22363/2687-0088-31361