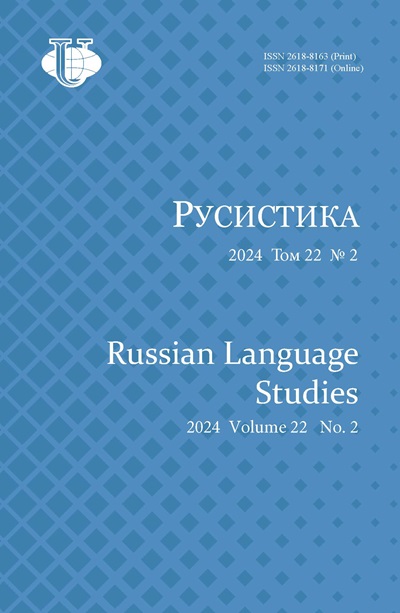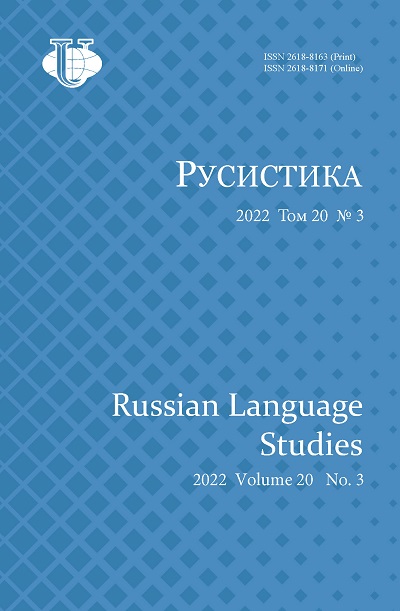Коммуникативная сфера общественного питания в языковом сознании китайских студентов: этнокультурные барьеры и помехи
- Авторы: Васильева Г.М.1, Чепинская М.А.1, Ван Ц.2
-
Учреждения:
- Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
- Университет Дяньцзы в Ханчжоу
- Выпуск: Том 20, № 3 (2022)
- Страницы: 330-343
- Раздел: Этнометодика и межкультурная коммуникация
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/32060
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-8163-2022-20-3-330-343
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Выявляются, классифицируются и методически интерпретируются коммуникативные барьеры и помехи, возникающие у китайских студентов в сфере общественного питания, представляющей собой принципиально важную культурно маркированную область социально-бытовой коммуникации. Актуальность исследования обусловлена значимостью и сложностью данной сферы для сознания иностранных студентов, сталкивающихся со значительными коммуникативными барьерами и помехами, требующими методической интерпретации и учета в содержании обучения русскому языку как иностранному. Цели работы состоят в выявлении и методически ориентированной интерпретации коммуникативных барьеров и помех, возникающих у китайских студентов в бытовой коммуникации (на материале сферы общественного питания), и установлении их корреляций с явлениями лексической асимметрии. Основными методами стали математическая обработка полученных данных, анкетирование, компонентный анализ лексики и сопоставление. Материалом послужили результаты анкетирования, направленного на выявление барьеров и помех, возникающих у китайских студентов в сфере общественного питания. Определено, что барьеры и помехи, связанные с коммуникацией в сфере общественного питания, испытывают более 75 % студентов. Количественная и содержательная обработка материалов анкетирования продемонстрировала, что барьеры и помехи проявляются в трех основных аспектах: этнографическом, этнопсихологическом и этнолингвистическом. Методически ориентированная интерпретация коммуникативных барьеров и помех основана на их корреляции с фактами языка. Интегративный подход к слову, предполагающий учет его языкового и внеязыкового содержания, позволил определить, в каких компонентах его структуры транслируются этнографические, этнопсихологические и этнолингвистические различия русской и китайской лингвокультур, создающие коммуникативные помехи, ввиду чего в процессе обучения русскому языку необходимо учитывать понятийные, собственно-лексические, семантические, коннотативные, фоновые и контекстные лакуны. Учет асимметричных явлений в содержании обучения лексике позволит снизить уровень этнографических, этнопсихологических и этнолингвистических барьеров и помех, возникающих у китайских студентов в сфере общественного питания. Перспективы исследования связаны с созданием учебного словаря «Гастрономический код культуры в лексике языка», ориентированного на китайских студентов, изучающих русский язык.
Полный текст
Введение
Как известно, изучение иностранного языка в рамках лингвокультурологического подхода сопровождается освоением культуры и картины мира его носителей, при этом вторичная картина мира нередко воспринимается как нечто чужое, незнакомое, непривычное и, как следствие, неправильное. Такое восприятие иной культуры создает различного рода сбои (барьеры и помехи) в межкультурном общении, которые в самом широком обобщении определяются как «явления, нарушающие процесс коммуникации»1. Большинство исследователей употребляют эти понятия как взаимозаменяемые, однако О.А. Леонтович обращает внимание на то, что «барьеры препятствуют осуществлению коммуникации», а помехи – «снижают ее качество», подчеркивая, что «между ними нет непроходимой границы»2. Сталкиваясь со сложностью четкого разграничения этих близких понятий, исследователи в качестве обобщающих используют либо более широкий термин «помехи», либо комбинированное обозначение «барьеры и помехи». Проблемой описания феномена коммуникативных барьеров и помех и созданием их типологии занимались многие исследователи3 (Сорокин и др., 1988; Гудков, 2003; Садохин, 2008 и др.). Однако при этом предметом исследования становились общие типологии барьеров и помех, не скоординированные с конкретной сферой их проявления и национальной аудиторией, у которой они возникают. В данной работе планируется выявление, описание и интерпретация коммуникативных барьеров и помех, возникающих в сфере общественного питания у китайских студентов, изучающих русский язык и проживающих в России.
Актуальность выявления барьеров и помех, возникающих в сфере общественного питания, обусловлена как принципиальной значимостью и культурной специфичностью данной области коммуникации для иностранных студентов, живущих в России, так и потребностью в их устранении при обучении русскому языку китайских студентов. Сфера общественного питания, включенная в культуру повседневности народа, «находится в непосредственной связи с национальной гастрономической культурой»4, которая рассматривалась многими исследователями. Так, особенностям русской кухни и гастрономической культуры посвящены работы известных исследователей (Похлебкин, 2002; Лутовинова, 2005 и др.). Китайская кухня и гастрономическая культура также становилась предметом описания в ряде работ (Тун Син, 2004; Li et al., 2004; Линь, 2010; Yen et al., 2018; Browning et al., 2019).
В методике обучения русскому языку как иностранному исследовались различные аспекты лексического материала, связанного с данной сферой: лексико-семантические группы наименований заведений общественного питания (Чепинская, 2020), лексические единицы, отражающие несовпадения в сфере национальной кухни (Ван, 2006), а также в традициях застолья и национального чаепития (Ма, 2002; Цзоу, 2007 и др.) и др. Однако несовпадения, относящиеся к сфере общественного питания, включающей не только традиции национальной кухни и гастрономической культуры, но и организацию общественного питания (типы заведений общественного питания, ассортимент подаваемых в них блюд, нормы поведения и обслуживания, порядок подачи блюд, традиции сервировки стола и др.), которые могут создать коммуникативные помехи для китайских студентов, до сих пор не становились предметом направленного методически ориентированного исследования.
Поскольку барьеры и помехи, являющиеся препятствием для взаимопонимания в процессе общения, «нуждаются в интерпретации, комментарии» (Сорокин и др., 1988: 4), то данное исследование, ориентированное на китайских студентов, изучающих русский язык, предполагает методическую интерпретацию корреляции коммуникативных барьеров и помех с изучаемым языковым материалом, аккумулирующим лингвокультурную асимметричность.
Для описания и интерпретации асимметричных явлений в лексике нередко используется понятие «лакуна». Проблемой лакунарности и созданием типологии лакун занимались многие российские и зарубежные исследователи5 (Hockett, 1954; Степанов, 1965; Hale, 1975; Муравьев, 1980; Сорокин и др., 1988; Глазачева, 2003; Стернин и др., 2003; Верещагин, Костомаров, 2005; Махонина, Стернина, 2005; Хорошавина и др., 2013; и др.). Разработанные типологии асимметричных явлений имеют общий характер и не раскрывают специфичность культурно обусловленных несовпадений, проявляющихся в сфере общественного питания и находящих отражение в языке.
Таким образом, цель исследования – выявление и методически ориентированная интерпретация коммуникативных барьеров и помех, возникающих у китайских студентов в сфере бытовой коммуникации (на материале сферы общественного питания), и установление их корреляций с явлениями лексической асимметрии.
Методы и материалы
На первом этапе исследования с помощью метода анкетирования осуществлялось выявление барьеров и помех, препятствующих их успешной коммуникации в сфере общественного питания.
В первоначальном опросе приняло участие 962 студента из высших учебных заведений Китая: студенты, обучающиеся по специальности «Русский язык» в Шаньдунском университете (Shandong University, SDU); студенты из российско-китайских совместных институтов: Северо-Китайского университета водных ресурсов и электроэнергии (North China University of Water Resources and Electric Power), Педагогического университета Цзянсу (Jiangsu Normal University), Технологического университета Чжунюань (Zhongyuan University Of Technology), а также китайские студенты, которые на момент проведения опроса обучались в РГПУ имени А.И. Герцена и в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
Из 962 студентов только 348 человек были в России и могли столкнуться с реальными помехами в сфере общественного питания, поэтому только их ответы были включены в программу обработки материалов анкетирования.
Программа анкетирования включала следующие этапы: 1) на основании анализа исследований и справочных изданий были выделены шесть составляющих сферы общественного питания, в которых потенциально могут возникнуть затруднения у китайских студентов; 2) в опросник было включено 39 вопросов, разделенных на шесть тематических групп, соответственно выделенным направлениям; 3) каждая тематическая группа вопросов имела двухуровневую структуру:
а) ориентирующие вопросы, позволяющие студентам осознать и определить характер конкретных затруднений, возникающих в той или иной области сферы общественного питания;
б) обобщающие вопросы, требующие однозначного ответа «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».
Приведем примеры вопросов, включенных в анкету.
- Вопросы, выявляющие характер и значительность помех, связанных с организацией общественного питания в России:
а) Чем отличается столовая от ресторана? Понятно ли вам, что такое ресторан «шведский стол»? Можно ли поесть в театре во время антракта и в каком месте принято это делать? В каком заведении можно быстро перекусить, не снимая верхнюю одежду? и др.;
б) Возникали ли у вас затруднения и неудачи при выборе конкретного места общественного питания в России, связанные с незнанием их характера и назначения?
- Вопросы, направленные на выявление уровня понимания студентами названий мест общественного питания по их внутренней форме:
а) Что можно съесть или выпить в местах общественного питания, которые называются «Блинная», «Сладкоежка», «Пирожковая», «Пельменная», «Пышечная», «Кафе-мороженое», «Рюмочная», «Чайная», «Колобок», «Крошка-картошка»? и др.
б) Возникали ли у вас затруднения с пониманием ассортимента блюд, предлагаемых заведениями общественного питания, исходя из их названий?
- Вопросы, направленные на выявление уровня понимания названий заведений общественного питания по их отнесенности к различным национальным кухням:
а) Как вы думаете, кухня какой страны предлагается в ресторанах под названием «Чайхана», «Токио Сити», «Тбилиси», «Баку», «Сулико», «Пекинская опера», «МакДональдс» и др.?
б) Возникали ли у вас затруднения с пониманием связи названия заведения общественного питания с конкретной национальной кухней?
- Вопросы, выявляющие характер и значительность помех, связанных с русской гастрономической традицией (на фоне китайской):
а) Похожа ли русская кухня на китайскую? В чем основные отличия? Отличается ли китайская кухня в России и в Китае? Какие блюда русской национальной кухни вам нравятся/не нравятся?
б) Возникали ли у вас затруднения, неудачи, разочарования, связанные с русской гастрономической традицией?
- Вопросы, позволяющие выявить степень и характер затруднений студентов, связанных с традициями поведения в местах общественного питания в России:
а) Отличается ли поведение русских и китайцев в ресторане? Принято ли в предприятиях общественного питания давать чаевые? Если да, то где и сколько? Чем отличается обстановка, интерьер, сервировка стола, содержание меню в ресторанах России и Китая?
б) Возникали ли у вас затруднения, связанные с традициями поведения в заведениях общественного питания в России? Испытывали ли вы дискомфорт при их посещении?
- Вопросы, ориентированные на выявление оценочного отношения китайских студентов к организации общественного питания и гастрономической культуре в России:
а) Вам нравится обслуживание в русских местах общественного питания? Вас устраивает размер блюда в русском ресторане или кафе? Нравится ли вам еда в университетской столовой? По какой причине Вы можете отказаться зайти в то или иное место общественного питания? Какие продукты составляют особую ценность для русских людей?
б) Возникали ли у вас затруднения, связанные с различной оценкой гастрономических традиций, правил поведения и т. п. в заведениях общественного питания в России?
Первая (ориентирующая) группа вопросов (а) не подвергалась количественной обработке и носила уточняющий и конкретизирующий характер. При обработке второй, обобщающей группы вопросов (б) использовался метод математической обработки данных с опорой на следующие показатели, принятые для удобства автоматической обработки результатов: ответ «Да» – 2 балла; ответ «Нет» – 1 балл, ответ «Затрудняюсь ответить» – 0 баллов (табл. 1, 2).
На следующем этапе исследования, направленном на выявление ассиметричных явлений в лексике, коррелирующих с коммуникативными барьерами и помехами, использовался сопоставительный метод, а также метод компонентного анализа лексики.
Результаты
Результаты проведенного анкетирования представлены в табл. 1 и 2.
Первая группа вопросов выявила наименьшее количество помех у китайских студентов. С основными видами заведений общественного питания знакомы 83,9 % респондентов (292 человека). Только 13,8 % (48 человек), имеют трудности с дифференциацией предприятий общественного питания. Затруднились ответить на вопрос 2,3 % (8 человек) (табл. 1).
Вторая группа вопросов обнаружила помехи у 54,6 % (190 человек) участников анкетирования. Основные помехи были обусловлены непониманием наименований заведений, связанных с русской национальной традицией и фольклорными текстами, например «Колобок», «Рюмочная» и др. Не испытали подобных затруднений 45,4 % опрошенных (158 студентов) (табл. 1).
Таблица 1. Результаты анкетирования в процентном соотношении
Номер обобщающего вопроса | Вариант ответа | ||
Да, % | Нет, % | Затрудняюсь ответить, % | |
1 | 13,8 | 83,9 | 2,3 |
2 | 54,6 | 45,4 | – |
3 | 75 | 18,7 | 6,3 |
4 | 35,7 | 60 | 4,3 |
5 | 63,6 | 33,3 | 3,1 |
6 | 68,4 | 29,8 | 1,8 |
Таблица 2. Результаты анкетирования в бальной системе
Номер обобщающего вопроса | Вариант ответа | ИТОГО | ||
Да | Нет | Затрудняюсь ответить | ||
1 | 96 | 292 | 0 | 388 |
2 | 380 | 158 | – | 538 |
3 | 522 | 65 | 0 | 587 |
4 | 248 | 209 | 0 | 457 |
5 | 442 | 116 | 0 | 558 |
6 | 476 | 104 | 0 | 580 |
Ответы на вопросы, входящие в третью группу, обнаружили, что у китайских студентов практически не возникло помех при понимании связи названий заведений общественного питания с мировыми национальными кухнями («Токио Сити», «Пекинская опера», «МакДональдс», «Венеция» и др.), однако значительные затруднения были выявлены при «встрече» с национальными кухнями стран, входящих ранее в состав СССР («Чайхана», «Тбилиси», «Баку», «Сулико», «Узбечка на речке» и др.). На возникшие помехи указали ответы 75 % опрошенных (261 человек), в то время как 6,3 % (22 человека) не смогли ответить на данный вопрос (табл.1).
Особенности гастрономической традиции и сервировки стола создали помехи у 35,7 % китайских студентов (124 человека) (табл.1). Так, например, при достаточно близком знакомстве с русской кулинарной традицией к русской национальной кухне студентами были отнесены следующие блюда: шашлык, плов, самса, шаверма, йогурт, салат «Цезарь», пицца и др. Показательны и комментарии китайских студентов о том, что «размер порции в хорошем русском ресторане подходит только для женщин, но недостаточен для мужчин»; что «блюда красиво оформлены, но порции маленькие, меньше, чем в Китае». Закономерно и указание на использование в местах общественного питания непривычных для китайских студентов приборов и др.
Значительные коммуникативные помехи (у 63,6 % опрошенных – 221 человек) вызвали различия в традициях поведения в заведениях общественного питания в России (табл. 1). Например, китайские студенты охарактеризовали поведение русских людей в ресторане как «тихое, сдержанное на фоне оживленных, открытых, шумных, ярко и празднично декорированных китайских ресторанов».
Оценочное отношение китайских студентов к русской кулинарной традиции и организации общественного питания проявилось как в позитивных оценках русской кухни (например: вкусная, полезная, разнообразная), так и в оценках сниженного характера (например: пресная, жирная, слишком калорийная, содержащая слишком много сладкого). Сниженные оценки стали причиной того, что ряд китайских студентов (68,4 %, или 238 человек) (табл. 1) ответили, что предпочитают питаться в России в китайских ресторанах: «Я ем только китайскую еду, потому что не привык к русской кухне», «Я обычно выбираю китайские рестораны и бары» и др. При этом многие отметили, что китайская кухня в России и в Китае существенно отличается: особенно большая разница заметна в недорогих китайских ресторанах, в которых «вкус еды сильно скорректирован в соответствии со вкусами русских потребителей»; «блюда не такие острые»; «на их вкус влияют ингредиенты, отличающиеся от используемых в Китае».
Обсуждение
Обобщая ответы, данные студентами, можно сделать вывод о том, что барьеры и помехи, возникающие в сфере общественного питания, проявляются в трех основных аспектах: этнографическом, этнопсихологическом и этнолингвистическом.
О помехах этнографического характера большей частью свидетельствуют ответы студентов на 1–4-ю группы вопросов, включенных в анкетирование.
Этнографические барьеры и помехи большей частью обусловлены:
- географическими и климатическими различиями, создавшими приоритет тех или иных продуктов в гастрономической сфере (пшеница и рожь – в России; рис – в Китае; молочные продукты – в России; овощи и рыба – в Китае и др.);
- национальными кулинарными традициями (отсутствие в китайской кухне в отличие от российской большого количества десертов и кондитерских изделий (употребление сахара, шоколада, кондитерских изделий традиционно сведено к минимуму, так как считается вредным для здоровья); незначительное употребление в пищу молочных продуктов; доминирование быстрого способа приготовления мясных, рыбных и овощных блюд (выпечка и запекание в числе способов приготовления пищи почти не используются); использование большого количества приправ в китайских блюдах, которые могут изменить вкус пищи до неузнаваемости; присутствие в китайской кухне большого количества специфических угощений, которые готовят по поводу многочисленных праздников (например, на праздник нахождения солнца в зените готовят «цзунцзы» – треугольные пирожки из клейкого риса с разнообразными начинками, обернутые тростниковыми листьями);
- традициями сервировки стола (в Китае блюда часто ставят на один общий стол с крутящейся столешницей в центре; индивидуально подают только пиалы с рисом, остальные блюда каждый пробует из общей тарелки, вращая центральную часть стола; в соответствии с традициями использования столовых приборов, в Китае принято использование палочек для еды из дерева, бамбука или пластика – ингредиенты в блюде нарезаются так, чтобы было удобно пользоваться этими приборами; в российских заведениях общественного питания размер порции непривычно мал для представителей Китая, где порция настолько велика, что традиционно за трапезой собирается несколько человек, чтобы иметь возможность попробовать различные блюда); количестве блюд на столе в Китае также имеет специфику; каждый прием пищи включает 3–4 основных блюда, для каждого гостя прибавляется одно блюдо);
- очередностью подачи блюд (все блюда основной трапезы обычно выносятся одновременно; «рис подается в начале обеда, но если в семье гость, то в конце трапезы; на праздничном приеме может быть до 12–13 перемен блюд, суп обычно подается в самом конце» (Тун Син, 2004);
- временем приема пищи (время приема пищи в Китае наступает несколько раньше, чем в России: обед в 11:30–12:30, ужин в 17:30–18:30; после обеда принято отдыхать до 14:00, а пребывать в гостях после 21:00 считается неудобным для Китая, это позднее время).
Этнопсихологические барьеры и помехи, связанные с поведенческими и ментальными особенностями представителей русской и китайской культур, нашли отражение в ответах студентов на 5-ю и 6-ю группы вопросов, включенных в анкетирование.
К ним можно отнести:
- особенности поведения в заведениях общественного питания (китайцы едят шумно, беспрерывно разговаривают и смеются);
- особое отношение к целебным свойствам пищи в китайской культуре (Li et al., 2004), всеядность (что исторически обусловлено частым голоданием и нехваткой продовольствия (Browning et al., 2019); китайцы, по собственному признанию, «едят все, что съедобно» (Линь, 2010: 304);
- интернациональный характер русской кухни и определенная «закрытость» и устойчивость китайской кулинарной традиции, мало изменявшейся в течение многих столетий;
- устойчивое предпочтение собственной национальной кухни другим гастрономическим культурам даже при нахождении в другой стране (Yen et al., 2018) и осознании того факта, что, например, китайская кухня в России отличается от китайской кухни на родине;
- различия во вкусовых предпочтениях при сочетании различных продуктов, приправ, текстур и ароматов (в Китае можно попробовать сладкий помидор или сладкую колбасу, лапшу и пельмени едят с уксусом/перцем и пр.): «благодаря принципу смешивания возникает бесчисленное множество комбинаций вкуса» (Линь, 2010: 308).
Этнографические и этнопсихологические барьеры и помехи, возникающие у китайских студентов в сфере общественного питания, коррелируют с фактами языка, проявляясь прежде всего на лексическом уровне, создавая помехи этнолингвистического характера, которые должны быть учтены в содержании обучения русскому языку китайских студентов.
При интегративном подходе к слову, предполагающему учет его языкового и внеязыкового содержания, можно определить, в каких его содержательных компонентах транслируются этнографические и этнопсихологические различия русской и китайской культур, создающие коммуникативные помехи. Ввиду способности слова, рассматриваемого с учетом всех его содержательных компонентов (языковых и внеязыковых), отражать в своем содержании специфику национальных культур, в корпусе лексических средств, относящихся к сфере общественного питания, необходимо учитывать следующие виды лакун: понятийные (абсолютные, безэквивалентная лексика), предполагающие отсутствие понятий и явлений в одном из сопоставляемых языков; собственно-лексические (отсутствие лексических единиц, называющих универсальные для сопоставляемых языков понятия); семантические (различия в семантических объемах корреспондирующих слов); коннотативные (несовпадение ассоциативного и оценочного потенциала слов); фоновые (несовпадение знаний о денотатах корреспондирующих слов); контекстные (несовпадения в контекстной реализации коррелирующих единиц).
К понятийным (абсолютным, безэквивалентным), предполагающим отсутствие понятий и явлений в одном из сопоставляемых языков, относятся многочисленные наименования блюд русской кухни, отсутствующие в китайской кулинарной традиции. Так, например, в словаре «Межкультурная коммуникация: Россия – Китай (словарь лакун)» к таким наименованиям относятся понятия борщ, блин, рассольник, запеканка, сивуха6, в других исследованиях к ним добавляются квас, окрошка, свекольник, щи, сырок и др. (Васильева, Некора, 2012: 208). К этой же группе лакун можно отнести понятия столовая ложка, десертная ложка, чайная ложка и др., отсутствующие в китайской культуре.
К собственно-лексическим (отсутствие лексических единиц, соответствующих универсальному для сопоставляемых языков понятия) лакунам можно отнести лексему суп, которая имеет соответствие в китайском языке, однако наименование первое (или первое блюдо) для этого понятия в китайском языке отсутствует. Данная лексическая лакуна обусловлена несовпадением порядка подачи блюд в русской и китайской культурах: например, наименование первые блюда в русском языке подразумевает супы, а в китайской культуре супы подаются в конце обеда. Данная лексическая лакуна может стать помехой в понимании содержания меню в русских заведениях общественного питания. Другим примером этого типа лакун, может служить лексема дыня, так как русскому слову в китайском языке соответствует несколько лексических единиц, называющих различные виды дыни.
Примером семантических лакун (различия в семантических объемах корреспондирующих слов) может служить лексема, имеющая понятийное и лексическое соответствие в китайском языке – cha. Однако лексема чай в русском языке имеет 4 значения (растение, высушенные листья, напиток, чаепитие), а в китайском значительно больше (растение, высушенные листья, напиток, подарок невесте при помолвке, чайное масло, чайный цветок, темно-бурый цвет и др.). Показательно, что «значение чаепитие в китайском языке обозначается самостоятельной единицей, то есть русское „чай – чаепитие“ является для китайских студентов семантической лакуной» (Цзоу, 2007). Семантические лакуны можно наблюдать при сопоставлении наименований различных кушаний, получивших в русском языке переносные значения, с китайскими соответствиями, не имеющими переносных значений (например, кисель в значении бесхарактерный, нерешительный человек, пышка – полная женщина невысокого роста и др.).
Примером коннотативных лакун (несовпадение ассоциативного и оценочного потенциала слов) может служить лексема хлеб, которая является не только лексической лакуной для китайских студентов, поскольку в китайском языке у данной лексемы отсутствует значение пища вообще, но и ценностной. Как известно, для русских людей хлеб является категорией нравственной, выходящей из ряда обычных продуктов питания и превращающей его в символ жизни вообще. Ввиду этого ценностно-оценочное содержание лексемы и ее ассоциативный потенциал (например: жизнь, блокада, самое главное, всему голова, нельзя выбрасывать и др.) составляют коннотативную, закодированную лакуну для китайских студентов.
Фоновые лакуны (несовпадение знаний о денотатах корреспондирующих слов) представляют собой самый распространенный тип лакун, отражающих культурные различия в сфере общественного питания. Сюда причисляются все знания, относящиеся к этнографическим и этнопсихологическим различиям культур, нередко отсутствующие у студентов, что продемонстрировали их ответы на вопросы, включенные в анкетирование. Это, например, знания о том, что чай в значении чаепитие (ср. пригласить кого-нибудь на чай) имеет особую традицию, отличную от китайской чайной церемонии. Чай – это задушевная беседа, это сердечное единение «согретых чаем душ». К фоновой информации о хлебе относятся и знания о 125 блокадных граммах хлеба в Ленинграде, остающихся незаживающей раной в душе россиян. К контекстным лакунам (несовпадения в контекстной реализации коррелирующих единиц) относятся словосочетания, отражающие национальную традицию употребления какого-либо блюда, отличную от китайской (например, чай с вареньем, чай с лимоном, суп со сметаной, купить/ принести что-либо к чаю и мн. др.). Сюда же можно отнести идиомы, отражающие особенности отношения к еде и традициям поведения за столом, характерные для русской культуры «Когда я ем, я глух и нем», «Кашу маслом не испортишь», «Хлеб всему голова» и мн. др., а также многочисленные прецедентные тексты, включающие тему еды и отношения к ней.
Заключение
Коммуникативные барьеры и помехи, возникающие в сфере общественного питания, сигнализируют о наличии лакун трех уровней (этнографического, этнопсихологического и этнолингвистического характера), то есть имеют интегративный характер, поскольку аккумулируют различия, относящиеся к сфере этнографии, этнопсихологии и этнолингвистики, ввиду чего не всегда поддаются четкой дифференциации. Включение асимметричных явлений, выделяемых на всех уровнях содержания слова, в процесс обучения лексике китайских студентов позволит снизить уровень коммуникативных барьеров и помех, возникающих у китайских студентов в сфере общественного питания. При этом необходимо учитывать, что помимо собственно-лингвистической информации, заключенной на понятийном, собственно-лексическом и семантическом уровнях содержания слова, большое значение имеет его коннотативное содержание, передающее отношение русских людей к еде, застолью, поведению за столом, а также фоновые знания об истории и традициях национальной кухни, о гастрономической культуре, правилах сервировки стола, порядке подачи блюд, видах заведений общественного питания, культурных связях России с другими национальными традициями. Перспективы данного исследования связаны с созданием учебного словаря «Гастрономический код культуры в лексике языка», который продолжит серию словарей «Вербальные коды культуры в лексике языка», ориентированных на китайских студентов и посвященных различным кодам культуры, находящим отражение в лексике языка.
1 Леонтович О.А. Россия и США : введение в межкультурную коммуникацию : учебное пособие. Волгоград : Перемена, 2003. С. 273.
2 Там же.
3 Там же.
4 Капкан М.В. Культура повседневности : учебное пособие. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2016. С. 87.
5 Быкова Г.В., Глазачева Н.Л., Лу Ч. Межкультурная коммуникация : Россия – Китай: словарь лакун / под ред. И.А. Стернина. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2011. 208 с.; Муравьев В.Л. Проблемы возникновения этнографических лакун : пособие по курсу типологии русского и французского языков. Владимир : ВГПИ, 1980. 106 с.
6 Быкова Г.В., Глазачева Н.Л., Лу Ч. Межкультурная коммуникация… С. 141.
Об авторах
Галина Михайловна Васильева
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
Email: galinav44@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2356-9489
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры межкультурной коммуникации, филологический факультет
Россия, 199053, Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 52Марина Александровна Чепинская
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
Автор, ответственный за переписку.
Email: marinachepinskaya@gmail.com
аспирант кафедры межкультурной коммуникации, филологический факультет Россия, 199053, Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д. 52
Цзянь Ван
Университет Дяньцзы в Ханчжоу
Email: wangjian@hdu.edu.cn
ORCID iD: 0000-0002-4593-5809
кандидат технических наук, заместитель директора совместного института Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и Университета Дяньцзы в Ханчжоу
Китай, 310018, Чжэцзян, ХанчжоуСписок литературы
- Ван Ц. Национально-культурная специфика лексико-семантической группы наименований блюд русской кухни в аспекте обучения РКИ (на материале русского и китайского языков) : автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2006. 23 с.
- Васильева Г.М., Некора Н.Е. Особенности национальных культур в зеркале языка. СПб. : СПГУВК, 2012. 220 с.
- Верещагин Е.М., Костомаров Е.Г. Язык и культура. М. : Индрик, 2005. 1040 с.
- Глазачева Н.Л. Еще раз о типологии межъязыковых лакун (на материале китайского и русского языков) // Лакуны в языке и речи : сборник научных трудов / под ред. Ю.А. Сорокина, Г.В. Быковой. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. С. 28–32.
- Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М. : Гнозис, 2003. 288 с.
- Линь Ю. Китайцы : моя страна и мой народ / пер. с китайского и предисл. Н.А. Спешнева. М. : Восточная литература, 2010. 335 с.
- Лутовинова И.С. Слово о пище русской. СПб. : Авалон : Азбука-классика, 2005. 288 с.
- Ма Я. Застольный ритуал и концепт «застолье» в китайской и русской лингвокультурах) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 2002. 23 с.
- Махонина А.А., Стернина М.А. Опыт типологии межъязыковых лакун // Лакуны в языке и речи : сборник научных трудов / под ред. Ю.А. Сорокина, Г.В. Быковой. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2005. С. 45–55.
- Похлебкин В.В. Из истории русской кулинарной культуры. М. : Центрполиграф, 2002. 540 с.
- Садохин А.П. Межкультурные барьеры и пути их преодоления в процессе коммуникации // Обсерватория культуры. 2008. № 2. С. 26–32.
- Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю., Крюков А.Н., Залевская А.А., Белов А.И., Василевич А.П., Андрушкевич О.В., Неверов С.В., Жельвис В.И., Рагожникова Т.М., Маслова В.А., Шмелева Т.В., Воловик А.В., Филиппова Д.А., Калимова Г.А., Чирикба В.А., Кулешова О.Д., Уфимцева Н.В. Этнопсихолингвистика. М. : Наука, 1988. 192 с.
- Степанов Ю.С. Французская стилистика. М. : Высшая школа, 1965. 356 с.
- Стернин И.А., Попова З.Д., Стернина М.А. Лакуны и концепты // Лакуны в языке и речи : сборник научных трудов / под ред. Ю.А. Сорокина, Г.В. Быковой. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. С. 205–223.
- Тун Син. Китайская книга мудрости / сост. Ч. Уайндридж ; пер. с англ. И. Павловой. М. : Астрель, 2004. 368 с.
- Хорошавина А.Г., Сулейманова А.А., Биккинина Л.А. К вопросу о классификации лакун в современном русском и китайском переводоведении // Балтийский гуманитарный журнал. 2013. № 4. С. 110–114.
- Цзоу С. Лингвокультурная специфика концепта «чай» и ее учет в обучении русскому языку китайских студентов) : автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2007. 12 c.
- Чепинская М.А. Объем и структура лексико-семантической группы наименований предприятий общественного питания, выступающей в качестве предмета обучения русскому языку иностранных студентов // Успехи гуманитарных наук. 2020. № 11. С. 142–147.
- Browning C.J., Qiu Z., Yang H., Zhang T., Thomas S.A. Food, eating, and happy aging : The perceptions of older Chinese people // Frontiers in Public Health. 2019. Vol. 7. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00073
- Hale K. Gaps in grammar and culture // Linguistics and Antropology / ed. by M. Kinkade, K. Hale, O. Werner. Lisse : The Peter de Ridder Press, 1975. Pp. 295–315.
- Hockett C.F. Chinese versus English : an exploration of the Whorfian thesis // Language in culture / ed. by H. Hoijer. Chicago : University of Chicago Press, 1954. Pp. 106–123.
- Li L.-T., Yin L.-J., Saito M. Function of traditional foods and food culture in China // Japan Agricultural Research Quarterly. 2004. Vol. 38. Issue 4. Pp. 213–220. https://doi.org/10.6090/jarq.38.213
- Yen D., Cappellini B., Wang C.L., Nguyen B. Food consumption when travelling abroad : Young Chinese sojourners’ food consumption in the UK // Appetite. 2018. Vol. 121. Pp. 198–206. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.097