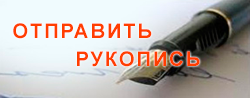Транскультурные и литературные измерения эволюции феминизма: La Jouissance versus Καθαρση
- Авторы: Бильченко Е.В.1,2
-
Учреждения:
- Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова
- Институт культурологии Национальной академии искусств Украины
- Выпуск: Том 18, № 3 (2021)
- Страницы: 277-294
- Раздел: Художественное измерение
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/27385
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2021-18-3-277-294
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Актуальность темы обусловлена радикализацией феминистического движения в глобальном мультикультурном мире, обретающей свое отражение в философской и литературной рефлексии. Цель исследования - раскрыть социокультурные и литературные измерения феминистического дискурса сквозь призму проектов транскультуры и деколонизации. Материалы исследования: оригинальные англоязычные тексты cultural and social studies, древние сакральные тексты на санскрите в английских переводах, русскоязычные философские, социологические, политологические, психоаналитические, филологические и культурологические труды. Методы исследования: диалектический, конкретно-исторический, феноменологогерменевтический, семиотический, компаративный, структуралистский, психоаналитический, деконструктивистский. Результаты исследования: показана эволюция феминизма от классового (марксистского) до культуралистского (неолиберального) сквозь три его исторические волны с литературными примерами. Заключение исследования - наблюдается сдвиг феминистических идеалов от паттерна катарсического освобождения посредством гендерного равенства до паттерна прагматического наслаждения посредством гендерного превосходства на почве теории отличий и привилегий и политики протекционизма и идентичностей.
Ключевые слова
Полный текст
Введение Транскультура традиционно считалась символом освобождения субъекта от скованности его индивидуальности паттернами отдельных локальных культур, но в постмодерном обществе символически не удовлетворяемых наслаждения, желания, потребления, - транскультура становится чем-то сродни трангрессии - непрерывной экстраполяции фантазма, - фиксируя процесс компрессии обсценного и сценического начал, интимного и публичного факторов бытия, бессознательного и сознательного регистров в психоделическом экстазе коммуникации, свойственной Сети, ризомной биологической власти и горизонтального контроля «пост-Паноптикума». Больше нет экономики, политики, культуры, нации, сексуальности, гендера и эстетики: есть трансэкономика, трансполитика, транскультура, транснационализм, транссексуальность, трансгендер и трансэстетика как механизмы перенесения глубинного бессознательного ядра собственной идентичности - пассивности как Реального (право наслаждаться, la jouissance, посредством созерцания, медитации или молитвы) - на Другого, чья невротическая обсессивная пустая активность становится перверзией экстаза коммуникации в виртуальном обществе семитической войны, кибер-буллинга, флейминга, хейтинга, сталкинга и других форм электронного фашизма, круглосуточная анонимная вездесущая природа которых выскальзывает из-под императивных рамок командно-административных форм дисциплинарной цензуры. Сегодня мы будем говорить о деградациии современного феминизма в феномен транскультурного буллинга как симптома новой неолиберальной цензуры. При этом мы будем подтверждать философскую и социокультурную динамику трансформации феминистического движения в исторической парадигме смысловыми инвариантами литературной кросскультурной цивилизационной памяти, фиксирующей в художественных образах те или иные психические типы представительниц данного движения: перед нами обрисуются литературные портреты героинь Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, Милана Кундеры и Маргарет Фуллер, а также современных российских поэтесс (Анна Долгарева, Стефания Данилова, Анна Ревякина), которые независимо от хронотопа своего бытия, независимо от личной идентификации с феминистической школой, в стилистике своих текстов, в создаваемой ими персональной картине мира и в образах своих персонажей и самих себя как Воображаемого Реального театрализированной жизни-драмы автора воплощают смыслы и ценности разных этапов эволюции феминизма, которые могут не совпадать с реальными периодами их жизнетворчества. Дополнение литературоведческого анализа философской компаративистикой и структурной семиотикой классического востоковедения обогатит наше исследование более полным пониманием генетических истоков идеи гендерного универсального равенства. Цель исследования - компаративный анализ трех исторических волн эволюции феминизма от традиционного катарсического симптома гендерного равенства к постмодерному гедонистическому фантазму гендерного превосходства в дискурсе транскультуры. Материалы, методы, результаты. Институализация феминизма в Западной Европе Нового времени наводит нас на мысль о необходимости применения не только конкретно-исторического, но и компаративного подхода к данной проблеме, основанном на семиотическом сопоставлении элементов культурологической парадигматики «Восток - Запад», которая в качестве логической дихотомии довольно длительное время мифологически читалась европоцентристским, унаследованным от гегельянства, монологическим сознанием как бинарная оппозиция «Деспотия (Восток) - Демократия (Запад)» [1]. Использование данной контроверзы как синонимической дилеммы является неприемлемым, поскольку, во-первых, древние деспотии не являются тождественными тоталитарным режимам ХХ века и это является вульгарной исторической проекцией, а во-вторых, стигматизация Востока как региона патриархального угнетения женщины, а идеализация Запада как воображаемого пространства прав и свобод является идеологическим жестом нелиберальной цензуры глобального мультикультурного мира, порождением которого и является феминизм, особенно если говорить о его поздних версиях. Востоку не нужна демократия, не потому, что он «плох», а потому, что в его иерархии нравственно-правовых ценностей взаимные обязанности важнее индивидуальных свобод, а соборность важнее атомарности. Вместо борьбы за права женщин в космогонии и космологии традиционных культур Востока была изначально заложена этика универсализма - равенства и солидарности, которая побеждала на уровне картины мира даже при наличии бытовых случаев насилия мужчины над женщиной. Отсутствие феминизма в восточных культурах, где лишь в ХХ веке он появился как западное заимствование, связано с конкретно-историческим контекстом возникновения этого движения. Изначальное равенство полов как вселенских энергий, заложенное в индо-буддийский и даосско-конфуцианский космизм (Пуруша - Пракрити в мейтхуне и йоге Индии, Инь - Ян в даосизме), делало нецелесообразным возникновение в данных традициях политических проектов, которые обосновывали бы то, чего и так никто не запрещал на ментальном уровне (при всем отличии культовых практик, где главным аспектом все равно считалось длительное, медитативное, ментальное «воспоминание» сакрального образа). Так, одним из первых текстов, содержащих утверждения о равенстве женщин и мужчин в контексте религиозных достижений, является «Тхеригатха» (часть палийского канона в буддизме) - сборник коротких стихов просветленных монахинь (бхикшуни тхери) о стараниях и достижениях на пути к архатству [2]. «Тхеригатха» содержит ряд текстов, утверждающих мысль о равенстве женщин с мужчинами в контексте религиозного достижения святости. Первый перевод на английский язык «Тхеригатхи» был опубликован Каролиной Августой Фоли в 1909 году, что не могло не повлиять на развитие феминизма в Европе как следствие ориентализма и его популярности. В текстах раннего буддизма, таких как «Кхандхака» [3], содержатся слова Гаутамы Будды о том, что женщина может достичь просветления; но при этом в «Бахудхатука-сутре» утверждается, что женщины-будды не может быть никогда [4]. Противоречия в святом письме хинаяны и махаяны не могли не вызвать множество теологических споров транслингвального характера, поскольку речь шла о разных толкованиях сходных терминов священных текстов. Известно, что сам Будда основал женскую сангху и в полной мере позволял женщинам участвовать в жизни общины с соблюдением дополнительных условий («восьми правил» праведного поведения, что по тем временам считалось прогрессивным экспериментом по отношению к патриархальному индуизму). Правила почитания женщинами монахов-мужчин (бхикшу), возможно, были связаны с тем, что Махакашьяпа и бхикшу того времени испытывали ревность к бхикшуни, которые сделались более популярными, и проводили больше образовательной и социальной работы. Некоторые комментаторы Палийского канона понимали слова Будды так, будто бы он считал женщин ответственными за падение человеческой расы. Однако большинство буддистов интерпретируют это по-другому: они считают, что в первую очередь причиной нравственного падения является похоть как таковая, а не женщины, общие пороки людей любого пола, увеличивающие их дурную карму. В тхеравадской «Сутта-питаке» говорится о том, что не стоит заострять внимание на различиях между полами, потому что это может стать препятствием в достижении нирваны. Здесь половая дискриминация считается проделкой демона Мары, уводящего с духовного пути: «Каждый, кто думает “я женщина”, или “я мужчина”, или “я вообще кто?” - это тот, кто внимает Маре» (Сома-сутта) [5]: ср. с христианством с его гендерным равенством элллинов и иудеев, мужчин и женщин в Боге. Тем самым подчеркивается гендерная нейтральность буддийской концепции Анатмана (Ничто) - стратегии «несамости» как высшего единства относительностей (пустоты - шуньяты), которой учили Будда и его ученик Нагарджуна для освобождения от страданий. А в сутре «Зависимость» Будда утверждает, что, если мужчина или женщина цепляются за свою гендерную идентичность, они попадают в зависимость от нее как от колеса сансары. В то же время в Тхераваде считается, что женщине практически невозможно достичь даже состояния бодхисаттвы. Боги, мужчины, звери и даже пресмыкающиеся могут стать бодхисаттвами, а женщины - нет. Рождение женщиной рассматривается как результат плохой кармы. При этом Тхеравада не запрещает женщине стремиться к пробуждению и достигать его, однако женщина не может возглавлять буддистскую религиозную общину. Если человек, мужчина или женщина, проявит сильное желание к достижению состояния Будды и живущий одновременно с ним Будда подтвердит это, то такой человек уже не родится в женском теле ни в одной из следующих жизней. Соответственно, для практикующей буддистки школы Тхеравада цель жизни в том, чтобы в следующей жизни родиться мужчиной и тогда получить все возможности для духовного просветления и достижения состояния Будды. Для этого нужно совершать праведные деяния и искренне стремиться к мужественности. Различные притчи буддизма (о монахе, переносящим женщину через реку, о девушке, преображенной в юношу перед уходом в нирвану) говорят нам о неоднозначности отношения буддизма к женщине, что, впрочем, не отменяет его гендерного универсализма как мировой религии. Ранние ограничения на достижение женщиной состояния будды были позднее отменены в «Лотосовой сутре», открывшей прямой путь к просветлению для женщин, равно как и для мужчин [6]. Так, Яшодхара, бывшая жена Будды Шакьямуни и мать его единственного сына Рахулы, позднее стала монахиней-бхикшуни и архаткой. В тантрической иконографии школы Ваджраяна встречаются изображения женщин-Будд в союзе Блаженства и Пустоты. А в буддизме Махаяны приход к состоянию Будды считается реально достижимым и является общей целью всех последователей Махаяны. В XX веке тибетская монахиня Тенцин Палмо школы Друкпа Кагью заявила: «Я дала обещание, что достигну Просветления в женской форме - и не важно, сколько жизней на это понадобится» [7. С. 5]. Предварительный вывод, который мы можем сделать, анализируя концепцию гендера в буддизме Махаяны и Ваджраяны, - это преобладание универсальной этики гедерного равенства в случае духовно равного потенциала мужчин и женщин на их пути в просветление. В этом можно увидеть классический прообраз модерного марксистского феминизма и фрейдомарксизма с их тезисами о деле, труде, занятии, профессии как об инструментах, снимающих вопрос о гендерных отличиях, не упраздняя их совсем, но и не придавая им радикального разъединительного предназначения в социуме. Обсуждение Истоки нового феминизма, основанного на политике идентичностей и риторике отличий - DifferAnce (мужчина и женщина - не равны, мужчина - не важнее женщины, а, скорее, наоборот, женщина реваншистски начинает управлять мужчиной, ибо женская, гротескно подчеркнутая, чувственная аутентичность должна в обществе в рамках политики протекционизма защищаться законом) - следует искать в полисной системе ценностей Древней Греции, в частности, в угнетенном положении женщин в Афинах, легитимированном античным законодательством. Последнее разделяло женщин на четыре категории: «жены» («ойкурема», «предмет домашней утвари», рожающий «законных детей»); «куртизанки» (интеллектуально развитые изящные женщины для развлечения), «гетеры» (духовные «подруги», практически наставницы и наперсницы) и «проститутки» (предмет наслаждения). Об этой гендерной типологии на уровне законодательства и публичных речей на агоре говорили Перикл, Солон, Демосфен, Симонид Аморгский и Аристофан. Первые протесты общественности, как ни странно, были направлены против пьес Софокла и Еврипида, где как раз изображались страдания угнетенных противоречивых женщин якобы за «их пороки» (например, «Медея» Еврипида). Эти трагедии вызывали лицемерное возмущение афинской общественности и обвинения в женоненавистничестве, при этом реальное патриархальное угнетение жен знатных афинян на их женской половине («гинекее») при полной невозможности посещать гимназии и обучении лишь дома чтению, письму, кройке и шитью с дальнейшим принудительным выбором супруга никого особо не беспокоило в полисной демократии Афин, в отличие от Спарты, где милитаристское воспитание побуждало к уважению женщин как матерей будущих солдат, дозволяя им посещение школ и даже инициируя совместные спортивные турниры девочек и мальчиков. Духовная революция Христа в гендерном аспекте с его реабилитацией женщины как субъекта духа и тот факт, что много женщин ходили за Ним, свидетельствуя его святость и праведность (Мария, Марфа, Мария Магдалина) [Мк. 16. 9; Ин. 20. 14-17; Мф. 27. 56; Лк. 8. 2], подрывают распределение гендерных ролей в языческом, чисто маскулинном обществе. Также и в родоплеменных военных демократиях варварских племен (у викингов, среди бедных жителей античных полисов - метеков - и среди хтонически настроенных на солярно-вегетативные культы Праматери-Богини племен русичей) в экстремальных условиях выживания проблема женщины не стояла так остро, так как ценился прежде всего человек как боеспособный член племени. Достаточно вспомнить образ Софии, воплощенный в иконе Марии Оранты в Софийском соборе в Киеве, несущий черты древней языческой мудрой богини-защитницы, покровительницы войн и ремесел (Макоши, Афины-Паллады, еврейской Хокмы) [8]. Между тем жены богатых рабовладельцев нигде не учились и не работали. Таким образом, феминизм можно считать продуктом классической европейской демократии и результатом ранней классовой дифференциации, а в модерне - продуктом зарождения буржуазного общества. Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали, что, когда классовое угнетение будет уничтожено, исчезнет и половое неравенство. Однако современные социалистические феминисты-марксисты считают наивной подобную точку зрения, согласно которой гендерное угнетение как надстройка идентичностей является подчиненным по отношению к классовому угнетению как к базису экономики, поэтому значительная часть усилий сторонников социалистического феминизма сейчас направлена на отделение инфраструктуры от суперструктуры, что предстает в нашем понимании некоторым недостаточным осознанием ключевого значения базовой травмы как источника ущербности глобального цифрового мультикультурного мира наслаждения посредством Другого и потребления Другого как фантазма (petit a’ jouissance). Истоки классического европейского феминизма принято датировать концом XVIII - началом XIX века, когда мнение о том, что женщина занимает угнетенное положение в обществе, в центре которого стоит мужчина, стало получать более широкое распространение. Феминистское движение берет начало в реформаторском движении западного общества XIX века. Среди активисток этого времени наиболее известной была София де Кондорсе. Если мы отследим дальнейшую историю феминизма, нам будет ясна его диффузная и полиморфная природа, зависящая от исторического контекста. В культурологическом дискурсе феминизм представляет собой условное понятие, включающее спектр разнородных идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение равенства экономических, личных и общественных прав для женщин или на преодоление сексизма. Феминистские движения и в прошлом, и в настоящем борются за права женщин: за избирательное право, право занимать государственные должности, право на труд и его равную оплату, право на собственность и наследие, на образование, на участие в сделках, на равные возможности в браке, право на отпуск по беременности и родам, право на телесную автономию и неприкосновенность (защита женщин и девочек от изнасилований, сексуальных домогательств и домашнего насилия). Феминистские движения считаются одной из главных движущих сил крупнейших социальных изменений в области демократии, особенно в западных странах, где их деятельность почти единогласно признается причиной таких достижений, как появление выборов, возможность репродуктивной регуляции через доступ к средствам контрацепции и абортам, финансовые сделки и языковую нейтральность употребления феминитивов (чего не скажешь о российской транслингвальной презрительной предвзятости к обозначениям «поэтесса» и «поэтка» в культуре художественного слова, например, у Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, считавшими данные слова синонимами истерического сентиментализма в лирике) в английском языке. Хотя феминистские движения были и остаются сосредоточенными в основном на правах женщин, многие феминистки выступают за включение в феминистскую повестку освобождения и мужчин, поскольку патриархальная организация общества, по их мнению, наносит вред и мужским гендерным ролям. Эволюция западного женского движения отражает упомянутую нами в начале работы транскультурную природу и подразделяется на три волны. Первая волна относится главным образом к суфражистскому движению XIX и начала XX века, в котором ключевыми вопросами были права собственности для замужних женщин и право избирательного голоса для женщин. Первая волна реализовывает себя через просветительские традиции природного права и общественного договора, относясь к классическому либерализму. Следует отметить, что в самодержавной России политических прав, помимо женщин, были лишены и многие другие группы населения, а имущественные права российских женщин были защищены значительно лучше, чем в США, Англии и Франции. Поэтому первоначально женское движение в России сосредоточилось на борьбе за право на высшее образование и связанное с ним право на квалифицированный труд. Суфражизм нашел небольшое, но яркое выражение в литературе. Сконцентрируем наше исследовательское внимание на феномене женщины-суфражистки - представительницы первой феминистической волны движения - в мировой литературе. Уже к середине ХІХ века в европейской и американской литературной школе появились интеллектуальные писательницы, номинированные критиками-мужчинами как «bas-bleu (синий чулок)», среди которых наиболее яркой личностью является, безусловно, американский литератор, политик, журналистка и критик, философ-трансценденталист, защитница прав женщин на труд и образование, человек с изысканным, обеспеченным ей деспотичным отцом как Большим Другим, европейским воспитанием и воистину американской практической активностью, автор исторического труда «Женщина в XIX веке», опубликованного в 1845 году и считающегося едва ли не первой работой по феминизму [9], - речь идет о легендарной Маргарет Фуллер. Ее имя мало известно в России, в США оно также популярно лишь в узком кругу почитателей, но ее героиня - умная, образованная, тонкая, но невыносимо уродливая женщина с шекспировским именем Миранда, сутулящаяся от своей близорукости, явилась «прототипом» самой писательницы, чья жизнь стала «экстимным» (по Ж. Лакану) кошмаром на грани Реального, связанного с памятью Отца, и Символического, связанного с маргинализацией в обществе того времени. Впрочем, оптимистический момент литературного феминизма Маргарет Фуллер заключается в том, что Миранда (Маргарет) своими харизмой, юмором, иронией, артистизмом, умом и обаянием покоряет блистательного мужчину, доказывая пошлому миру приоритет духа над телом, остроумия над пошлостью, божественной красоты Ф.М. Достоевского над сиюминутным looking «красавицы». Жизненное творчество Маргарет Фуллер как формула семиотической театрализации ее текста привлекло внимание Жорж Санд, Джузеппе Мазини, Адама Мицкевича, Джорджа Элиота, Эдгара По, вызвав целую серию ее романтических отношений и реальных связей. По большому счету, в литературной истории феминизма это был первый опыт откровенного повествования о собственной нехватке как об избытке и о базовой любовной травме как источнике жизненной силы и смертельного риска. Под второй волной западного женского движения понимают идеи и действия, связанные с женским освободительным движением, которое начало развиваться на волне информатизации и цифровизации с 1960-х годов и выступало за полное юридическое и социальное равенство женщин и мужчин. Вторая волна отражает процессы поздней индустриализации, приобщения женщин к работе на фабриках и заводах, и она длится до конца 1980-х годов, подпитываемая субкультурой рокмузыки и хиппи. Эта волна была продолжением предыдущей фазы феминизма, включающей суфражисток в Великобритании и США. Безусловным достижением второй волны стала академическая постструктуралистская феминистская теория во Франции. По сравнению с разработками в США и Великобритании французский феминизм отличается более философским и литературным подходом. В работах этого направления можно отметить экзистенциальность, экспрессивность и метафоричность. Французский феминизм мало внимания уделяет политическим идеологиям и сосредотачивается на теориях «тела» (Симона де Бовуар, Юлия Кристева). Вторая волна способствовала оформлению мощной методологической базы феминизма. Феминистская теория включает в себя исследования в области культурологии, антропологии, социологии, экономики, литературоведения, искусствоведения, психоанализа, философии. В качестве репрезентативных литературных примеров «героинь» второй (социальной, классовой) волны феминизма мы бы выделили не художественных персонажей, а именно реальных поэтов разных времен, женщин, пишущих на новом семиотическом языке XX и XXI веков, которые своим творчеством демонстрируют сильный Animus, не теряя при этом в женственности лирики, поскольку достигли подлинно гендерного универсализма, даже если их культурная идентификация далека от ассоциирования себя с марксистским феминизмом. Солидарнсть и равенство - интуитивные черты их социально направленного и лишенного культа пола и телесности творчества, заставляющего проводить параллели с Егором Летовым, Янкой Дягилевой, Александром Башлачевым. И речь идет не только о классическом и уже упоминаемом нами эпизоде с лирически нежной Анной Ахматовой и иронически страстной Мариной Цветаевой, которые не признавали уменьшительных феминитивов «поэтка» и «поэтесса», толкуя творчество вне гендера и защищаясь от стигматизации женщин-поэтов истерическими нарративами тривиальной сентиментальности. Сейчас мы бы упомянули творчество иных поэтов как выразителей духа феминизма второй волны: Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Юнны Мориц, а также современных молодых авторов: Юлии Мамочевой, Анны Ревякиной, Стефании Даниловой и Анны Долгаревой. Всех их объединяют жесткий корневитый слог, смачная фонетика Владимира Маяковского, аполлоновская ясность мысли в стиле Николая Гумилёва в сочетании с романтическим, символически мистериальным дионисийством Александра Блока, а также рациональная четкость выражения гражданственности, низовой неформальный патриотизм, чисто фольклорная, «богатырская», тяга к архетипам русского смыслового поля, тексты о праведности оборонительной войны и антивоенная пропаганда в случае братоубийства, экзистенциальное отчаяние и наличие в стихотворениях полифонического подтекста, позволяющего выражать традицию в современной форме. Они живут в наше симбиотическое гибридное время, и концептуально соборный синтез диалектически переосмысленного советского наследия, художественной классики Золотого и Серебряного веков, тоники эпохи шестидесятников, структурного психоанализа в искусстве, экранной культуры как формы выражения слова в образе клипа, роки рэп-традиции, фольклорного Логоса для них - органичен. Упомянутые мной поэты - профессионалы, для которых (по их собственным неоднократным утверждениям) гендер не имеет смысла в условиях профессионального выполнения своих обязанностей любым человеком: в литературе, публицистике, журналистике, бизнесе, военном деле, театре и т.д. Что также немаловажно, многие из них при разнообразии личной жизни создают образы ярко патриархальных героинь в стиле Царь-Девицы Марины Цветаевой (поэма «Шахтерская дочь» Анны Ревякиной), художественная читка Юлией Мамочевой в экспериментальной пьесе Андрея Иванова «Это все она» в театре МХАТ, международный арт-проект Стефании Даниловой - антология, куда вошли стихотворения десятков стран мира о борьбе с пандемией COVID-19, объединившие именно людей, а не мужчин и женщин, вокруг всеобщей планетарной катастрофы). В классическом уже трагическом сборнике «Уезжают навсегда» поэта Анны Долгаревой ставшая крылатой ее фраза: «В гильзу от АТС помещается 20 грамм в данном случае - виски» [10. С. 31] - с удивительной простотой выражена почти апостольская миссия нивеляции раскалывающей роли полов в экстремальных условиях сестринства как братства и братства как сестринства в ситуации войны, где вместе работают парни и девушки, дети и старики, солдаты и военкоры. Пожалуй, мы рискнем провести компаративную ассоциацию и сделать смелый вывод о том, что подобная лирика сопоставима с лучшими «женскими» («мужскими», по сути) песнями времен Великой Отечественной войны, исполняемыми Клавдией Шульженко и Ниной Ургант. Вторая волна феминизма демонстрирует органичное мужество женщины, не теряющей своего призвания к любви и материнству, но сохраняющей гармонию архетипов духа и души в аналитической психологии К. Юнга, а также, по структурной антропологии Воображаемого Ж. Дюрана, сизигию диурна (дневного мужского режима героический борьбы со смертью) и ноктюрна (ночного женского режима мудрого принятия смерти как друга). Вторая волна феминизма продолжает свое существование и сейчас и сосуществует с более радикальным лагерем, обозначаемым третьей волной феминизма и свойственным чисто сетевому постиндустриальному информационному обществу. Если первая волна сосредотачивалась на борьбе за равные избирательные права мужчин и женщин, вторая волна концентрировалась на всех аспектах юридического и социального равенства и ликвидации дискриминации полов как таковой, то третья волна феминизма (Ребекка Уолкер, Наоми Вульф, Валери Брайсон, Кейт Миллет, Джудит Батлер) [11] является не просто продолжением второй волны и реакцией на ряд ее неудач. В отличие от первых двух, она подменяет социально-этический универсализм солидарности, в равной степени свойственный и марксизму, и традиционным мировым религиям (буддизм, христианство), фантазмом корпоративной партикулярной матрицы акцентуации репрессивных отличий, свойственной монопольному рынку трансэкономики, трансполитики, транссексуальности и транскультуры как феноменов трангрессии (проекции наружу) желания вообще. Появление третьей волны относят к 1990-м годам правой реакции в США и связывают с так называемыми сексуальными войнами между феминистками. Третья волна феминизма так же пестра, как и породившее ее постиндустриальное общество меритократов и хипстеров «цветного тренда»: ее характерными чертами является смесь компонентов квир-теории, антирасизма, анархо-синдикализма, инди-панк-рока, вуманизма, постколониальной теории, экзистенциализма, коммунизма, постмодернизма, транснационализма, киберфеминизма, экофеминизма, индивидуалистского феминизма, трансгендерности и др. В рамках третьей волны складывается разветвленная классификация моделей современного феминизма: лесбийский, либеральный, духовный, индивидуалистический, мультикультурный, мужской, постмарксистский, постколониальный, психоаналитический, радикальный, социалистический, сепаратистский, экзистенциальный и т.д. Интердискурсивность и полицентризм обеспечивают рыхлую, текучую структуру постмодерного феминизма. Последний виток развития феминизма - третью волну этой парадигмы - можно расценивать как очередную попытку общества modernity к гомеостатическому инерциальному воспроизводству за счет ритуальной постмодерной критики. Отрицание за постмодерном философской и прикладной самостоятельности (Ю. Хабермас, Б. Хюббнер) не помешало отдельным представителям американского цивилизационного и частично релятивистского подхода (С. Хантингтон), настаивая на культурологической парадигматике «Восток - Запад», предпринять попытку переосмыслить Запад в качестве «постколониализма» в рамках ставшей уже тривиальной «постструктуральной» культурной антропологии «мягкой силы» «аккультурации» Востока как «своего Другого» (к чему склонялись также софтглобалисты третьей волны М. Кастельс и У. Бек). Третья волна феминизма принадлежит к несколько иной эписистеме, обозначенной в рамках классификации мультикультурализма у О. Радтке как «реактивный мультикультурализм» «низов» (радикально «левого» или - чаще - радикально «правого» толка, вплоть до антиглобализма), для определения которого сейчас используется понятие «альтермодерный», «критический», «деколониальный» «поворот», социальную базу которого составили этнические меньшинства Африки, Южной Америки и США (латинос), подверженные длительному геноциду. Дифференцируем некоторые терминологические тонкости. «Альтермодерн», например, у искусствоведа и арт-куратора Н. Буррио используется как художественный термин для определения культурных гибридов арт-рынка (весьма приблизительные синонимы термина: «этнофутуризм», «неофольклоризм», «транскультура», «кросскультурность»), а в социально-политическом дискурсе (А. Морита, Р. Робертсон) «альтермодерн» означает «мягкую критику» вестернизации при допущении глобальных информационных технологий (тоже весьма приблизительные синонимы: глоболокализация, глокализм, трансформизм, реформаторство, «четвертая волна», софт-традиционализм). В данном же случае речь идет о чем-то несомненно большем - о довольно радикальном проекте новой мифологической, автобиографической и географической памяти, который разработали угнетаемые группы для деконструкции модерного западного общества в целом на основании реванша за репрессивную роль капитала, знания, государства, господствующего языка и расы при открытии Нового света Старым, включая гендерное давление со стороны имперских англо-саксонских элит, внушивших местному населению безальтернативность («мужество лишенных надежды» по Д. Агамбену) пути западного капитализма [12]. В наиболее радикальных формах деколониализм связан даже с антиглобализмом - мексиканским сапатизмом и Всемирным социальным форумом в Порту-Алегри. Безусловными научным достижением деколониального мышления является острая критика имперской эпистемологии, мондиализма, картезианского монологического логоцентризма, западной метафизики через дерридианскую грамматологию, осуждение нарративов сциентизма, позитивизма, феноменологического регионализма и постколониальной этнографической описательности якобы «целостности» современных «экзотических» культур, каждая из которых изнутри - неоднородна, расколота, ущербна, несет в себе универсальную базовую социальную травму. Впрочем, «уже-вписанность» (выражение С. Жижека и постлакановской школы Люблян) деколониальной парадигмы в матрицу неолиберального мира - через «реактивный» мультикультурный глобализм, консервативный постмодерный плюрализм, культуралистский сдвиг классовых противоречий центра и периферии глобальной экономики, телесную политику с ее «онтологизацией» истории как отсроченного Откровения «Золотого века» у аборигенов, акцентуацией хайдеггеровского «бытия-к-смерти» и трангрессией биополитики, в частности, прагматическим синтезированием партнерских (?) усилий форумов глобалистского Давоса и антиглобалистского Порту-Алегри - не позволяет нам однозначно считать данную парадигму проявлением «радикального разрыва» в значении «истины-события» А. Бадью, поскольку именно вульгаризированная «гротескная» деколонильность рождает типично глобалистские эко-, «цветные», квири BLM-тренды преимущественно в манипулятивном аспекте, нивелируя тем самым свою изначальную теоретическую и прикладную ценность подлинных феноменов диалога, универсальной этики, идеалов единства во многообразии, полифонии и реального интернационализма. «Здесь важно иметь в виду, что мы стремимся не изучать границы и тех, кто их пересекает, а быть границей и думать с пограничья, пересоздавать географические фронтиры, имперско-колониальные субъектности и территориальные эпистемологии. В 1903 году афроамериканский социолог Уильям Дюбуа, автор концепции двойственного сознания, писал, что проблемой XX века станет проблема цвета кожи. Проблемой же XX века, по-видимому, станет не цвет кожи, а “цвет разума”, проблема водораздела, но не просто расового, а эпистемологического», - справедливо указывает одна из учредительниц проекта М. Тлостанова [12. С. 5], избегая номинации вакуума со стороны все той же символической структуры колониализма (показательны эпистемологически точные афористические цитации антиглобалистов, если мы имеем право на данное определение: “To be present but not represented” в бадьюанстве, “Learning to unlearn” у М. Тлостановой в соавторстве с В. Миньоло [13]). Феминизм третьей волны, на наш субъективный взгляд, представляется проявлением именно не онтологически адекватного «деколониального мышления» с позитивной программой действий, но реваншистским симптомом постструктуралистской изнанки супер-структуры модерного колониального общества, фантазмом «темного Логоса» коллективного англо-саксонского Запада, играющего по его же правилам и на его же поле, обходясь исключительно «косметологией», без попыток капитального ремонта. Этот феминизм отказывается от понимания женской гетеросексуальности как нормы и высоко ценит сексуальность лишь как инструмент раскрепощения женщин в сторону перверзий (включая права ЛГБТ). Феминизм третьей волны также критикует присущий второй волне классический эссенциализм в определении женственности и женского опыта за чрезмерную сосредоточенность на опыте белых женщин среднего класса. Феминистки третьей волны уделяют большое внимание микрополитике в сексуальности маргинальных женских меньшинств (цветных, эмигранток, безработных и т.д.). Феминизм третьей волны вобрал в себя многие тезисы, сформулированные активистками второй волны, но, поскольку этот феминизм занимал там маргинальные позиции, травматическим реваншем стало смещение базового конфликта от классового (марксовского) к вторичному, связанному с сексуальными, расовыми и культурными отличиями, что привело к радикальному культурализму - стилизации экономических отличий под цивилизационные, что вообще является типичным синдромом неолиберальной гегемонии. Подобное смещение зафиксировано в «политике идентичности» и в «теории привилегий», согласно которой, даже если какая-либо социальная группа не подвергается дискриминации официально, она все равно может страдать от отсутствия «привилегий», которые имеются у других социальных групп. Теория привилегий фактически привела к господству меньшинств над большинствами и женщин над мужчинами. В наиболее радикальной интерпретации, представители «привилегированных» групп населения вообще не имеют права на какую бы то ни было критику в адрес «непривилегированных». На основе теории привилегий развивается радикальный феминистский неолиберализм, отстаивающий идеи протекционистской политики в отношении женщин. Таким образом, феминизм прошел путь от концепций гендерно-нейтрального законодательства до концепций гендерно-чувствительной политики и протекционистского законодательства, позволяющих женщинам не просто получать равные права с мужчинами, но и доминировать над ними. Новые постмодерные феминистские концепции протекционистского законодательства широко критикуются сторонниками классического либерализма, так как идеи позитивной дискриминации противоречат идеям равенства и индивидуальной свободы вообще. Одним из ключевых элементов современной феминистской парадигмы является теория интерсекциональности, согласно которой различные формы угнетения (сексизм, патриархат, расизм) носят системный характер, пронизывают все общество, все социальные институты и уровни социального взаимодействия, укрепляют и поддерживают друг друга. К важнейшим отличительным чертам новой феминистской теории также относится последовательная критика традиционного научного знания. Феминистская теория критикует традиционную философию, науку, литературу и другие «авторитетные» в их понимании способы описания мира, создаваемые с точки зрения социально привилегированных мужчин (вплоть до фольклора, мифов и детских сказок). Некоторые радикальные феминистки полагают, что в обществе существует основанная на мужском начале структура власти и эта структура является причиной угнетения и неравенства, и пока вся эта система и ее ценности продолжают существовать, никакие значительные реформы общества невозможны, и они не видят другой альтернативы, кроме полной деконструкции общества для достижения своих целей. Зарождается мнение, что мир был бы значительно лучше, если бы в нем было намного меньше мужчин. Отсюда - критика гетеросексуальности, традиционной семьи, вагинального оргазма, любви и секса как стратегий подчинения, традиционного равенства как мужского паттерна и обоснование господства женского гомосексуализма. Типичными примерами женщин - выразительниц третьей волны постмодерного неолиберального феминизма в литературе - являются страдающие, эгоистические и богемные героини романов Милана Кундеры. Ярким концентратом носительниц этих умонастроений является художница Сабина из «Невыносимой легкости бытия» [14], предавшая все и всю себя в ценностном измерении - до такой степени, что отсутствие предметов для дальнейшего предательства обессмыслило ее бытие, вызвав тотальное отчуждение, утрату веры, нравственный упадок, эстетические перверзии, эротический хеппенинг и декадентство, богемные увлечения, тщеславный карьеризм, экзотику символической репрезентации своей личности, трансгрессию, увлекательную трагическую игру с фантазмами смерти, внутреннюю и внешнюю миграцию (впрочем, в любом случае ее не устроившую) и сокрытие от себя же самой своего «сшитого» симптомами Воображаемого бессознательного - пустыни Реального - вакуума, пронизанного «открытым швом» садомазохистского расчесывания раны, зияния, продирающегося сквозь расходящиеся знаковые спайки самоутешительных иллюзорных историй. В результате «невыносимая легкость бытия» эмансипированной героини раскрылась здесь как культурная шизофрения, тяга к трендам и к моде при одновременной демонстративной ретроспективности, как двойной код, трагический юмор возвышенного и смешного (история, созвучная роману «Шутка»), как эстетическая либеральная ирония, как кризис метафизической идентичности, как принудительность наслаждения без его удовлетворения, как релятивное чередование невроза и депрессии, как утрата веры и тяга к символической репрезентации своей и чужой телесности, как безумно страдающий нехваткой тоски по родине космополитизм, как невозможность номинировать свой вакуум в символической структуре события ни социальными установками социализма, ни буржуазными нарративами американизма - все это превращает Сабину в героиню философской эссеистики Дж. Батлер или персонажа фильмографии Д. Линча. Но эти же качества придают ей удивительную, отличную от постмодерной симуляции, правдивость: феминистически настроенная Сабина, тем не менее, не смешивает публичный и приватный сектора бытия и не превращает свою жизнь в медиаперформанс, что обычно свойственно гиперреализму и экстатической коммуникации экранной клиповой культуры постмодерна. Взаимно божественная, почти мифологическая, синхронная смерть двух других главных героев романа, Томаша и Терезы, отдавших предпочтение не богемной невесомости жизни, а моральному весу традиции как модерной «легкой тяжести» бытия, выносимого, как креста, перед невыносимостью пустоты, постмодерной «тяжкой легкости» без-бытийности как симулякра - это истинное событие повергает стареющую Сабину в смутное «кладбищенское» сомнение о правильности прожитой жизни, где наслаждение (La Jouissance) Другим как petit а «свободное» понимание любви как очарования господствующим означающим всегда превалировало над реальностью семейной и/или дружеской духовной любви (agape, κάθαρση) как осознанного слияния нехваток и травм любящих в откровенной реальности их сакрального и профанного опытов по А. Зупанчич (в данном случае - любви Томаша и Терезы, «толстовский» и «кантовский» дух моральных императивов которых, сопоставимый с Кити и Левиным, четко прослеживается в метафорической кличке их собаки - символа их взаимной верности - «Каренин»). Заключение Модерное движение за равенство полов трансформировалось в постмодерное утверждение неравенства полов и, как следствие, - господства женщин над мужчинами. Служение уступило место наслаждению, катарсис - экзерсису, этика - эстетике, модерн - постмодерну. Мультикультурность и интертекстуальность обратились новой тотальностью. Радикальный феминизм является результатом господства неолиберализма как поздней формы гиперглобализма. Парадокс радикального феминизма заключается в том, что в каком-то смысле слова феминистки выступают против не только различных «отсталых» форм социального устройства, но и против нынешней либеральной демократии западного типа, их же и породившей. Из многочисленных идей радикального феминизма стоит упомянуть «лесбийский сепаратизм». Она состоит в том, что женщины вообще не должны вступать в сексуальные отношения с мужчинами, потому что любая форма сексуальных отношений с мужчиной так или иначе становится продолжением многовековой традиции угнетения. Ритуалы романтической влюбленности, например, - не более чем форма покупки женского тела и контроля над женскими эмоциями. В неолиберальном обществе четко устанавливаются две условные политические ветки радикального феминизма: «правая» и «левая». Согласно этой дихотомии, женщинам предоставляется выбор - либо быть такими же, как мужчины (марксистское классовое профессиональное равенство на работе, в творчестве и на войне), либо быть отличными от мужчин (неравенство, отрицание эгалитарности как скрытой формы маскулинной агрессии, гротескная гипербола феминности в стилистике). И если левый феминизм настаивает на расширении доступа женщин к мужским видам труда и одежды, то правые считали это очередной формой насилия, вернув миру агрессивный макияж и каблуки (как традиционные атрибуты угнетения, ставшие символами нетронутой эмансипации). По большому счету, оба направления феминизма третьей волны - «правый» и «левый» - являются составляющими неолиберального мира - кокона, который устанавливает условные оппозиции, апроприируя все иррациональные формы протеста, блуждающие избытки и маргинальные движения, превращаемые им в «бунт на продажу», карманную оппозицию, ритуальное показное самоуничижение для продолжения инерции гомеостаза непрерывно перегружающейся самовоспроизводящейся системы. Именно неолиберализм является главным отличием современного феминизма от классического. Феминизм первой и второй волны (просветительский и индустриальный) были эгалитарно универсальными, неолиберальный феминизм - ярко партикулярный, как зеркало монопольного рынка, являясь иллюзией выбора между одинаково номинированными им же правым культом отличия Fa и левым культом равенства Antifa. Риторика отличий приводит к провокации искусственного раскола между мужчинами и женщинами, различными этническими, социальным и религиозными группами, что соответствует политике «военного пацифизма»: разделять и властвовать. Таким образом, радикальный неолиберальный феминизм декларируется как постмодерная политически ангажированная практика женского реваншизма. Как любой неототалитаризм (нацизм, расизм, фашизм, фундаментализм), радикальный феминизм возникает из состояния зияния, порожденного релятивацией ценностей и кризисом метафизической идентичности, свойственными для постмодерна. Как любой радикализм, новый феминизм, порожденный и используемый либерал-демократией как средство укрепления своей власти через разделение людей, начинает самоотрицать свое же материнское плато - неолиберализм. Он выходит из-под контроля благодаря анархической маргинальности BLM-тренда. На этом поддержка, оказываемая неолиберальными феминистками моноэтническим и явно патриархальным националистическим лидерам, которые в их глазах должны были бы служить символом патриархального угнетения, свидетельствует в пользу союза национализма с либерализмом, этницизма с космополитизмом, в символическом порядке глобальной культуры, где префикс «транс» из формы диалога становится формой la jouissance. Литературная история феминизма в культурологическом ключе от эмансипации и катарсиса до потребления и наслаждения создала блистательные образы прогрессивных и трансгрессивных героинь своего времени, которых мы рассмотрели на примере творчества относительно мало известной писательницы Маргарет Фуллер и всемирно популярного писателя Милана Кундеры, чьи героини (Миранда и Сабина соответственно) «замыкают» начало суфражистской первой и конец неолиберальной третьей волн феминизма, а в качестве представительниц второй (социальной) волны мы выделили классических и современных русских поэтесс, чьи архетипы и смыслы творчества выражают конструктивный диалог традиции и инновации, метафизики и диалектики, времени и пространства, интернационализма и патриотизма, смысловых инвариантов цивилизационной памяти и современных информационных технологий.
Об авторах
Евгения Витальевна Бильченко
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова; Институт культурологии Национальной академии искусств Украины
Автор, ответственный за переписку.
Email: yevzhik80@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9662-0594
доктор культурологии, доцент, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, ведущий научный сотрудник отдела экранной культуры Института культурологии Национальной академии искусств Украины
Украина, 02000, Киев, улица Пирогова, 9; Украина, 01032, Киев, бульвар Тараса Шевченко, 50/52Список литературы
- Бадью А. Бег по замкнутому кругу // Інтернет журнал «Ліва» [Электронный ресурс]. URL: http://liva.com.ua/finitude-badiou.html (дата обращения: 19.04.21).
- Therigatha. Verses of the Elder Nuns. Poems of Early Buddhist Nuns. Oxford: Pali Text Society, 1989. [Электронный ресурс]. URL: https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thig/ (дата обращения: 19.04.21).
- The Buddhist Monastic Code. Volume II. The Khandhaka Rules. Metta Forest Monastery: Valley Center, 2002. [Электронный ресурс]. URL: http://www.greatwesternvehicle.org/ati_website/ lib/authors/thanissaro/bmc2/index.html (дата обращения: 19.04.21).
- Maha Prajnaparamita Sastra. The Bahudhātuka-sūtra (sutta). Part 2. Bahudhātukasutta of Majjhima, III. By Gelongma Karma Migme Chödrön, 2001. 723 p. Pp. 64-67. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wisdomlib.org/buddhism/book/maha-prajnaparamita-sastra/d/ doc225970.html (дата обращения: 19.04.21).
- Ārya suvarņaprabhāsottama sūtrendrarāja nāma mahāyana sūtraю. The Sutra of Golden Light. Oxford: The Pali Text Society, 2001. 92 p. [Электронный ресурс]. URL: https://fpmt.org/wpcontent/uploads/teachers/zopa/advice/pdf/goldenlightsutra_russian.pdf (дата обращения: 19.04.21).
- Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Sad-dharma-puṇḍarīka-sūtra. Токио: Иванами сётэн, 1962-1967. [Электронный ресурс]. URL: http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/ Caddharma-pundarika-cutra.htm (дата обращения: 19.04.21).
- Mackenzie V. Cave in the Snow. Great Britain: Bloomsbury, 1998. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tsemrinpoche.com/download/Biographies-Autobiographies-Works/en/Vicki%20 Mackenzie%20-%20Cave%20in%20the%20Snow%20(Tenzin%20Palmo).pdf (дата обращения: 19.04.21).
- Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. К.: Дух і література, 2001.
- Fulle M. Woman in the nineteenth century. New York: Greeley & McElrath, 1845. 216 p. [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/womaninnineteent1845full/page/n215/ mode/2up (дата обращения: 19.04.21).
- Долгарева А.П. Уезжают навсегда. Луганск: Большой Донбасс, 2016.
- Батлер Дж. Психика власти. Теории субъекции. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.
- Тлостанова М.В. Деколонизация гуманитарного знания // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2009. № 1. С. 5-14. doi: 10.22363/2313-23022021-25-1
- Tlostanova М., Mignolo W. Learning to Unlearn Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas. The Ohio State University: Press Columbus, 2012. [Электронный ресурс]. URL: file:///C:/Users/User/Desktop/Tlost_Mig_Book4CD.pdf (дата обращения: 19.04.21).
- Кундера М. Невыносимая легкость бытия. Вальс на прощание. Бессмертие: романы. М.: Иностранка, 2014.