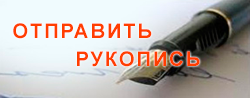Транскультурация героя в романе Г. Бельгера «Дом скитальца»
- Авторы: Демченко А.С.1
-
Учреждения:
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
- Выпуск: Том 16, № 1 (2019)
- Страницы: 73-83
- Раздел: Художественное измерение
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/20808
- DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2019-16-1-73-83
Цитировать
Полный текст
Аннотация
С помощью приемов литературоведческого анализа автор пытается проследить эволюцию героя романа Г. Бельгера в аспекте транскультурного подхода. Центральным объектом исследования послужил архетип «дом». Автор приходит к выводу, что связанные с указанным архетипом элементы разного уровня - от онтологических категорий («тут-бытие», «там-бытие») до символов позволяют эксплицировать идею Бельгера о вседомности, которая служит альтернативой внедомности и вненаходимости.
Ключевые слова
Полный текст
1. Введение Транскультрурация - важная проблема современности, которую гуманитаристика осмысляет с разных позиций. Интересные подходы предлагает в этом плане литературоведение. Если вхождение индивида в инокультурное пространство с последующей трансформацией как субъекта, так и поля рассматривать сквозь призму художественного текста, мы увидим, что авторы используют разные методы изображения, позволяющие достичь максимальной панорамности. Герои, соединяющие в себе собирательность (типичность) и известную индивидуальность, говорят от лица автора как представителя того или иного этноса и вместе с автором - и читателем - преодолевают некую историческую травму, обретая при этом новый - усложненный - культурный стержень, ось этнической самоидентификации. Мы бы хотели привести в качестве примера одну из сюжетных линий романа Г. Бельгера «Дом скитальца». В литературной жизни Казахстана Г. Бельгер занимает особое место. Если развивать идею Г. Гачева о том, что каждый этнос «накидывает» на действительность сетку уникального мировосприятия, упорядочивая таким образом Космос вокруг себя, то «сеть» Бельгера не будет пересечением бинарных оппозиций, порожденных конкретным этносом. Триязычие, которое писатель метафорически выразил формулой «три струны», стало той ресурсной базой, благодаря которой Бельгеру удалось создать более сложную в эвристическом и эстетическом планах модель мира. «Речь немецкая, речь русская, речь казахская - как мелодии трех струн. Три струны моей души» [1. С. 2]. Вспоминая мысль Хайдеггера о том, что именно язык есть дом бытия, мы неизменно приходим к выводу, что бытие Бельгера перманентно протекало в трех языковых измерениях - не изолированно, но континуально. Романы Г. Бельгера написаны на русском языке. Однако по внутренним идейным параметрам эту прозу трудно отнести к русской литературе, в определенном смысле она маргинальна, отмечена кросскультурным диалогом между русским, немецким и казахским языковыми мирами. В значительной мере это интеллектуально-ассоциативная проза, насыщенная интертекстами и реминисценциями, историческими экскурсами, ретроспекциями, паралеллизмами, контрастами. Нарратор этой структуры - умудренный жизнью человек, напряженно размышляющий об итогах истории, особенно по отношению к немецкой диаспоре России и Казахстана. Бельгер пишет: «Родина во всех моих произведениях - основополагающая тема. Не тема - суть моего Бытия. Боль. Творческое кредо. Основа. То, что немцы называют штандпункт. Мои герои, депортированные и ссыльные немцы, люди искалеченной судьбы, взрослые и малые, постоянно и настойчиво рассуждают на тему: что такое Родина, где она, есть ли у нас вообще Родина? Или мы вечные скитальцы, изгои, бездонные, неприкаянные на этой земле?» Это чувство неприкаянности свойственно многим российским немцам. Как отмечает в своей диссертационной работе Е. Зейферт, «модель мира для российских немцев - дорога к родному Дому, родине. Это гибридный, русско-немецкий мирообраз: по Г. Гачеву, модель мира для немцев - Дом, для русских - направление в бесконечность, путь-дорога. У российских немцев - совмещение двух этих моделей. Отличие германской (Дом) и российско-немецкой (стремление к Дому) моделей мира - в наличии Дома и отсутствии его. Мирообраз российских немцев динамический, но для них характерен приоритет статики над динамикой, возникший в противостоянии вынужденному “кочевью”» [2]. Концептуально значимое для Бельгера понятие - мировая литература; это отнюдь не «единая литература», но, как справедливо отмечает Л.М. Бабкина, «общечеловеческая духовная сокровищница», в которой важен вклад каждого литератора [3. С. 19]. Российских немцев Бельгер определяет как «продукт нескольких культур» (эта мысль звучит в устах школьного учителя Франца Фризена в романе «Туюк су»). Осмыслению их судьбы, творческого вклада в литературу, жизненной миссии посвящен сборник эссе «Помни имя свое», в котором Бельгер размышляет о перипетиях жизненных сюжетов своих соотечественников (Норы Пфеффер, Иоганна Варкентина, Нелли Вакер и многих других). Бельгер дает им емкие, телеологичные определения, не имеющие аналогов в русском языке: они «хоффнунг-трегеры» («носители надежды»), «улучшатели жизни», оказавшиеся на «перепутье судьбы и времени». И все же главный дом в жизни человека, по мысли Бельгера, не только и не столько «земля», сколько память: «главный дом - это дом в душе человека, который прочно стоит до тех пор, пока крепок его нравственный фундамент. Дом человека - его память» [4]. Не случайно художественную эволюцию Г. Бельгера С.В. Ананьева определяет как переход от описания «жизненного факта» к «истории судьбы», отмечая, что романы «Туюк су» и «Дом скитальца» наиболее показательны в этом плане [5. С. 24]. 2. Обсуждение Герои Бельгера во многом автобиографичны. Почти все из них движутся по сюжетной траектории «утрата дома - кочевье/скитальничество - освоение нового места в жизни - обретение дома». Давид Эрлих, Эдмунд Ворм, другие «руссландойче» грандиозного бельгеровского эпоса (произведения писателя могут быть рассмотрены в тематическом единстве) оказываются в парадоксальной ситуации: у каждого из них не одна родина, и в то же время каждый из них - вечный скиталец, путник, пилигрим. Заглавие романа «Дом скитальца» - в строгом смысле оксюморон, благодаря которому в сильной позиции текста проявлена антитеза важных понятий: динамики и статики, бесприютности и обретения своего места в мире, дан итог жизненного пути героев, наполненного странствиями и жертвами. В эссе «Эль» Бельгер отмечает, что для него значимы три дома, три родины его души - бабушкин дом в Поволжье, дом-очаг в Северном Казахстане, дом родителей в Ташкенте. Тема родины, сама мифологема дома для писателя связана с противоположной темой - бездомья. Противодействие этих сил, утрата корневых основ жизни становится для героев импульсом к познанию двух космосов - внутреннего и внешнего. Когда бельгеровский герой (и в данном случае речь идет о самом типе героя) отправляется в странствие, приравненное к странствию культурного героя в мифе, автор использует ряд приемов, позволяющих читателю проникнуть в его экзистенциальное одиночество [6]. Роман «Дом скитальца» имеет трехчастное композиционное деление. Каждая часть знакомит читателя с одним из трех главных героев - Давидом, Христьяном и Гарри. Все они спецпереселенцы, в одночасье утратившие статус «советских людей» и ставшие «врагами народа» лишь в силу исторических обстоятельств. Их родные дома поруганы и разграблены. Их родовые имена стерты или настолько ассимилированы с иноязычными «аналогами», что не способны выступать ни культурно-языковыми, ни сугубо человеческими индексами. В жизни врача Давида Эрлиха, трудармейца Христьяна и школьника Гарри начинается эпоха великого кочевья, поиска своего места в мире. Судьба заносит героев в казахский аул Кзыл Ту («Красное знамя»), и сюжетная траектория каждого из них пролегает в собственном направлении. Давид избирает путь бескорыстного служения людям и в конце концов приходит к мысли о том, что нужно жить настоящим, а не утраченным прошлым. Христьян умирает на чужбине, так и не полюбив «навязанную отчизну». Гарри борется за свое место в мире и отвоевывает его благодаря казахскому языку - коммуникативному мосту к внешнему миру. Все герои одиноки в своем поиске. Автор поясняет это состояние героев экспрессивами: сиротство, скитальничество, скорбное кочевье, путь к Голгофе. В арсенале писателя - так называемая техника фокусного расстояния, когда происходит изменение масштаба изображения от «крупного» плана к плану панорамному, отдаленному. Герой в этом случае противопоставлен целому миру; сам он становится «маленьким», «крохотным, как червячок» (вспомним говорящую фамилию Эдмунда Ворма), в то время как мир вокруг него беспределен и широк. Ощущение одиночества, потерянности, покинутости достигает при этом максимальной сгущенности. Автор приходит к созданию подобного эффекта и на уровне контрастных изображений, и с помощью вставочных текстов. Так, депортированный в Казахстан Давид Эрлих то и дело напевает «песенку маленького Ганса»: «Бедный маленький Гансик семь лет мыкался на чужбине»; Давид тоже ощущает себя «маленьким Гансиком», а мир вокруг - огромным и необозримым. Еще интенсивнее одиночество героя передает чередование ретроспективносинхронных планов повествования, в результате чего мы узнаем о прошлом героя, его некогда счастливой жизни в Приволжье. В прошлом остается и семья Давида, его жена Лидия и маленький сын Арно. Герой с горечью констатирует, что такие жены созданы для «благополучных мужей». Фронтиром между ними пролегла не только череда социальных проблем, из-за которых Давид утратил былой статус, но и незримая линия этнической самости, настолько деликатная, что герой предпочитает не говорить о ней открыто («Есть вещи столь деликатные, о которых лучше помалкивать»). Бельгер развивает здесь мысль о сокровенной сущности каждого человека, предавать которую нельзя. Эта сущность - в уважении к «духу народа». Данное предписание - уважать народ, даже если это другой народ - нарушает жена Давида, Лидия Истратова. Многие ее поступки носят имплицитный характер отторжения, неготовности стать частью Другого. Она не берет фамилию мужа, оставляя себе девичью; не позволяет обращаться к себе «фрау» (нарушение фатического канона); критически относится к тому, что сын постепенно овладевает немецкой речью в кругу «сверстников карлуш». Апофеозом этой негативной градации становится решительный отказ разделить бездомье мужа: - Мы с Арношкой будем жить, как прежде, у родителей… А ты… А ты… еще неизвестно, как все обернется… устроишься… дашь нам знать… тогда… тогда… Словом, так будет лучше. Нечего горячку пороть [7. С. 42]. Неслучайно в реплике появляются резко парцеллированные фразы, передающие сбивчивую, неопределенную речь героини и отсутствие четкого плана на будущее. Символическую точку в их отношениях ставит Давид, впервые называя жену оскорбительно для нее - «руссе мачка». Не инвективное по сути, это определение является для героини знаком ее чуждости в кругу немцев. Лишь муж избегает этого стереотипного определения, которое оказывается алеатическим индексом (т.е. указывает на истинные качества натуры/сущности). Скитальчество героя, таким образом, начинается с утраты дома и разрушения семьи, которые оборачиваются для него настоящей трагедией. В эпиграф романа вынесены строки из «Подвала памяти» А. Ахматовой («Но где мой дом и где рассудок мой?»). В первой главе романа герою (Давиду) дано константное определение - «путник». Это и автоопределение самого Давида, и рекуррентное определение автора, которое вызывает ассоциации с «Ночной песней странника» И. Гёте. Лейтмотив стихотворения, которое присутствует в романе как аллюзия («Подожди немного, отдохнешь и ты») - в определенном смысле пролептичен. Неслучайно ассоциа- тивное присутствие стихотворения и в аспекте культурного триединства: созданное на немецком языке, оно стало неотъемлемой частью сначала русской (в переводах Лермонтова и Фета), а затем и казахской культур (в переводе Абая). Для Бельгера как культуртрегера это личностно значимый текст. Итак, Давид - странник, «бесприютный пилигрим», лишенный дома и связанных с ним социальных функций. Подобная социальная аннигиляция, по сведениям Л.Н. Гумилёва, носила некогда название «изгнание из жизни». «Людей, в чем-либо провинившихся, «изгоняли из жизни», то есть лишали их права заниматься кормившим их семью делом» [8. С. 113]. Такая участь постигла и Автономию немцев Поволжья, когда целая этническая общность оказалась вытеснена за пределы своего круга: Тихая, уютная, благоденствующая республика со своим образцовым порядком за несколько дней превратилась в зону бедствия… С первого же дня выселения четко подчеркивалось: вчерашние благодушные и простодушные камерады обернулись если и не совсем врагами советской власти, то по крайней мере «не-нашими» [7. С. 88]. С помощью событийной антитезы Бельгер воссоздает ситуацию разрушения привычного миропорядка. Первый элемент противопоставления - повествование о мирной земледельческой жизни немцев («насиженные места», «полные амбары пшена»), второй - начавшееся «горестное кочевье» («…а тут на добрый километр растянулось скорбное, сплошь онемевшее от горя и обиды кочевье» [7. С. 89]). Все, все, нажитое многолетним терпением, неутомимым, адовым трудом, старанием предков, было брошено - нет, не божьей волей - бешеному псу под хвост: добротные дома, убранство, подворье, погреба, склады, сараи с годовыми запасами, амбарами, свинарники, курятники, бани, летние кухни, сады, клумбы, мельницы, сыроварни, колодцы, всякая всячина, заготовленная, собранная впрок на радость и счастье их трудолюбивых обладателей и их потомков - все, все, все, в одночастье, разом, по злому умыслу, безрассудно, варварски, было оставлено, брошено в эти черные дни. Все провалилось в пропасть, рухнуло в бездну, в тартарары. Все было отнято у народа, облагородившего эти бросовые, дикие, запущенные некогда земли. Не было страшнее наказания! [7. С. 91]. Давид Эрлих быстро осваивается в гостеприимном ауле. Первая встреча героя с местным стариком-«поштабаем» заканчивается приглашением со стороны хозяина разделить его кров и дастархан. Несмотря на бедность, стесненные условия жизни, множество «голопузых баранчуков», старик находит для гостя и место для ночлега, и еду для поддержания сил. Старуха угощает Давида иримшиком и сладким чаем и радуется тому, что гость принимает угощение с благодарностью. Так реализуется негласная конвенция об их будущих благожелательных отношениях. Среди казахов герой всюду находит поддержку и благодушное гостеприимство - и в семье Газиза и Маруар, и в доме старичка Болпыша, и среди всех своих пациентов. В разговоре с Христьяном Давид отмечает, что «казахи все такие»: …Удивительно: гол, нищ, а на радостях последнее отдаст <…> Добрый, простодушный народ. Душа нараспашку. Я в том убедился. Иногда, правда, любит хитрить. Но это детская хитрость. И шутить мастак [7. С. 167]. Пути коммуникативного преодоления чуждости демонстрируют герою аульчане. Помещая в единый контекст слова нескольких языков, они пытаются добиться условий взаимопонимания с «пришельцем», облегчая его быт на новом месте. Давид отмечает затраченные жителями Кызыл-Ту усилия: в процессе взаимодействия русских слов и казахской артикуляции возникают многочисленные фонетические абберативы: першыл (фельдшер), атес (отец), медыпункыт (медпункт) и многие другие. Символична и фонетическая трансформация имени героя - имя Давид Эрлих постепенно замещается эквивалентом Даут Ерлик. Оба имени-дублета (Даут и Ерлик) имеют говорящую внутреннюю форму. Арабскоеврейская основа номинатива Даут несет значение ‘любимый, притягивающий к себе’; Ерлик в казахском языке означает ‘доблесть’. Это имя героя, как отмечает один из жителей Кызыл-Ту: - Ерлик?! - Баскарма вскинул кустистые брови. - Каких только фамилий не бывает! Посмотрим, какой ты совершишь ерлик [7. С. 49]. Имена-символы с пролептическим содержанием - характерный для Бельгера художественный прием. В них автор дает намек на будущие события в жизни героя, которые и определяют отношение к нему других людей. Давид-Даут действительно становится со временем всеми любимым, притягивающим к себе: раз за разом жители Октябрьского района спасают своего «першыла» от трудовой мобилизации, от верной гибели в трудармии, которая в конце концов настигла Христьяна. Потом он узнал, как все происходило. После его отъезда в аулах действительно всполошились. От председателей колхозов в райком и в райвоенкомат посыпались письма с просьбой вернуть им фельдшера Эрлиха… проявившего себя за какие-то шесть месяцев самоотверженным, ответственным и знающим медработником [7. С. 112]. В полной мере раскрывается на сюжетном уровне семантика имени Ерлик. Давид становится вскоре настолько незаменим для жителей аула, что без него не совершается ни одно важное дело: Завалит снегом мазанку Зайры на краю аула, откапывать ее спешит безотказный Даут. Угорели интернатовцы, чистить дымоход, кроме Даута, в ауле больше некому. Аесли и есть, то у Давида-Даута все получается сноровистей и лучше. Обледенел колодец по самый сруб - не подойти, не подступиться, того и гляди соскользнешь ненароком в дымящуюся колодезную глубь, опять все тот же Даут долбит пешней лед, раскидывает ледяные глыбы далеко вокруг, чтобы люди и скот не переломали себе ноги. Полыхнет у кого-то пожар, бегут опять все к нему [7. С. 163]. Отметим, что каждое из описанных событий связано с риском для жизни, спасением Другого, идеей бескорыстного служения людям, а потому может быть квалифицировано как подвиг (ерлик). Так, например, колодец - архетипический центр жизненного пространства людей. Образ Давида постепенно обретает смыслы, присущие культурному герою мифа. Если поначалу чужой язык воспринимается Давидом как препятствие к «тутбытию» в мире, то впоследствии он становится мостом к новой территории экзистенции, в которой, как объясняет автор устами героев, «казах немцу брат». Герой постепенно осваивает новый для себя язык; он обретает духовно-родственные связи с некоторыми из жителей Кызыл-Ту. Газиз называет его курдасом, т.е. ровесником, названным братом, в отношении которого действует закон - «Что мое - то твое». Он берет на воспитание сироту Жараса, становится для мальчика ага - старшим родственником-покровителем. По инициативе Давида его воспитанник Гарри учится в казахской школе. Как правило, культурный герой идет по дедуктивному пути идентификации, то есть перемещается от общей стадии самоопределения в мире к частным. Исследователи выделяют пять таких стадий (идентификаций): o первая идентификация: «человек». Это принадлежность к биологическому виду Homo Sapiens с соответствующими морфофизиологическими параметрами (анатомия, жизненные циклы, способность к речи и абстрактному мышлению). В аспекте теории архетипов принадлежность к человеческой природе определяет наличие в психике фундаментальных моделей, схем и мотивов, которые проявляются в наиболее важные жизненные вехи; o вторая идентификация: «гендер». На этом уровне происходит формирование гендерных особенностей личности: активности/пассивности, логики/интуиции и пр.; o третья идентификация: «этнос». По данным антропологии, культурологии и психологии, эта стадия разворачивается в психике индивида не только на уровне врожденного темперамента, влияния на него окружающей среды, но и в аспекте последствий национальных травм, например депортации; o четвертая идентификация: «род». В соответствии с этим уровнем самоопределения каждый человек является Homo Patrimoniens, т.е. Человеком Наследующим. Это подразумевает следование существующим в обществе поведенческим сценариям, соблюдение определенных канонов этики и аксиологии; o пятая идентификация: «имя», хранящее весь комплекс знаний о собственной личности. Это знак индивидуации человека, под которой Юнг подразумевает неделимость, целостность, самость. Это «базовый проект природы, образующий человеческое существо» [9], энергетическое ядро личности [10]. «Движение» Давида по указанным стадиям идентификации идет «вспять», т.е. индуктивно. Глобальной идейной трансформации, влекущей за собой смену модуса самовосприятия, подвергается имя героя (Давид - Даут, Эрлих - Ерлик). Сложные разрывы связей происходят внутри рода (четвертая стадия). Смерть матери (архетипическая утрата прошлого), символическая потеря семьи (уход жены Лиды и воспитание сына в иной культурной традиции, замена его немецкого имени - Арношка - на русское Алешка). Герою удается пережить национальную травму, вызванную депортацией поволжских немцев, преодолеть их негласное признание всеобщими врагами, отчуждение от «единого» советского народа. Герой проходит, в конечном счете, и первые две стадии идентификации, в результате чего в его душе рождается убеждение в том, что «братьями» могут быть представители очень далеких, казалось бы, этносов. Это упрочивает для героя состояние «тут-бытия» в мире. Автор подчеркивает связь Давида с двумя временными модусами - настоящим и будущим. Символические пометы «тут-бытия» и «там-бытия» закодированы в романе несколькими способами. Первый из них - прием психологического параллелизма, выстраивание конгруэнтной модели «герой - природа» или, напротив, акцентирование несоответствия членов этой модели. О том, что ландшафт определяет духовный склад нации (и отдельного ее представителя) писали многие философы и ученые, в частности, Н. Бердяев и Л. Гумилёв. Давид, в отличие от Христьяна, не ищет взглядом «уютной ограниченности земледельного участка». Он оказывается тождественен широкому, распахнутому пейзажу казахстанских степей. Самая показательная параллель выстраивается между Давидом и разлившимся мощным Ишимом: В эту весну Ишим разлился особенно широко. Ледоход был бурным, буйным. Торосистые льдины, громоздясь, сшибались, лезли друг на дружку, в ярости выпирали на берег, круша прибрежные тугаи, заливая темной, дымящейся водой все старицы, уремы, овраги. Зрелище было потрясающим. Тихая, незаметная степная река, приток седого Иртыша, ярилась, буйствовала, сметала все на своем пути, и дикая, неукротимая эта силища завораживала, притягивала, манила, будоражила. Поднимаясь на крутояр, Давид подолгу смотрел на это неистовство пробуждающейся стихии, любовался разливанным морем, восхищаясь необузданным нравом обычно смиренного Есиля. Яростный весенний колоброд, творившийся вокруг, как ни странно, успокаивал его, наполнял скорбящую душу энергией и напором, пробуждал волю, взывал к действию, сселял надежду [7. С. 116]. Второй прием - растительная символика. Образ Давида идейно связан с садовыми деревьями. Обустраивая медпункт, Давид первым делом приносит для посадки кусты черемухи, боярышника, саженцы яблони. Садовые деревья связаны с идеей окультуривания пространства, его освоения. Они прочно врастают в землю, цветут и плодоносят. Как отмечает В.А. Маслова, «будучи природным символом, дерево во многих культурах стало знаменовать динамичный рост, природное умирание и регенерацию… Растения, трава, деревья, по преданиям древних, обладали сверхъестественной силой - как целительной, так и разрушительной. В основе этих представлений - архетип дерева-тотема» [11. С. 161]. Деревья-тотемы представлены практически во всех мифологических картинах мира. У древних скандинавов таким деревом выступал ясень - ось мироздания, у номадов - Великий Тополь (Байтерек). Неслучайно тополь по сей день несет в себе отпечаток мифологического мышления в культуре казахского этноса. Еще одно универсальная черта дерева как архетипа - наличие семантического элемента «жизнь» (ср. мировое древо, древо жизни). Действительно, дерево исходит из недр матери-земли. По мнению Т.А. Агапкиной, особо тесная связь у человека с плодоносящими деревьями, так как такое дерево больше принадлежит миру культуры, чем миру природы [11. С. 84]. И все же, как нам видится, ракурс авторского внимания сосредоточен главным образом на Давиде и Гарри. В этих героях эксплицирована важная для Бельгера идея о благодарности той земле, которая смогла стать домом скитальца: У каждого человека должно быть место на Земле. И нет чужой земли. Надо быть благодарным Земле, где живешь, тогда и она тебя отблагодарит, воздаст сторицей. Каждый, кто вольно или невольно скитается или вынужден скитаться по Земле, оставляет незаметно то здесь, то там частичку своей души, понемногу растрачивает себя и превращается в перекати-поле, гонимое ветром. Вот почему с символом перекати-поля связан герой Христьяна, в то время как Давид благоустраивает собственный цветущий сад в ауле, ставшем ему домом, местом его «тут-бытия». 3. Выводы Таким образом, правомерна, на наш взгляд, такая раскодировка авторской концептологии Г. Бельгера: открытость миру, положительное отношение к этническому иномирью, готовность измениться и воспринять новое, восприятие всего лучшего в иной национальной культуре как своего, есть условие выживание не только отдельной личности, но целых народов, это альтернатива успешного развития человечества, путь предупреждения грозных конфликтов. И в этой концептологии автора семантически значимым маркером отношений и лейтмотивом развития идеи выступает архетипический образ дома.
Об авторах
Алена Сергеевна Демченко
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Автор, ответственный за переписку.
Email: alenchika@mail.ru
докторант кафедры русской филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби
Казахстан, 050040, Алматы, пр. аль-Фараби, 71Список литературы
- Бельгер Г. Мотивы трех струн. Алматы: Жазушы, 1986.
- Зейферт Е.И. Жанровые процессы в поэзии российских немцев второй половины XX - начала XXI века: дис.. д-ра филол. наук. Караганда, 2007.
- Бабкина Л.М. Литературная летопись // Поликультурная личность Герольда Бельгера в потоке национальных языков и литератур: материалы вузовской конференции. Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2015. С. 18-23.
- Афанасьева А.С. Субъектное воплощение категорий «тут-бытия» и «там-бытия» в романе Г. Бльгера «Дом скитальца» // «Фараби Əлемі». № 4. 2017. С. 278.
- Ананьева С.В. От жизненного факта - к истории судьбы // Поликультурная личность Герольда Бельгера в потоке национальных языков и литератур: материалы вузовской конференции. Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ, 2015. С. 24-29.
- Темирболат А.Б. В поисках утраченного дома // Евразия. 2005. № 3.
- Бельгер Г. Дом скитальца. Алматы: Раритет, 2007.
- Гумилёв Л.Н. От Руси к России. М.: АСТ, 2016.
- Менгетти А. Онтопсихология: практика и метафизика психотерапии. М.: Онтопсихология, 2009.
- Сергеева А. Дорога в Тридесятое царство: славянские архетипы в мифах и сказках. М.: София, 2016.
- Агапкина Т.А. Южнославянские поверья и обряды, связанные с плодовыми деревьями, в общеславянской перспективе // Славянский и балканский фольклор. М.: Наука, 1994.