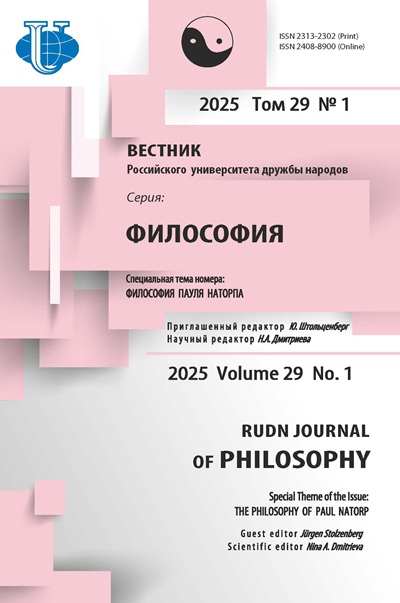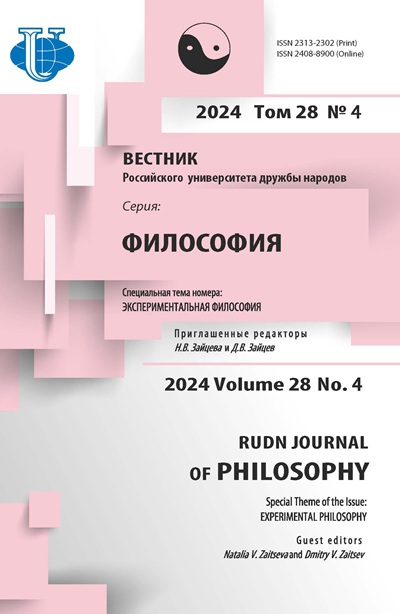Том 28, № 4 (2024): ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Год: 2024
- Статей: 21
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/issue/view/1814
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-4
Весь выпуск
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Экспериментальный поворот в философии
Аннотация
Исследование служит введением в проблематику экспериментальной философии и предваряет специальный выпуск журнала по этой теме. Прослеживается недолгая история экспериментальной философии, рассматриваются различные варианты ее трактовки. Предлагается понимание экспериментальной философии не как особого направления или этапа развития философской мысли, но как радикального изменения в методе философского исследования, предполагающего синтез традиционных философских методов исследования и методов эмпирической (в первую очередь когнитивной) науки для решения философских проблем. Важной характерной чертой экспериментальной философии является ее междисциплинарность. Философ не просто использует результаты эмпирического исследования, но может участвовать в исследовании на всех этапах, начиная с построения модели исследуемого явления или процесса и выдвижения гипотез, последовательно проходя через выбор стимульного материала и разработку дизайна эксперимента к интерпретации результатов и их философскому осмыслению. Развиваемая трактовка экспериментальной философии открывает возможность экспериментально-философского исследования в любой области: от эпистемологии или онтологии до логики и философии языка, без надуманного разделения на аналитическую и экспериментальную версии. При этом авторы делают акцент на особенной плодотворности (нейро)феноменологии, которая благодаря ее обращенности к непосредственно данному опыту субъекта оказывается методологически близкой к естественным наукам. В заключительной части дается краткий обзор работ тематического выпуска.
 931-944
931-944
 366
366
Что может быть другим? Роль опыта в философии
Аннотация
В наше время появляется так называемая экспериментальная философия. Примерами ее являются экспериментальное изучение мышления, эмпирические наблюдения за работой ученых и развитием научного знания (STS) и некоторые другие области. В то же время философские утверждения претендуют на независимость от опыта. Логические позитивисты считали, что метафизические утверждения не верифицируемы и потому бессмысленны. Согласно Канту всякое познание начинается с опыта, но его результаты не всегда зависят от опыта. Опытные выводы в иных условиях могли бы быть иными, метафизические выводы остаются истинными при любых условиях. В данном исследовании делается попытка ответить на вопрос, каким образом опыт входит в философские рассуждения. Прежде всего встает вопрос: как понимать опыт? Опыт можно понимать узко и широко. В последнем случае в него включается также опыт мышления (поскольку мышление могло бы быть иным). Однако нельзя отрицать возможность познания внеопытных, в том числе нормативных, истин. Вопрос, как мы их отличаем от истин факта, остается пока открытым. Опыт собственного мышления дан в рефлексии, а опыт мышления разных людей изучается когнитивной наукой. Роль опыта в философском мышлении рассматривается на примерах: философия музыки, нейрофеноменология, материал психопатологии, экзистенциальная философия. Во всех этих областях философии метафизические утверждения так или иначе делаются на основе опытных данных. В заключение я формулирую собственную гипотезу роли опыта в философии: метафизические суждения вытекают только из других метафизических суждений, опыт же играет роль фильтра. Эта гипотеза открыта для обсуждения.
 945-963
945-963
 161
161
Старые проблемы и новые перспективы нейрофеноменологии в психиатрии: хроника радикального поворота
Аннотация
На волне интенсивного развития когнитивных наук в отечественной традиции ведутся физиологические, психологические, философские исследования. В центре последних - аналитическая философия и проблема свободы воли, логика, эпистемология и энактивизм, очень редко, но все же слышны голоса востоковедов с их вниманием к опыту. На этом фоне в полном забвении оказывается одна из важных для мировой науки и практики сфер - психиатрическая нейрофеноменология. Работа выстраивает преемственность между «старыми» философски ориентированными теориями психиатрии первой трети - середины XX в. и «новыми» интерпретациями нейронаук. Демонстрируются наиболее характерные параллели: как К. Ясперс, нейрофеноменология ставит проблему описания и понимающей методологии, как Э. Штраус, говорит о дологическом переживании, как Л. Бинвангер, стремится уйти от субъект-объектного раскола к непосредственному опыту, как Р. Лэйнг, акцентирует воплощенность и бесконечную тотализацию коммуникации. С опорой на анализ актуальных дискуссий последних лет показывается, как трансформируются традиционные проблемы в последние годы и какие перспективы для философии и междисциплинарной практики открывают эти трансформации. Исследуется психиатрическая феноменология опыта Й. Парнаса, Дж. Стангеллини, Л. Сасса, Д. Захави, К. Мундта, Т. Фукса и др., анализируется междисциплинарный потенциал современных исследовательских и диагностических программ. Делается вывод о том, что, преодолевая дихотомию биологического и психического, обращаясь к полю опыта как полю общего интереса, нейрофеноменология создает исследовательское пространство экспериментальной философии опыта, в котором философия психиатрии стремится преодолеть свойственный ей антиномизм.
 964-978
964-978
 198
198
Развитие диалектического мышления: роль структурированности и организованности повседневной жизни ребенка в дошкольном детстве
Аннотация
В исследовании предложено аналитическое описание диалектического мышления согласно структурно-диалектическому подходу, базирующемся на философских основаниях и понятийном психологическом аппарате, позволяющем оценить развитие этой формы мышления у детей и взрослых. Основания выделения диалектики в качестве особой формы мышления были определены в философии (Аристотель, Псевдо-Дионисий, Н. Кузанский, Л.-М. Дешан, Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель и т.д.). Диалектическое мышление представляется как система особ мыслительных действий, предназначенных для решения задач конкретного типа - содержащих работу с отношениями противоположности как внутри содержания, так и структурных. Сенситивным периодом для начала формирования диалектического мышления является дошкольный период. В данном исследовании была поставлена задача выявить связи представлений родителей о степени организованности и структурированности повседневной жизни, рассматриваемой нами как форма нормативной ситуации и пространство развития детского диалектического мышления в проведенном лонгитюдном исследовании. Новые данные подтверждают выдвинутую гипотезу и согласуются с обнаруженными ранее фактами гетерохронности развития действий диалектического мышления 5-9-летних детей.
 979-996
979-996
 180
180
Метрики феноменологического виртуального опыта
Аннотация
Работа выполнена в русле экспериментальной философии и представляет собой комплексное исследование, которое сочетает в себе теоретические и практические аспекты. В ней объединяются феноменологический подход и методы естественных наук для изучения феноменологии виртуального опыта. В исследовании полагается, что виртуальная реальность возникает только в момент самораскрытия бытия «сущему» в результате взаимодействия человека с технологиями, создающими сенсорные впечатления. Автор анализирует современное состояние технологий, продуцирующих виртуальную реальность, при этом особое внимание уделяет проприорецептивным ощущениям. Подчеркивается, что физическое тело продолжает играть важную роль в восприятии виртуальной реальности, поскольку технологии виртуальной реальности недостаточно интегрированы со сложной системой проприоцепции человеческого тела. Кроме того, вестибулярная система сохраняет свою функциональность независимо от того, находится ли пользователь в реальном или виртуальном мире. Указанные факторы свидетельствуют о том, что физическое тело остается всегда значимым, даже в виртуальной реальности человек остается по-прежнему неразрывно связанным с ним. Представлена авторская концепция полевого поведения виртуальной реальности, открывающая новые перспективы для понимания взаимодействия человека с виртуальной средой. Автор выделяет полевую интерференцию реального и виртуального, а также суперпозицию реальных и виртуальных компонентов в восприятии человеком виртуальной реальности, которые человеческий мозг объединяет в единое целое. Результатом исследования стала построенная модель вероятностных зависимостей между элементами иммерсивности и метриками феноменологического опыта. Произведенная работа способствует развитию междисциплинарных исследований и важна для экспериментальной философии, предоставляя методологическую основу для эмпирического изучения философских вопросов и анализа сложных взаимосвязей между иммерсивностью и поведением человека в виртуальных средах.
 997-1013
997-1013
 198
198
Экспериментальная этика и кантианская деонтология
Аннотация
В исследовании дана оценка основанной на экспериментах критике деонтологической нормативной теории Дж. Грином, предложена альтернативная интерпретация экспериментальных данных, из которой не следуют выводы Грина о несостоятельности деонтологии, проанализированы некоторые аргументативные стратегии и методологические пресуппозиции экспериментального подхода к философским проблемам. Пример критики Грином деонтологической этики с экспериментальных позиций позволяет сделать ряд заключений. Во-первых, экспериментальный материал дает предмет для интерпретаций, но сами интерпретации - это философские абдуктивные теории, претендующие на роль наилучшего объяснения данных. Трудно ожидать, что подобные претензии останутся без возражений и без конкурентов, опирающихся на иные внетеоретические стандарты. Это делает экспериментальную философию ареной особенно интенсивного спора, в котором рождаются новые результаты. Во-вторых, в экспериментальной философии сохраняется базовое напряжение между естественнонаучной склонностью считать наилучшим наиболее экономное объяснение и не останавливаться перед редукцией «псевдопроблем» и более инклюзивным философским отношением к «вечным вопросам», признание важности которых выступает необходимым критерием состоятельности теории. В-третьих, случай критики деонтологии Грином позволяет выделить некоторые характерные для естественнонаучного подхода к экспериментальной философии стратегии аргументации: «мотт-и-бейли», понимание нормы как эмпирической регулярности, приверженность объяснениям через происхождение. Оценка этих стратегий как ошибок или уловок была бы слишком поспешной, правильнее было бы назвать их особенностями типов рациональностей, создающими в экспериментальной философии особую динамику поиска и отличающая научно-экспериментальную партию от партии более философской. Ценность экспериментального подхода несомненна, он обогащает философию не только новыми данными, но и новыми аргументами.
 1014-1031
1014-1031
 207
207
«Эпистемологически различные миры»: от Я. Икскюля до Г. Вакариу
Аннотация
В исследовании рассматривается введённое Габриэлем Вакариу понятие «эпистемологически различных миров» и его предыстория в европейской науке и философии с начала ХХ в. Показано, что обвинение в плагиате, выдвинутое Вакариу против Маркуса Габриэля, лишено оснований, во-первых, поскольку понятие «смысловых полей» ( Sinnfeld ) М. Габриэля не тождественно понятию эпистемологически различных миров, и во-вторых, поскольку в ХХ в. сходные по значению понятия появлялись начиная с концепции «умвельта» Якоба Икскюля (1909). Отдавая дань революционному сдвигу, произведённому этой концепцией Икскюля, автор прослеживает прямые и опосредованные философские отсылки и модификации, которые произвела концепция умвельта в феноменологии позднего Э. Гуссерля, фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, нейрофеноменологии Ф. Варелы. Показано, что и концепция «жизненного мира» Гуссерля, и «мирообразование» человеком у Хайдеггера, и «структурная сопряжённость» у Варелы, с одной стороны, восходят к концепции умвельта Икскюля, с другой - могут быть подведены под общее понятие «эпистемологически различных миров». Таким образом, отказывая Вакариу в признании его приоритета в создании данной концепции, делается всё же вывод о продуктивности и эвристической ценности введённого Вакариу термина. Предлагается также условная классификация 5 ступеней преодоления репрезентативизма, в которой различные вариации концепции эпистемологически различных миров соответствуют последним трём ступеням. Но логически высшей на данный момент признаётся всё же интерпретация «феномена мира», развёрнутая М. Хайдеггером во второй части его лекций «Основные понятия метафизики». В этих лекциях Хайдеггер напрямую отталкивается от концепции умвельта Я. Икскюля и развёртывает оригинальный проект «философии природы», встроенный как часть в его «фундаментальную онтологию». Здесь он не только анализирует отличие мира животного от человеческого феномена мира, но заново на этой основе переосмысляет природу жизни как таковой и специфику человеческого способа бытия и отношения к сущему. Ключевым выводом Хайдеггера для концепции эпистемологически различных миров является то, что само понятие «существование» применимо только внутри человеческого мира и неприменимо к умвельту животного.
 1032-1049
1032-1049
 709
709
Методологическое взаимодействие экспериментальной и компьютерной философии
Аннотация
Исследование посвящено проблеме взаимосвязи методов двух современных философских направлений: экспериментальной и компьютерной философии. Оба эти направления отличаются тем, что они отходят от принципов «кабинетной» философии, хотя и не порывают к ней полностью, обращаются к эмпирическим данным и т.п. Рассматриваются ключевые принципы экспериментальной философии, которые позволяют интегрировать методологическую структуру экспериментальных философских исследований с подходами в области компьютерной философии. Также демонстрируется, что с помощью компьютерной философии могут быть трансформированы такие классические философские методы, как концептуальный анализ и мысленные эксперименты, что в том числе позволяет частично объединить между собой экспериментальную и компьютерную философию. Выделяются четыре группы компьютерных технологий, которые могут быть использованы в связке с философскими методами. Это технологии анализа данных, компьютерного моделирования (многоагентные системы и т.п.), генеративные ИИ-технологии, компьютерные игры. В контексте философских исследований результаты, полученные с помощью этих ИКТ-инструментов, требуют особой смысловой интерпретации. В данной работе рассматривается проблематика потенциально возможного экспериментального философского исследования, посвященного проблеме подтверждения/доказательства в области доказательной медицины и медицинской деятельности. Предлагаются варианты того, каким образом можно было бы использовать методы компьютерной философии для проведения такого исследования.
 1050-1066
1050-1066
 156
156
Экспериментальная философия и когнитивная наука в контексте осмысления гибридного интеллекта: философско-антропологический аспект
Аннотация
В исследовании рассматривается экспериментальная философия как новое философское движение, возникшее в западной интеллектуальной мысли XXI в. на фоне методологического кризиса аналитической философии. Его представители обосновывают, что философ сам должен активно осваивать экспериментальные методы психологии и социальных наук и противопоставляют себя так называемой «кабинетной», т.е. спекулятивной философии. Магистральной темой их исследований является «философская интуиция» обыденного сознания, а также большое внимание уделяется проекту метафилософии. У этого движения достаточно много критиков, которые опасаются, что философия, интегрированная с наукой, может утратить свою автономность. Сегодня одна из самых перспективных междисциплинарных научных областей - это когнитивная наука, которая активно использует экспериментальные данные. В исследовании рассматриваются возможности тесного диалога философии и когнитивной науки по самым разным вопросам, прежде всего по вопросу о сознании и познавательной деятельности человека. Кроме того, обсуждаются возможности применения конвергентных НБИКС-технологий и направление исследований интерфейсы «мозг-компьютер», в том числе экспериментальная работа в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ под руководством члена-корр. В.Н. Кироя. В исследовании обосновывается, что под экспериментальной философией может пониматься такая философия, которая открыта для осмысления новых данных, полученных экспериментальным, опытным путем. Она сохраняет свою автономность, не будучи полностью интегрирована в науку, но активно участвует в научном развитии (прежде всего в пространстве когнитивных и смежных с ними наук), а также выступает этическим регулятором научно-технического прогресса. В качестве одного из перспективных направлений развития экспериментальной философии предлагается междисциплинарное исследование гибридного интеллекта. Раскрываются основные особенности создания гибридных интеллектуальных систем на современном этапе. На примере работы специалистов естественнонаучного и гуманитарного профиля лаборатории «Нейроинтерфейсы», действующей на базе НИТЦ нейротехнологий ЮФУ, демонстрируется целесообразность проведения исследований в области экспериментальной философии с целью изучения гибридного интеллекта. В исследовании подчеркивается важность и значение биоэтики и этического регулирования в современном научно-экспериментальном поле.
 1067-1085
1067-1085


Философско-когнитивные аспекты визуальной метафоры в политическом дискурсе
Аннотация
Постмодернистская доктрина XXI в., а также развитие технологии изменили структуру и форму текста, который все больше и чаще стал обретать признаки полимодальности. Настоящее исследование посвящено визуальной метафоре, ее философско-когнитивным основаниям в политическом дискурсе трех лингвокультур: американской, британской и чилийской. В исследовании приводится дефиниционный анализ понятия «визуальная метафора», а также предлагается обзор работ зарубежных исследований по данной проблематике. Когнитивные аспекты визуальной метафоры рассматриваются с применением концептуальных и методологических подходов авторов когнитивной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, теории двойного кодирования А. Пайвио, философские позиции базируются на трудах Э. Кассирера, Ф. Ницше, У. Эко, Р. Барта, Ю.М. Лотмана. В рамках исследования разработана методология анализа визуальной метафоры с параметризацией, которая включает в себя методы исследования когнитивной лингвистики, семиотики и культурологии. Представленная методология позволяет анализировать полимодальные тексты политического дискурса, выявлять типы когнитивных метафор, анализировать структуру знака, раскрывать внутренние механизмы управления общественным мнением в контексте политического дискурса. Практическим материалом исследования послужили 30 политических карикатур, которые были отобраны методом сплошной выборки, посвящены политическим лидерам США (Д. Трамп), Великобритании (Б. Джонсон), Чили (С. Пиньера), являются мономодальными, т.е. содержат только визуальный код. Принципиальным основанием выбора послужила визуальная метафора, которая должна была распространяться на политического лидера. Отобранный материал был параметризирован согласно разработанной методологии анализа визуальной метафоры, каждый из критериев подробно описан. Работа завершается сравнительно-сопоставительным анализом визуальной метафоры политического дискурса трех лингвокультур - американской, британской и чилийской - выделены общие черты, а также проанализированы различия, основания которых лежат в культурно-исторической перспективе, традициях этноса.
 1086-1105
1086-1105
 164
164
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Принцип непротивления злу насилием Льва Толстого и его критика в философии Ивана Ильина
Аннотация
В исследовании показано, что Лев Толстой первоначально понимал принцип непротивления злу насилием как чисто моральную заповедь, обязательную для всех людей и ведущую человечество к совершенству. Но затем в своем учении он сделал акцент на необходимости для каждого человека преобразить свою жизнь из низшей, «животной» формы в божественную форму, и только для людей, осуществивших такое преображение, признал применимым принцип непротивления. Согласно Толстому, божественная жизнь означат непосредственное духовное единство людей, благодаря чему они имеют возможность прямого духовного влияния друг на друга без материальных средств. Люди, обретшие божественную жизнь, обладают более сложным и глубоким пониманием бытия. Они видят последствия своих поступков не только в ближайшей временной перспективе, но и во всем будущем времени, поэтому они могут более правильно оценивать последствия своих поступков. Толстой утверждает, что в этом случае каждый человек видит, что злые поступки (даже совершенные ради благой цели) ведут только к общему негативному результату, а добрые - к позитивному. Иван Ильин в своей философии утверждал, что души людей полностью обособленны друг от друга и замкнуты в тела, поэтому чисто духовные методы воздействия на других бесполезны, воздействовать на душу злодея можно только через его тело с помощью материальных средств. В работе доказывается, что Толстой и Ильин достаточно правильно развивают свои системы идей, исходя из разных метафизических концепций человека, в равной степени происходящих из гностического христианства. Толстой занимает строго монистичную религиозную позицию абсолютного приоритета духовного начала; Ильин разделяет дуалистическую метафизику, в которой дух и материя оказываются равными по своему значению. Оба русских мыслителя оказываются правы в рамках выбранных ими исходных метафизических предположений.
 1106-1121
1106-1121


Влияние мультилингвизма на творчество Василия Сеземана
Аннотация
Работа посвящена выявлению и анализу влияния мультилингвизма Василия Сеземана (1884-1963) на его творчество. Рассмотрены предпосылки формирования естественного и приобретенного мультилингвизма В.Э. Сеземана, поставлен вопрос об особенностях творчества и языкового оформления сочинений философа, возможных профессиональных преимуществах, обусловленных мультилингвизмом. В исследовании дан обзор полемики относительно национальной, культурной и философской идентичности В. Сеземана в контексте профессионального мультилингвизма (активного академического использования русского, немецкого и литовского языков). В работе рассмотрены характерные особенности билингвов и мультилингвов, представлен краткий обзор исторической динамики оценки их когнитивных возможностей и специфики обучения. Показано, что современное собирательное понятие металингвистическое сознание помогает выявить и описать специфические черты, свойственные сочинениям В. Сеземана, его «особое чувство языка», узнаваемый стиль, точность формулировок и внимательное отношение к терминологии, выразительность изложения, образность речи и композиционную стройность работ. В ходе исследования выявлено, что существует ряд дополнительных факторов, усиливающих особое отношение к языку В. Сеземана, среди которых выделены: музыкальный слуховой и исполнительский опыт, преподавательская деятельность и работа переводчиком. Кроме того, в исследовании продемонстрировано ясное осознание В. Сеземаном возможностей, которые дает знание нескольких языков, что подкреплено высказываниями философа и фрагментами из воспоминаний его детей. В работе приведены примеры, иллюстрирующие специфику его стиля изложения. Проведенный анализ не только показывает уникальность феномена В. Сеземана в истории философии, но и открывает возможности для новых исследовательских подходов к его творчеству, демонстрирует исследовательский потенциал его наследия.
 1122-1140
1122-1140


ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Проблема выражения спекулятивной конкретности в «Феноменологии духа» и понимание Гегелем природы и границ философского знания
Аннотация
В исследовании анализируется влияние представленных в «Феноменологии духа» поисков формы выражения «опыта сознания» на становление понятия философии. В основе гегелевских поисков лежит убеждение в тождестве мышления и языка, находящем отражение во «внутренней речи». Проверка содержания «опыта» словом освобождает философию от всего, что выходит за границы постигнутой мыслью определенности, будь то субстрат, носитель «свойств», в начале «опыта» или трансцендентное бытие в его завершении. Однако в каждом из трех «кругов» «Феноменологии» возможностей «внутренней речи» как инструмента проверки и накопления определенности оказывается недостаточно в момент выступления самосознания как субъекта спекулятивной конкретности, поэтому в соответствующих фрагментах текста форма повествования приближается к модели философии, которая в современной Гегелю культуре связывалась с интеллектуальным созерцанием. В свою очередь, отказ Гегеля от этой модели философии и обращение к раскрытию содержания самосознания с помощью описания его деятельности в социальном окружении создает опасность утраты единства постигнутой определенности, являющегося сущностной чертой философского знания. Решение проблемы Гегель находит в выстраивании композиции произведения, основывающейся на последовательном разграничении и взаимодействии субъектов «опыта», которые играют различную роль в движении к единой цели. В результате разнородное социально-культурное содержание «опыта» в «воспоминании-самоуглублении» самосознания приобретает форму диалектико-спекулятивного единства мысли - «понятия», которое принимается Гегелем в качестве единственной формы, адекватной природе философского знания.
 1141-1155
1141-1155


«Книга услады и развлечения» (984) Абу Хаййана ат-Таухиди и её известный диспут о логике и языке
Аннотация
Ат-Таух̣ӣ́ди известен не только как уникальный информант о тайных религиозных сектах и выдающихся учёных своего времени, но и как единственный передатчик ставшего известным диспута о логике и языке, состоявшемся между учёным-грамматистом Абӯ́ Са’ӣ́дом ас-Сӣрā́фи и логиком-христианином Абӯ́ Би́шром Ма́ттой (в Багдаде в 932 г.). Он был записан Таух̣ӣ́ди гораздо позже в его главном труде, «Книге услады и развлечений» (984 г.), Ночь (глава) восьмая. Суть диалога - разногласие относительно позиции одной из сторон: тот, кто сведущ в грамматике, вовсе не нуждается в какой-либо иной науке, чтобы решать логические задачи или вопросы. Более того, Сӣрā́фи утверждает, что логика есть не что иное, как «фокус» и «обман» «высокомерных» людей, «порочащих» свой собственный язык. Ма́тта, напротив, настаивает на том, что истинное от ложного можно отличить только при помощи науки (логики). Диалог даёт чёткое представление об отношении традиционалистов того времени к древнегреческому наследию, раскрывает их отношение к таким понятиям, как Логос и силлогизм. В конце диалога Сӣрā́фи критикует и первого философа(-перипатетика) арабов, ал-Ки́нди, вновь выбирая в качестве критерия благозвучность языка. Данное исследование ставит своей целью проверить, был ли диалог передан в том виде, в котором мы воспринимаем его сейчас.
 1156-1164
1156-1164


Ценностно-теоретическое обоснование эстетики Йонаса Кона
Аннотация
Йонас Кон (1869-1947) основал свою философскую эстетику как критическую теорию ценности на базе немецкой юго-западной школы неокантианства. Для Кона эстетические ценности - это «чисто интенсивные» ценности. Как таковые, они являются самодостаточными ценностями, имманентными произведению искусства. Произведение искусства также образует единство выражения и оформления. Сверхиндивидуальная ценность произведения искусства измеряется этим единством. Это единство не может быть определено дискурсивно, а раскрывается индивидуально в непосредственном, свободном от рефлексии опыте. Тем не менее, эстетические ценности претендуют на надличностную обоснованность. История искусства документирует продолжающиеся споры о всеобщем, основанном на ценностях признании произведений искусства. Обоснование эстетики Кона, сочетающее кантовские, неокантианские и философско-жизненные мотивы, несмотря на некоторые недостатки, является важным вкладом в систематическое обоснование эстетики. Однако эстетика Кона пока не получила того внимания, которого она заслуживает.
 1165-1186
1165-1186


Парадокс Аверроэса
Аннотация
В исследовании рассматривается проблема разных способов восприятия античной философской традиции в классической арабо-мусульманской и средневековой европейской философии. Отмечается, что различие в способах восприятия определяется, в частности, особенностями концепции «знания» в исламе и христианстве. В рамках взаимодействия арабо-мусульманской и христианской культур возникают стереотипы в восприятии друг друга, которые удивительным образом формируют, например, парадоксы при христианизации и европеизации учений восточных перипатетиков, чьи труды переводились на латинский язык и имена которых «латинизировались». Наиболее известные имена философов: Ибн Сина (980-1037) более известен в Европе как Авиценна и Ибн-Рушд (1126-1198) как Аверроэс. Эти мыслители принадлежали к школе восточного перипатетизма. Восточный перипатетизм или восточный аристотелизм - термины, которыми обозначают одно из направлений арабо-мусульманской философии эпохи средневековья. Как известно, именно представителей восточного перипатетизма именую фаласифа (الفلاسفة), а их учения фалсафа (فلسفة). Под термином «фалсафа» в арабо-мусульманской культуре эпохи средневековья имелась в виду античная философия, а также учения ал-Фараби (870-950), Ибн Сины, Ибн-Рушда, которые основывались на античных моделях философствования . Фалсафа отличалась тем, что, в отличие от европейской средневековой философии, никогда не стремилась служить религии и даже не рассматривалась для этой роли. Именно с именем Ибн-Рушда связано и одно из направлений развития средневековой европейской философии - «латинского аверроизма», который как философский термин применяется к направлению в схоластике XIII в., основывающегося на аверроэсовской интерпретации Аристотеля, и лежит в основе учения о «двойственной истине», рассматривавшего независимость истин разума от истин откровения, и, в конечном счете, философии от религии. Основными представителями этого течения были Сигер Брабантский (ок. 1240-1284) и Боэций Дакийский (ок. 1240-1284). Суть парадокса заключается в том, что средневековая Европа знала учение Аверроэса, но не знала учение Ибн-Рушда или по-своему его воспринимала. В то время как Арабский Восток как родина учения Ибн-Рушда не был знаком ни с так называемым аверроизмом, ни с концепцией «двойственной истины». В данном контексте парадокс можно объяснить как ситуацию, которая существует в исторической реальности, но не имеет строго логического объяснения, то есть на первый взгляд авторство Аверроэса как создателя учения о «двойственной истине» кажется истинным, но фактически является недостоверным высказыванием. Это связано и с тем, что в понятия и ценностные установки одной культуры, перенесенные для объяснения феноменов другой культуры, формируют стереотипное восприятие феноменов этой иной культуры. Вместе с тем в рамках взаимодействия культур распространение «латинского аверроизма» является одним из примеров интеграции арабо-мусульманской философской традиции в средневековую европейскую культуру.
 1187-1199
1187-1199


СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Философский аспект пространственно-временных ритмов социального пространства города в документальном фильме: на примере экранного хронотопа Дзиги Вертова
Аннотация
Цель исследования состоит в изучении пространственно-временных ритмов социального пространства города в документальном фильме. Принято считать, что первый показ кинолент братьев Люмьер на бульваре Капуцинок и зародил документалистику - вид искусства, основанного на реальной съемке жизни, без постановочных сцен, актерской игры и авторского видения. Философский потенциал документального кино как жанра обеспечивает ему особое место в киноискусстве. Поэтому особый исследовательский интерес вызывает ритманализ городского пространства в кинореальности - экранный хронотоп городской повседневности в документальных работах. Город в документальном кинофильме - полноправный герой, а городское пространство и вся его архитектоника, повседневная жизнь, измененные монтажом, создают новое условное время и пространство киноработы. В документальной картине монтаж является важным смысловым инструментом, с помощью которого создается пространственная составляющая ритмики города. Ритмика города прослеживается с повторением определенных элементов, кадров, паттернов, что свидетельствует о глубине интенсификации художественной композиции. Анализ ритма городского пространства представляет исследование изменений и трансформации пульсации, слияния видимого и невидимого в киноискусстве. Время, пространство и ритм являются важными элементами повествования и динамичности специфики кинематографического опыта. Экранный хронотоп реализуется в различных специфических приемах для погружения зрителей во временные промежутки и множественные пространства, создавая иллюзию непрерывного времени. В этих условиях пространственно-временных ритмов городской жизни и рождается экранный текст, в непрерывном движении расплывчатых границ бесконечности. Данное исследование рассматривает пространственно-временные ритмы городской повседневности на примере хронотопа кинореальности Дзиги Вертова в авангардном документальном кино.
 1200-1211
1200-1211


Социально-философские теории и практики социетальной безопасности Cкандинавских стран: сравнительный анализ
Аннотация
В исследовании предпринимается попытка провести сравнительный социально-философский анализ концептуальных представлений о социетальной безопасности, ее функциях и практиках в Скандинавских странах после холодной войны, когда традиционные стратегии безопасности, уделяющие основное внимание геополитике, конкретным угрозам, связанным с войной, и территориальной обороне, дополняются новыми пониманиями «угроз» и необходимого спектра государственных действий для их устранения. Важными становятся стратегии «устойчивости», «управления рисками», «кризисами» или «чрезвычайными ситуациями», отвечающими за фактор целостности социума. В Скандинавских странах на первый план выходит необходимость обеспечения социетальной безопасности, связанной с развитием общества социального благополучия. Схожесть социально-философский теории и практики обеспечения социетальной безопасности позволяет говорить о возможном существовании собственной, скандинавской системы обеспечения социетальной/комплексной безопасности, об особых, скандинавских ценностях и способах их защиты. В исследовании показано, что скандинавский способ обеспечения безопасности сложился на основе «скандинавской модели», основанной на социализации и интеграции, а основа нового социально-философского понимания безопасности заключалась в готовности к широким действиям: от военного вторжения до экологических угроз, антропогенных катастроф и террористических атак. Однако общепринятой трактовки социетальной безопасности среди скандинавских стран так и не сложилось, каждая из стран имеет свои особенности. Выявление этих особенностей и является целью представленной работы, в которой предпринята попытка ответить на вопрос- возможно ли говорить о существовании особого, «скандинавского способа» осмысления и обеспечения безопасности. Для этого был проведен сравнительный социально-философский анализ концепций безопасности, их формулировок, а главное - практических действий по обеспечению социетальной безопасности в государствах Скандинавского полуострова на примере Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии.
 1212-1224
1212-1224


ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
Виртуализация культуры и мифологизация сознания
Аннотация
В исследовании рассматриваются вопросы виртуализации общества и культуры и мифологизации сознания. Автор придерживается той точки зрения, что виртуализация культуры выступает катализатором мифомагического сознания, побуждая его к проявлению. Однако мифологизация сознания не является неизбежным следствием виртуализации. Описание виртуализации сознания исключительно в негативном ключе создает ложное впечатление, что ее можно и нужно отменить. Тогда как философская задача - понимание трансформаций, происходящих с современным человеком. Понятие виртуализации сейчас полемическое и часто используется как метафора. Существующее многообразие интерпретаций автор исследования упорядочивает через прояснение концептуальных смыслов, с которыми в различных философских, социологических и культурологических моделях связано понятие виртуализации: компьютеризация, информатизация, игра, симуляция. Лишь при понимании виртуализации как симуляции возникает ясная смысловая связка между виртуализацией и мифологизацией сознания. Сущностные особенности Homo virtualis - вариативность идентификации, «утрата» реального тела, трансформация переживания времени определяют особенности виртуализированного сознания и создают предпосылки мифологизации, но не предопределяют ее. Мифологизация происходит, когда сознание перестает схватывать различие между знаком и его референтом, образом и вещью. Этот переход, не будучи предопределенным, происходит все же достаточно легко в силу сходства между мифологическим и сетевым пространством/временем/логикой, на которое указывает автор исследования. Так, мифологическое и сетевое пространства строятся от центра, это негомогенные пространства. Мифологическое и сетевое время цикличны и обратимы. Логика мифа и сетевой (виртуальной) реальности - это логика чудесного, логика исполнения желаний.
 1225-1235
1225-1235


Два лица трансцендентального эмпиризма: Жиль Делез и Джон Макдауэлл
Аннотация
В исследовании авторами предпринимается попытка сопоставить два проекта в философии второй половины XX столетия, носящих одинаковое название - «трансцендентального эмпиризма». Эта парадоксальная формулировка, отсылающая к кантовской философии, становится наименованием проектов Жиля Делеза и Джона Макдауэлла. Анализируя историко-философские корни проекта Делеза, авторы приходят к выводу о том, что наиболее важная линия посткантовской мысли, которую он стремится продолжить и к которой отсылает в своем проекте - это линия, идущая от Канта к Гуссерлю, но не затрагивающая Гегеля, линия трансцендентальной философии, центральным вопросом которой является quid juris? В исследовании показана исключительная важность кантовской идеи критики для делезианской философии, а также важность гуссерлианской идеи трансцендентального опыта для делезовского варианта «трансцендентального эмпиризма» Кроме этого, объяснен переход Делеза от трансцендентальной и критической философии к онтологии. Анализируя проект Макдауэлла, авторы помещают его в ряд с проектами Селларса и Дэвидсона, объясняя, каким образом их борьба с «мифом о данном» и догмами эмпиризма вдохновляет «трансцендентальный эмпиризм» Макдауэлла. Авторы показывают, каким образом Макдауэлл стремится снизить радикальность селларсовских и дэвидсоновских тезисов, вернув философию к объективной реальности, которой отвечают наши мысли, и почему в этом стремлении он обращается к кантовской мысли. Доказывается важность кантовского учения о способностях и о законодательной роли рассудка для этого варианта «трансцендентального эмпиризма», а также подробно раскрывается специфический концептуализм Макдауэлла, оставляющий некоторую автономию для чувственных созерцаний. В заключении авторы проводят сопоставление двух проектов, показывая их расхождения, коренящиеся как в кантовской мысли, так и в посткантианстве (Делез выбирает третью «Критику», Макдауэлл - первую, Делез выбирает Шеллинга, Макдауэлл - Гегеля), а также анализируют последствия трансцендентально-эмпирической позиции обоих философов для их философских систем в целом. Делается вывод об общем пространстве посткантовской мысли, внутри которой возможны сопоставления и диалоги мыслителей, принадлежащих к далеким друг от друга традициям.
 1236-1251
1236-1251


НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 1252-1262
1252-1262