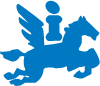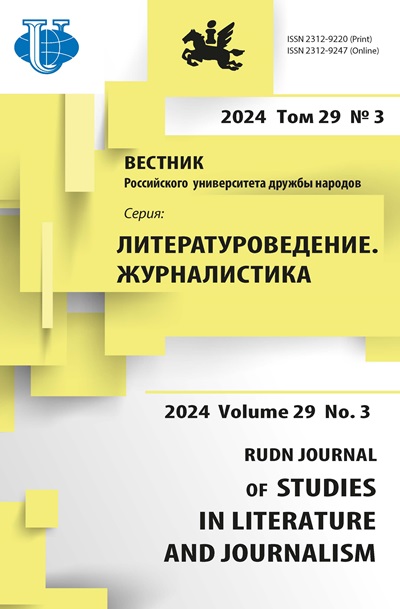Ivan Turgenev’s tale “Torrents of Spring” as a prose tragedy: Inner compulsion for mimetic competition as Sanin’s hamartia
- Authors: Lipke S.1
-
Affiliations:
- RUDN University
- Issue: Vol 29, No 3 (2024)
- Pages: 431-439
- Section: LITERARY CRITICISM
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/41905
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2024-29-3-431-439
- EDN: https://elibrary.ru/FNLYXC
- ID: 41905
Cite item
Full Text
Abstract
We study Ivan Turgenev’s tale “Torrents of Spring” as a prose tragedy. In the inner story, the unity of place, time, and action, so crucial to Aristotle’s concept of the tragedy, is observed. The analysis of the pieces of art mentioned in the story (Danneker’s “Ariadne”, Allori’s “Judith”) shows that there is also another element that is widespread in tragedies, predictions of the main character’s moral downfall and ‘enslavement’ to Maria Nikolaevna. For this reason, we can say that the tale is not only filled with tragic elements but can with full right be called a tragedy that contains the principal elements of this genre, with the exception of those referring directly to the scene or to declamation. Using René Girard’s theory, by studying the names of the other male characters, we can tell that the factor that moves the tragedy is Sanin’s hamartia, that is his inner compulsion to fulfill other people’s expectations, thus entering into mimetic competition with the other men. Sanin, who might have excelled Panteleimon, Émile, Klüber, and Dönhoff, finally creeps more than Polozov. However, the frame story allows for a potential catharsis, not only for the reader but also for Sanin himself.
Keywords
Full Text
Введение
Повесть «Вешние воды» вписывается в концепцию «психологической прозы» Лидии Яковлевны Гинзбург, согласно которой И.С. Тургенев на протяжении всего своего творчества старается с точностью выразить душевные переживания героев (Гинзбург, 1999, с. 61). Как правильно отмечает Г.И. Романова, в связи с этим в повести «Вешние воды» он движется в двух направлениях – автобиографизма и мифа (Романова, 2018, с. 86–87), следуя той же интуиции, которая немногим позже вдохновит и З. Фрейда: мифы, рассказывая о том, «чего никогда не было и что всегда есть» (Саллюстий), доходят до самых глубин того, что было до всякой истории; люди одновременно осознают и чувствуют то, что происходит в глубине индивидуальной души, вплоть до бессознательного, возникшего в том раннем детстве, которого человек «не помнит». Поэтому весьма уместно, что Г.Н. Боева называет «Первую любовь» Тургенева «предвкушением фрейдизма» (Боева, 2019, с. 80). О таком «предвкушении фрейдизма» в «Вешних водах» невольно свидетельствует то, что в размышлениях взрослого Санина человек в конце жизни отправляется «бух в бездну» (Тургенев, 1981, с. 256; см. Басова, 2013, с. 52), а не, например, «в могилу» или «в яму», как можно было бы также выразиться.
В связи с этим и мы здесь уходим «в бездну» глубокой древности. Это будет не миф как сюжет, а одна из древнейших жанровых форм его представления – трагедия. Одновременно уходим «в бездну» человеческой души и вековечных межчеловеческих конфликтов, следуя концепции Рене Жирара, согласно которому Фрейд неправ, потому что мимесис как таковой древнее даже сексуального желания, а сексуальное желание возникает в человеке только потому, что он видит, что другие (старшие) его испытывают и удовлетворяют (Жирар, 2010, с. 58–59).
Научная новизна данной статьи заключается в том, что мы изучаем связи между печальным провалом мечтаний и идеалов Санина и его глубинной склонностью к миметическому соперничеству. Согласно нашей гипотезе, мы являемся свидетелями трагедии провала, неизбежной потому, что Санина характеризует непреодолимое внутреннее принуждение к миметическому соперничеству, а именно: показать Ананке, при встрече с мужчинами, что он больше их соответствует идеальному образу мужчины.
При этом, принимая позицию В.И. Тюпы, согласно которой в художественной литературе XIX в. бывает трагизм вне зависимости от жанра трагедии (Тюпа, 2012, с. 24), мы все-таки считаем, что в нашем случае трагизм на самом деле порождает именно трагедию в духе Аристотеля и его последователей, и что есть множество элементов, благодаря которым можно причислить повесть к данному жанру, за исключением, разумеется, тех, которые связаны со сценой и декламацией.
Для изучения этого трагизма мы – также впервые – системно обращаем внимание на символику, скрытую в произведениях искусства, упомянутых Тургеневым, а также в именах и фамилиях мужских героев повести.
Трагедия в прозе
«Вешние воды» сближает с «Поэтикой» Аристотеля уже то, что действие, кроме обрамляющих эпизодов, отличается «единством пространства, времени и действия», свойственным классической трагедии: речь идет о том, как в пространстве между Франкфуртом, Зоденом, Ганау и Висбаденом в течение всего лишь нескольких дней Санин испытывает счастье любви к Джемме и теряет эту любовь, покоряясь Марье Николаевне.
Более того, согласно Аристотелю, ключевую роль в трагедии играет склонность человека к «подражанию» с самого детства (Аристотель, 1998, с. 1068). Санин же «не мог довольно надивиться» Джеммой именно в тот
момент, когда, читая забавные истории Мальца, она подражает изображенным в них героям (Тургенев, 1981, с. 268).
Кроме того, в трагедиях часто предсказывается гибель героя, которой тот старается избежать, но которая все же неизбежно наступает: достаточно вспомнить предсказания родителям Эдипа, Макбету, пролог «Ромео и Джульетты» или проклятие самого себя Фаустом в момент пакта с Мефистофелем. Причем предсказание бывает не всегда в самом начале трагедии. Повесть же Тургенева чрезвычайно богата предсказаниями (правда, не Санину, а читателю), которые затем сбываются. Например, Санин рассматривает «Даннекерову Ариадну» (Там же, с. 257) – скульптуру, изображающую девушку, подчинившую себе барса (Liebighaus Skulpturensammlung). У Джеммы «волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти» (Там же, с. 260). Тем самым Тургенев напоминает о Юдифи, по библейскому повествованию покорившей себе и убившей Олоферна. Здесь предсказывается судьба Санина в связи со встречей с Марьей Николаевной, тем более что художник Аллори изобразил голову убитого Олоферна со своим же лицом (Le Gallerie degli Uffizi).
Более того, игра Панталеоне с пуделем в Наполеона и Бернадота, в конце которой Панталеоне внезапно переходит на итальянский язык, называя пуделя «traditore» («предатель») (Тургенев, 1981, с. 279), предсказывает ту сцену, когда Санин уже изменил Джемме, и Панталеоне называет его «traditore», причем призывая именно пуделя лаять на Санина (Там же, с. 378).
Соответственно, можно назвать повесть «трагедией в прозе». Но это возможно только благодаря трагическому модусу повествования: как пишет В.И. Тюпа, в трагизме герой, с одной стороны, слышит «императив долженствования» и знает, что именно он обязан делать, но, с другой стороны, его «граница личностного самоопределения оказывается шире ролевой границы присутствия „я” в мире» (Тюпа, 2001, с. 192, выделение его же), что «делает героя в силу его внутренней свободы „неизбежно виновным” (Шеллинг) перед лицом миропорядка» (Там же).
Именно это происходит с Саниным: он много раз «слышит», как ему следует действовать. После оскорбления Джеммы Денгофом Санин подходит к офицеру, говоря: «То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите». О себе же он говорит: «Я не могу равнодушно видеть такую дерзость» (Тургенев, 1981, с. 286). Здесь отчетливо показано, что герой обязан определенному идеалу чести и видит своим долгом быть верным ему.
При первом знакомстве с Марьей Николаевной он говорит себе о ней: «О, да, с тобой держи ухо востро» (Там же, с. 349). О чувстве долга свидетельствует то, что он «в азартные игры никогда не играет» (Там же, с. 356). О том, что он чувствует себя нравственно обязанным Джемме, говорит его испуг, который он скрывает перед самим собой под излишней радостью, когда по возвращении из оперы получает письмо от нее (Там же, с. 369–370), которое напоминает, что ему не следовало так увлекаться общением с Марьей Николаевной. Зов долга чувствуется даже в тот момент, когда после измены «настолько совести и чести осталось еще в нем», чтобы к Джемме уже не вернуться (Там же, с. 378). О голосе долга свидетельствует также «стыд», который в нем вновь возникает через 30 лет (Там же).
Гамартия Санина
Именно с этим чувством долга связано то, что, согласно Аристотелю, можно назвать трагической «гамартией» Санина (Аристотель, 1998, с. 1082) – тем пороком, который неизбежно губит героя. Его абсолютное стремление соответствовать долгу выражается не столько в верности идеалам, сколько в верности чужим ожиданиям. Санин соглашается с чужим желанием, когда Джемма приглашает его на шоколад (Тургенев, 1981, с. 260–261), когда они с матерью прощаются словами «до завтра», и он дословно «отзывается» (Там же, с. 270), когда Эмиль снова зовет его в гости (Там же, с. 273), когда весь день родные Джеммы его «не отпускают» (Там же, 279), когда мать Джеммы просит его уговорить дочь не расставаться с женихом (Там же, с. 308–309), а также когда Марья Николаевна заставляет его гулять с ней под руку (Там же, с. 351), просит его рассказать о себе (Там же, с. 352), заставляет его остаться еще на один день в Висбадене и сходить с ней вечером в театр (Там же, с. 355–357) и, наконец, уговаривает его на роковую поездку верхом (Там же, с. 369).
Таким образом, гамартия Санина заключается в том, что он хочет вступить во взрослую жизнь и даже жениться, при этом не переставая быть послушным мальчиком. В отличие от Марьи Николаевны и даже от Джеммы с ее упрямством перед матерью (Там же, с. 307–308), он так и не испытал любовь к свободе, свойственную подростковому возрасту, что нарушило естественный порядок взросления – разумеется, речь идет о «нарушении» скорее в онтологическом, нежели моральном плане, так же, как в греческой трагедии. Тем не менее, поведение Санина ведет к тому, что он, как взрослый человек, вращаясь в разных кругах (семейство Розелли, общество офицеров, Полозовы), везде, как мальчик, хочет соответствовать чужим ожиданиям. Это уже само по себе тесно связано с гамартией, ведь соответствовать противоречащим друг другу ожиданиям невозможно. Санин не может одновременно удовлетворить ожидание Джеммы, чтобы он стал ей верным мужем, и жадность Марьи Николаевны.
Гамартия Санина также обостряется тем, что он, из желания подражать идеальному образу мужчины, неосознанно хочет показать, что он превосходит своих соперников, т. е. переполнен тем, что Рене Жирар называет «миметическим желанием». На это указывают имена и фамилии других мужских персонажей. Конечно, они все подобраны как бы случайно, без прямой связи с теми историческими героями, о которых в дальнейшем идет речь; однако в сумме эти «случайности» указывают на моральную проблему желания Санина быть «выше» других мужчин, что можно назвать разновидностью гибриса, который во многих греческих трагедиях, а также, например, в «Федре» и в «Гамлете», губит героя.
Символика имен
В самом начале Санин показывает, что он больше «целитель», чем Панталеоне, имя которого указывает на того святого мученика, которого восточные церкви почитают как «Пантелеймона» («Всемилующего»), бескорыстного врача и целителя (Рогов, Парменов, 2003, с. 71). Санин, в отличие от Панталеоне, восстанавливает здоровье Эмилио, тем самым соответствуя ожиданиям Джеммы (Тургенев, 1981, с. 259–260).
Он больше «Эмиль», чем брат Джеммы, т. к. он, по стопам героя Руссо, намного больше испытал и видел в жизни, нежели итальянский мальчик (Там же, с. 257; см. Rousseau, 1856, p. 130–156). При этом, однако, интерес Санина к вещам весьма поверхностный. Об этом свидетельствует то, что на Ариадну он посмотрел без особого интереса и что Гете он почти не читал (Тургенев, 1981, с. 257). Он не стремится почувствовать сущность вещей, особенно тех, которые можно увидеть во время путешествия, а соответствует ожиданиям, заложенным Стерном, Карамзиным и др., что «перед поступлением на службу» стоит прожить деньги за границей. Этому идеалу он подражает до совершенства, ведь «Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга» (Там же).
Затем Санин оказывается больше «Клюбером», нежели г-н Клюбер, жених Джеммы. Ведь юрист Иоганн Людвиг Клюбер, ставший знаменитым как хронист Венского конгресса, в 1822 г. потерял свои позиции, потому что власти сочли его учебник государственного права слишком либеральным (Mager, 1980, p. 133–134). Иными словами, как юрист Клюбер пострадал за справедливость, так и Санин, в отличие от г-на Клюбера, готов пострадать за нее, заступаясь за обиженную Джемму вплоть до дуэли, которая, как он несколько раз подчеркивает, должна быть серьезной (Тургенев, 1981, с. 286, 289, 290, 303).
Помимо того, он больше «Денгоф», чем одноименный офицер. Ведь род Dönhoff, о котором Тургенев, безусловно, знал (так как он был в основном связан с Пруссией, Литвой, Польшей и Ливонией), можно считать весьма благородным (Bußmann, 1959, p. 26). Санин же, исполняя свой долг и заступаясь за Джемму, оказывается более благородным, чем Денгоф.
Однако в итоге Санин, который хочет быть лучшим целителем, нежели Пантелеймон, более воспитанным в соответствии с идеалами Руссо, чем Эмиль, более справедливым, нежели Клюбер, и более благородным, чем Денгоф, перед Марьей Николаевной ползает больше, чем Полозов. Ведь Полозов все-таки свободен, т. к. ему не свойственно ревновать (Тургенев, 1981, с. 377), у Санина же начинается «рабство» (Там же) в связи с ревностью, которая уже раньше появилась в нем к Клюберу (Там же, с. 269), а теперь – к Денгофу и другим любовникам Марьи Николаевны (Там же, с. 377–378).
Предательство Санина обесценивает все его подвиги превосходства. В конце концов Эмилио, для которого Санин был «Пантелеймоном», получает от него глубокую душевную рану (Там же). Поездка по Европе не делает Санина взрослым человеком по образу Эмиля Руссо, т. к. пережитое препятствует ему строить свою жизнь в дальнейшем (Там же, с. 379). Джемма намного больше оскорблена поведением Санина, нежели дурным поступком Денгофа или безделием Клюбера. Трагическим наказанием за это является именно то, что дальнейшая жизнь Санина не складывается (Там же, 255–256, 379).
Однако повесть все-таки не является совершенной трагедией, т. к. в эпилоге на сцену выходят другие чувства, свидетельствующие о примирении и новой надежде (Там же, с. 379–383). Но даже эту часть можно связать с трагедией, ведь описанное в ней служит катарсису, намеком на который как раз являются письмо Санина к Джемме, его раскаяние и ее ответ, выражающий прощение и примирение (Там же, с. 381–383).
Заключение
Итак, повесть «Вешние воды» можно назвать «трагедией в прозе». Моральная гибель Санина объявляется несколько раз в первой части повести, особенно во второй главе, с помощью подтекста, возникающего благодаря экфрасису – речи о скульптурах, рассмотренных Саниным. Гамартия главного героя, причина его гибели заключается в его ревностном подражании идеалу мужского поведения, до которого он доходит не благодаря самостоятельным поискам, а в связи с желанием соответствовать чужим ожиданиям. Как раз эта слабость перед чужими ожиданиями приводит его к «рабству» и к боли, которую он, вопреки своим устремлениям, причиняет другим, прежде всего Джемме. Таким образом, этос долженствования героя, обусловленный подражанием, оказывается ничтожным и губительным.
О наказании Санина говорится в обрамляющем действии, где повествователь рассказывает о его несостоявшейся жизни и досаде. Это свидетельствует об этосе долженствования повествователя, согласно которому человек обязан стремиться стать взрослым и самостоятельным.
Авторская же позиция выходит за рамки последней, намекая на возможность катарсиса и на надежду, связанную с раскаянием и примирением.
About the authors
Stephan Lipke
RUDN University
Author for correspondence.
Email: stephanlipkesj@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9072-6945
Candidate of Philology, Assistant Professor at the Department of History of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences
6 Miklukho-Maklaya St, Moscow, 117198, Russian FederationReferences
- Aristotle. (1998). Poetics. In: Aristotle. Ethics, Politics, Rhetoric, Poetics, Categories. Minsk: Literatura. P. 1064–1122. (In Russ.)
- Basova, E.A. (2013). The Specifics of story-telling in I.S. Turgenev’s tale “Torrents of Spring”. Bulletin of Cherepovets State University, 2–2(48), 51–54. (In Russ.)
- Boeva, G.N. (2019). A Foretaste of Freudism: an experience of interpreting I.S. Turgenev’s tale “First Love”. In: Reshetnikov M.M. (ed.) Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference “The 4th Freud’s Readings”. St. Petersburg: Institute of Eastern European Psychoanalysis. P. 80–92. (In Russ.)
- Bußmann, W. (1959). Dönhoff, Grafen von. Neue Deutsche Biographie, 4, 26. https://www.deutsche-biographie.de/pnd118672150.html#ndbcontent
- Ginsburg, L.Ya. (1999). On Psychological Prose. Moscow: INTRADA. (In Russ.)
- Girard, R. (2010). The Scapegoat. St. Petersburg: Ivan Limbach. (In Russ.).
- Le Gallerie degli Uffizi. Giuditta con la testa di Oloferne. https://www.uffizi.it/opere/giuditta-con-la-testa-di-oloferne
- Liebighaus Skulpturensammlung. Ariadne on the Panther. https://liebieghaus.de/en/renaissance-bis-klassizismus/ariadne-panther
- Mager, W. (1980). Klüber, Johann Ludwig. Neue Deutsche Biographie, 12, 133–134. https://www.deutsche-biographie.de/pnd118930583.html#ndbcontent
- Rogov, A.I., & Parmenov, A.G. (2003). Panteleimon. Encyclopedia of Orthodox holiness (vol. 2). Moscow: Niola 21 Vek. (In Russ.)
- Romanova, G.I. (2018). The Mythologeme of water in I.S. Turgenev’s tale “Torrents of Spring”. Bulletin of Kostroma State University, 24(3), 85–87. (In Russ.)
- Rousseau, J.-J. (1856). Émile ou de l’éducation. Paris: J. Bry Ainé.
- Turgenev, I.S. (1981). The complete collection of works and letters: in 30 vols. 2nd ed., revised and expanded. Vol. 8: Tales and stories of 1868–1872. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Tyupa, V.I. (2001). Analytics of the artistic (Introduction to analysis in literature sciences). Moscow: Labirint. (In Russ.)
- Tyupa, V.I. (2012). The genealogy of lyrical genres. Proceedings of Southern Federal University (“Philology” Series), 4, 8–31. (In Russ.)
Supplementary files