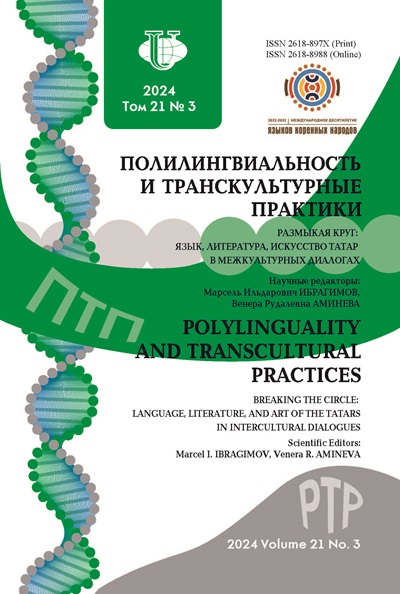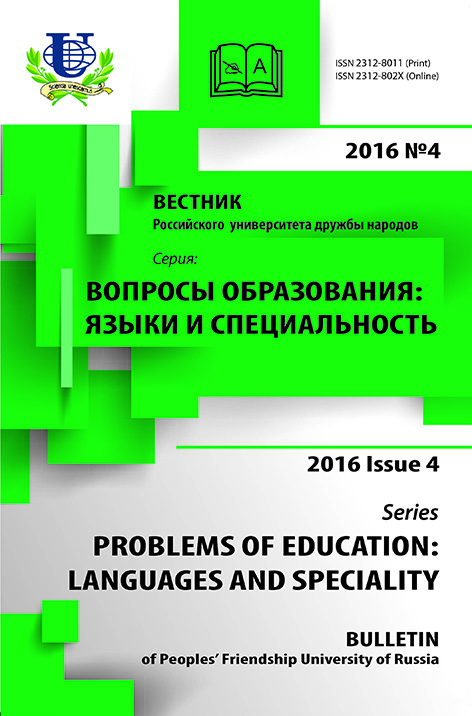ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ИРОНИИ В ФИЛОСОФИИ И ЭСТЕТИКЕ
- Авторы: Заврумов З.А.1
-
Учреждения:
- Пятигорский государственный лингвистический университет
- Выпуск: № 4 (2016)
- Страницы: 118-127
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/14667
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается возникновение и развитие иронии, а также ее функционирование в дискурсе. Автор прослеживает многовековое развитие иронии как общекультурного явления и приходит к выводу, что сущность категорий, объединяемых термином «ирония», становится более ясной при обращении к истории развития представлений об иронии в европейской философии и эстетике. Идеи, выдвинутые учеными в разные исторические эпохи, продолжают оказывать влияние на современные лингвистические и когнитивные теории иронии. Именно поэтому рассмотрение иронии в философской и эстетической парадигмах и изучения процесса формирования представлений о ней представляется весьма продуктивным.
Полный текст
ВведениеИмея длительную историю изучения, ирония, однако, не имеет такой дефи- ниции, которая могла бы непротиворечиво объяснить специфику ее возникно- вения и функционирования в тексте и дискурсе. Разумеется, отсутствием такого единого определения объясняются и весьма расплывчатые границы явлений, которые традиционно включаются в сферу иронии, а также обширное количество трактовок этого многоуровневого феномена. Ирония зачастую воспринимается как риторический троп, что свидетельствует об «инструментальном» отношении к ней. Кроме того, исследователи сосредоточивают свое внимание на описании дифференциальных признаков вербализации иронии, в то время как выход из создавшейся ситуации видится в возможности изучения единых лингвокогни- тивных механизмов продуцирования иронии, а также рецептивно-интерпрета- тивной деятельности, «спровоцированной» ею. Подходы к изучению иронии, существующие в современной гуманитарной парадигме, нередко не имеют не- обходимой объяснительной силы. Такое положение дел предполагает, по всей видимости, поиск интегральных ее признаков, которые позволяют представите-лям лингвокультуры квалифицировать различные случаи иронии как манифе- стирование одного и того же явления.Многовековое развитие иронии как общекультурного явления приводит к тому, что сам термин приобретает «зонтиковый» характер: им обозначают и троп как явление риторическое, и особые ситуации (ср.: ирония истории, ирония, судьбы и пр.), и идеи, которые выдвигались в различные эпохи развития философии (ирония Сократа, романтическая или постмодернистская ирония). Ирония спо- собна предопределить развитие самых разных ассоциаций, став основой для мно- гообразных интерпретаций [22]. Многие дефиниции иронии определяют в каче- стве основного критерий «замены знака» как способа ее создания и понимания:«Ироническое высказывание - это метасуждение, модус которого, отрицающий или подвергающий сомнению пропозицию, т.е. исходное суждение, заменен про- тивоположным модусом, эксплицитно или имплицитно (по умолчанию) под- тверждающим это суждение» [3. С. 172]. На наш взгляд, приведенное выше опре- деление эксплицирует распространенный подход исследования иронии, который характеризуется односторонностью понимания ее сущности: под иронией по- нимаются только те случаи, в которых пропозиция высказывания вступает в про- тиворечие с действительностью. Тем не менее известно значительное количество случаев реализации иронии, которые квалифицируются носителями лингвокуль- туры как иронические, но не интерпретируются «от противного». Именно по этой причине Л. Анолли, характеризуя многообразие явлений, объединяемых терми- ном «ирония», использует метафору семейного сходства - “the irony family” [13].Однозначное определение границ понятия «ирония» отсутствует ввиду внеш- ней, формальной, и внутренней, содержательной, разнородности иронических высказываний. Семантика и прагматика иронического дискурса обнаруживают известную сложность, которая тем не менее не получает четкого параметрирова- ния, поэтому ирония понимается как «… умение ироника скользить по поверх- ности…» [5. С. 41] или «…метаязыковая игра, высказывание в квадрате» [5. С. 637], а в конечном счете - как «… ясное сознание вечной подвижности, бесконечно полного хаоса» [10. С. 360], «irony is inherently confusing. Not only are its definitions confusing; it is confusing by definition» [31]. Образность приведенных определений не приближает к пониманию механизмов продуцирования иронического дис- курса, а также не дает ответов на вопрос, каким образом носитель языка/линг- вокультуры распознает иронию в дискурсе/тексте [2].Отсутствие четкости критериев параметрирования иронии, естественно, не позволяет структурировать дефиницию иронии, которая позволяла бы описывать все возможные формы ее репрезентации. Но В. Янкелевич указывает в этой свя- зи, что «... если иронию нельзя определить, то присутствие ее от этого не стано- вится менее самоочевидным… нельзя анализировать ее структуру, но можно, не- сомненно, описать ее движение и “повадки”; короче говоря, мы в состоянии вести разговор о качественных особенностях» [12. С. 28]. Сущность явлений, объ- единяемых термином «ирония», становится более ясной при обращении к исто- рии развития представлений об иронии в европейской философии и эстетике. Идеи, выдвинутые учеными достаточно давно, продолжают оказывать влияние на современные лингвистические и когнитивные теории иронии. Именно поэто-му рассмотрение иронии в философской и эстетической парадигмах и изучения процесса формирования представлений о ней представляется весьма продуктив- ным [12; 23; 24; 16; 17].Диахронический взгляд на феномен иронииИрония занимает особое место в истории европейской культуры уже со времен античности. По всей видимости, ирония реализуется в текстах самых разных эпох задолго до того, как появляется сам термин: Irony, though not the term, fills Homerand the Old Testament: invarious forms it permeates Greek tragedy and comedy; Ovid’s Metamorphoses is a handbook of irony as well as of mythology, and probably more meaningfully so; and the earliest Old English poems are replete with irony [26. С. 210] (Ирония, хотя и не само понятие, наполняет книги Гомера и Ветхий Завет: в раз- ных формах она проникает в греческую трагедию и комедию: «Метаморфозы» Овидия - это, возможно, справочник в большей степени по иронии, чем по ми- фологии; и самые ранние стихи, написанные на древнеанглийском, наполнены иронией). Онтологический статус иронии динамичен на протяжении веков: ри- торическая тактика ведения спора постепенно превращается в способ отношения к жизни, свойственный эстетической практике и мировоззрению романтиков XIX в. и постмодернистов ХХ в.Ирония, ее природа и свойства осмысливаются в координатах философии и риторики до конца XIX века, и лишь в ХХ в. начинается постепенное формиро- вание этических и филологических теорий иронии. Таким образом, рассмотрение иронии как понятия целесообразно начать с освещения ее характеристик в фило- софской научной парадигме с тем, чтобы иметь возможность охарактеризовать трансформации представлений об этом феномене.Возможности иронии и эффекты иронической коммуникации становятся ак- туальной исследовательской сферой уже во времена Сократа, который посред- ством притворного незнания побеждает в философских спорах своих оппонентов. Сократ в истории античности предстает в двух ипостасях: реальный человек, философ, который не оставил никаких текстов; персонаж античных комедий и диалогов. Платоновские «Диалоги» представляют идеализированный образ фило- софа, что дает основания исследователям называть Сократа «суперчеловеком» [21]. Понимание иронии в античности происходит благодаря образу Сократа, разрабатываемому в комедии Аристофана «Облака», «Меморабилии» Ксенофона,«Диалогах» Платона: здесь Сократ становится героем, меняющим маски (лжец у Аристофана и мудрец в роли простака в диалогах Платона). Оставив в стороне споры исследователей о степени достоверности образа Сократа [18], следует под- черкнуть, что эти тексты - единственный источник сведений о зарождении иро- нии в ее современном понимании.Основу иронии Сократа составляет именно сомнение, на что указывает С. Кьеркегор: «В наше время много говорится о значении сомнения для науки; а ирония для частной жизни является тем, чем сомнение - для науки. И поэтому подобно тому, как ученые утверждают, что нет истинной науки без сомнения, с полным правом можно утверждать, что нет подлинно человеческой жизни без иронии» [4. С. 186]. Внешняя наивность Сократа позволяет ему подвергать со-мнению истинность знаний своих собеседников, прежде всего, тогда, когда речь идет об этических ценностях. Риторические стратегии Сократа, которые явля- ются определяющими для «Диалогов» Платона, становятся значимыми для ев- ропейской культуры, что зафиксировано и в современных словарях, например: “Socratic irony - ignorance as summed in order to entice others in to making statements that can then be challenged” (Oxford English Dictionary) (Сократова ирония - при- творное незнание, побуждающее других делать утверждения, которые можно оспорить).Эпоха Средневековья по большей части не располагает к применению иронии: сократова ирония как способ построения диалога неизвестна средневековым ав- торам и не связывается ими с самим явлением, хотя изредка упоминается в их трудах. В целом, ирония интересует философов в этот период гораздо в меньшей степени, нежели метафора и аллегория [23].Невозможность иронии в Средние века может быть объяснена с помощью до- минант этической системы эпохи, не позволявшей притворство и несерьезность [12]. Существует также мнение, что ирония была вполне допустима в средневе- ковой культуре, однако не установлена та роль, которую ирония играет в этот период. Закономерно, что использование иронии ограничивается риторически- ми приемами, поэтому Средневековье характеризуется однозначным истолкова- нием понятия иронии как антифразиса. Именно с таких позиций рассматривают иронию Донат (tropus per contra rium quodconaturostendens) и Исидор Севильский (Ironia est sententi aperpronuntiationemcontrariumhabensintellectum) [20. С. 4].Исидор Севильский объясняет сущность иронии как притворство Говоряще- го («этот троп делается посредством остроумия или посредством обвинения, или посредством насмешки» [8. С. 56]), акцентируя внимание на прагматических ха- рактеристиках данного явления: «Ирония (ironia) - это когда посредством при- творства умом стремятся не к тому, о чем говорят. Бывает же это, или когда мы хвалим то, что [на самом деле] хотим порицать, или порицаем то, что хотим по- хвалить» [8. С. 87].Однако есть основания полагать, что ирония понимается в средневековой куль- туре и как специфическое отношение к жизни ввиду влияния этической системы христианства. Так, ирония неизбежна при попытке имитации божественного творения в произведении искусства, что одновременно предполагает постижение художником собственного несовершенства и тщетности попыток превзойти че- ловеческую природу. Ирония в тексте может быть рассмотрена и как обнаружение иронического мировоззрения эпохи [26]. В этой связи возникает закономерный вопрос о возможности восприятия художниками Средневековья собственных произведений с позиций иронии, поскольку сама антиномия безграничности божественного и ограниченности человеческого, скорее всего, является резуль- татом современного истолкования текстов рассматриваемой эпохи.Ренессанс воскрешает образ Сократа, посредством которого в европейскую культуру возвращается античное понимание иронии. Именно переводы «Диа- логов» Платона на латинский язык закрепляют ассоциации иронии с именем Сократа. Философы эпохи Возрождения полностью пересматривают античную традицию понимания иронии как притворства и лжи, оставляя за ней, однако,средневековую трактовку иронии как риторического приема, которая дополнена вновь пониманием данного явления как стратегии ведения диалога. Такой ракурс позволяет выделить тонкую иронию (сократову, ее расценивают как достоинство) и агрессивную иронию, тем самым указывая на объем включенности иронических высказываний в тексты разных жанров. При том, что тонкая ирония квалифи- цируется в эпоху Возрождения как проявление остроумия, ее наличие в античных текстах затрудняет их интерпретацию: так, «Диалоги» Платона по причине при- менения Сократом иронии лишают их однозначного понимания, в то время как трактаты Аристотеля такой ясностью по преимуществу обладают.Для Средних веков и Ренессанса характерно также отсутствие попыток клас- сификации видов иронии, что является следствием однозначного понимания термина и явления. Исключение составляет, пожалуй, логический подход рами- стов, избравших в качестве критериев типологии аристотелевскую классифика- цию противоположностей: разновидности иронии определяются отношениями различия, «противолежания», противоположности, противоречивости.Ирония эпохи Просвещения традиционно связывается с именами Дж. Свиф- та и Вольтера. Зачастую ирония служит основой для манифестирования сатиры и сарказма как важных воплощений комического в их текстах. Так, Вольтер при- меняет иронию для акцентирования внимания читателей к негативным чертам жизни общества. Объект иронии для него - социальная «слепота» и лицемерие тех, кто по долгу службы должен олицетворять добродетель. Можно с уверенно- стью говорить об иронии эпохи Просвещения как инструменте этического воз- действия. Дж. Свифт выражает в своих «Сказке бочки», «Скромном предложении» и «Путешествиях Гулливера» определенное ироническое мировоззрение, что по- зволяет связывать свифтовскую иронию не только с направленностью его сатиры, но и с системой взглядов писателя [28]. В этой связи «Путешествия Гулливера» могут быть расценены как реакция писателя на основополагающие идеи Про- свещения: рационализм, рассмотрение мышления как совокупности логических законов подвергаются беспощадной критике в высказываниях разумного Гулли- вера и доведены в «Путешествиях Гулливера» до абсурда. Именно в этом иссле- дователи видят авторскую иронию, распознаваемую современным читателем [17].«Скромное предложение» строится на реализации абсурда: объект авторской иронии - сам повествователь, логические рассуждения которого вступают в из- вестное противоречие с этической и аксиологической системами социума. Свифт указывает на этот конфликт, акцентируя внимание на острой проблеме: эконо- мический прогресс, реализуемый без учета различных факторов, приводит, в ко- нечном счете, к социальным противоречиям. Позднее ирония Свифта приобре- тает статус литературного приема, позволяющего автору актуализировать крити- ку ситуации или образа. Такая «абсурдная» ирония получает следующее определение в современной литературоведческой интерпретации:Эпоха романтизма привносит в понимание иронии новый оттенок: возникает романтическая ирония. Этим термином принято обозначать комплекс идей не- мецких романтиков. Ирония вновь приобретает категориальный статус в коор- динатах романтизма, интерес к данному явлению связан с деятельностью йенских романтиков (бр. Шлегели, Л. Тик, К. Зольгер, Новалис). Э. Белер указывает точ-ную дату, когда Ф. Шлегель вводит новое понимание иронии - это 1797 г.: «Фи- лософия - это подлинная родина иронии, которую можно было бы назвать ло- гической красотой» [10. С. 282; 15. С. 73]. Так теория иронии включается в общую концепцию литературного творчества немецких романтиков: «Знаком дистанции между несовершенством и неполнотой объективированного замысла и совер- шенством идеального мира художника-гения является ирония. Она позволяла художнику быть свободным по отношению к тому, что он создал» [7. С. 22].Безусловно, романтическая ирония восходит к античному пониманию несо- вершенства и противоречий внешнего мира [25], однако античность и эпоха ро- мантизма представляют абсолютно разные ракурсы отношения к миру. Роман- тическая ирония индивидуалистична, что является следствием интереса роман- тиков к тайне, к личности художника, его внутреннему миру. Античная ирония, напротив, направлена во внешний мир, к тому же «…сократическая ирония оспа- ривала только пользу и достоверность науки о природе, романтическая же ирония в начале ХХ в. оспаривала само существование природы» [12. С. 11]. Ф. Шлегель определяет иронию через парадокс: «Ирония есть форма парадоксального. Па- радоксально все, что одновременно хорошее и значительное» [10. С. 283]. Ирония создает основание для необходимого двойственного отношения к миру, через которое раскрывается его парадоксальность.Поэтому романтическая ирония интерпретируется не только как риторический или стилистический прием, но и как способ философского отношения к миру и проявления творческой субъективности художника [25]. М.М. Бахтин в этой свя- зи указывает, что «понятие романтической иронии, разработанное Ф. Шлегелем, предполагает победоносное освобождение гениального я от всех норм и ценно- стей, от своих собственных объективации и порождений, непрерывное «преодо- левание» своей ограниченности, игровое вознесение над собой самим. Иронич- ность есть знак полной произвольности любого состояния духа…» [1. С. 387]. С. Кьеркегор выделяет субъективность в качестве доминанты иронии [4]. Все это позволяет К. Коулбрук утверждать, что именно немецкие романтики подходят непосредственно к созданию теории иронии, рассматривая ее не только как ри- торический прием, но и как специфику мировоззрения [17].В ХХ веке ирония становится объектом пристального внимания. Если ранее ее природа, свойства и специфика обсуждались в философских трактатах и учеб- никах риторики, а реализация происходила преимущественно в сфере искусства, то в ХХ в. формируются целостные теории иронии. Такой интерес к иронии об- условлен кардинальными изменениями в структуре общества, увеличением ско- рости получения и распространения информации, расширением сфер коммуни- кации и углублением ее потенциала. Рубеж ХХ-XXI вв. характеризуется распро- странением влияния иронии не только на сферу массовой коммуникации, но и на политический дискурс, интернет-дискурс, академическое общение. Вербаль- ная ирония, интерпретируемая как «замена знака», не способна описать все мно- гообразие явлений, что закономерно способствует актуализации исследователь- ского интереса к данному феномену. Современная гуманитарная парадигма ха- рактеризуется поливариативностью понимания иронии с позиций различных наук.Границы понятия ирония в настоящее время расширяются, к тому же пред- лагаются иронические интерпретации текстов, что позволяет по-новому осмыс- лить культуру в целом. Так, К. Барб замечает: «Странные вещи происходят, когда изучаешь иронию. Кажется, чем больше я работаю с иронией, тем больше ее я вижу. Иногда практически все вокруг кажется ироничным. Время нашего соб- ственного неведения (кажется, что прошлое часто идет рука об руку с неведени- ем) делает всю нашу жизнь ироничной - отсюда классическая ирония судьбы. Поэтому многие произведения реинтерпретируются как ироничные, потому что теперь мы видим несоответствия там, где изначально их могло и не быть» [14. С. 12]. Реинтерпретации подвергаются, например, священные тексты: ирония становится отправной точкой в истолковании взаимоотношений Бога и героев Библии, позволяя бесконечно усложнять понимание текста [27].Современные лингвистические, литературоведческие и когнитивные теории иронии во многом опираются на философское понимание данного феномена. Благодаря эпохе романтизма ирония получает мировоззренческий статус, являясь для постмодернизма отправной точкой в осмыслении окружающего мира, исто- рии, текста. Поливариативность истолкования текста влечет за собой возможность включения иронической интерпретации в число таких вариантов. Иронический потенциал текста трактуется как результат отказа от тезиса о том, что «… язык при правильном его использовании способен рассказать правду о реальности» [9. С. 32]. Так ирония приобретает ключевой характер в эпоху постмодерна, вслед за романтиками понимающего ее как способ мировосприятия. Ирония мыслится как технология двойного кодирования реальности: высмеивая реальность, она продуцирует возможности для ее трансформации [9].Теперь ирония становится достоянием разных семиотических систем - архи- тектуры, фотографии, музыки [19; 30], но доминантным остается вербальная иро- ния, т.к. данный феномен опирается, прежде всего, на использование языка.ЗаключениеИрония в использовании языка квалифицируется как разновидность игры, которая для постмодерна не ограничена только языком, но определяет личност- ное поведение. Ирония для У. Эко - игра, которая создает возможность пере- осмысления сказанного ранее и не требует при этом знания правил: «…можно участвовать в игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно серьезно. В этом отличительное свойство (но и коварство) иронического творчества. Кто- нибудь всегда воспримет иронический дискурс как серьезный» [11. С. 637].Ирония выступает средством объединения языка и реальности и - одновре- менно - их разделения, что выдвигает на первый план понятие интерпретации, тем самым устанавливая приоритет адресата в этом процессе. Выбор модуса ин- терпретации - серьезного или игривого - определяет сам адресат, что сообщает понимаю иронии и, в целом, текста субъективный характер.Философия постмодернизма определяет также отношение к ироническому тексту как полифоническому феномену, в котором сосуществуют и противопо- ставляются буквальный и имплицитный смыслы высказывания, а также изучениеинтертекстуальной природы иронического дискурса (ирония-как-эхо в концеп- ции Д. Спербера и Д. Уилсон).Ирония как этическая универсалия связана с использованием языка, что по- зволяет определять ее как «...возможность играть, летать по воздуху, жонглировать содержанием, отрицая его или пересоздавая» [12. С. 12], как «… возможность, средство, отношение, образ искусства, особенность мышления» [6. С. 60-61]. Образность дефиниций детерминирована аксиологическим характером феноме- на, но никак не проясняет сложившуюся ситуацию изучения иронии в лингви- стической парадигме.×
Об авторах
Заур Асланович Заврумов
Пятигорский государственный лингвистический университетпр. Калинина, 9, Пятигорск, Россия, 357503
Список литературы
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Казиева А.М. К вопросу о диалектической взаимозависимости и взаимовлиянии между ментальностью и языком // Гуманитарные исследования. 2012. № 2. С. 69-73.
- Козинцев А.Г. Человек и смех. Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. 236 с.
- Кьеркегор С. О понятии иронии. Логос. 1993. № 4. С. 176-198.
- Осиновская И.А. Ирония и эрос. Поэтика образного поля. М.: РОССПЭН, 2007. 208 с.
- Паси И. Ирония как эстетическая категория // Марксистско-ленинская эстетика в борьбеза прогрессивное искусство. М.: Наука, 1980. С. 60-83.
- Пивоев В.М. Ирония как феномен культуры. Петрозаводск: Петрозав. гос. ун-т., 2002.106 с.
- Севильский И. Этимологии, или Начала в ХХ книгах. Кн. I-III: Семь свободных искусств / пер. с латин., статья, примеч. и указатели Л.А. Харитонова. СПб.: Евразия, 2006. 352 c.
- Харт К. Постмодернизм. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. 272 с.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М.: Искусство, 1983. Т. 1. 479 с.
- Эко У. Постмодернизм, ирония, занимательность // Имя розы. М., 1997. С. 635-640.
- Янкелевич В. Ирония. Прощение / пер. с фр.; послесл. В.В. Большакова. М.: Республика,2004. 335 с.
- Anolli L. “You’re a Real Genius!” Irony as a Miscommunication Design / L. Anolli, M.G. Infantino,R. Ciceri // Say Not to Say: New Perspectives on Miscommunication. Amsterdam: IOS Press, 2002. P. 141-164.
- Barbe K. Irony in Context. Amsterdam: John Benjamins, 1995. 206 p.
- Behler E. Irony and the Discourse of Modernity. Washington: University of Washington Press, 1990. 154 p.
- Colebrook C. Irony in the Work of Philosophy. Lincoln: University of Nebraska Press, 2002. 332 p.
- Colebrook C. Irony. New York: Routledge, 2004. 195 p.
- Dubs H. The Socratic Problem // The Philosophical Review. 1927. Vol. 36. No. 4. Pp. 287-306.
- Gerstel J. Irony, Deception, and Political Culture in the Works of Dmitri Shostakovich // Mosaic.1999. Vol. 32. Issue: 4. P. 35.
- Green D.H. Irony in the Medieval Romance. New York: Cambridge University Press. 1979. 430 p.
- Griswold C.L. Irony in the Platonic Dialogues // Philosophy and Literature. 2002. № 1. P. 84-106.
- Gurewitch M. The Ironic Temper and the Comic Imagination. Detroit: Wayne State UniversityPress, 1994. 249 p.
- Knox D. Ironia: Medieval and Renaissance Ideas on Irony. Brill Archive, 1989. 237 p.
- Knox N. The Word Irony and Its Context, 1500-1755. Durham, NC: Duke University Press, 1961. 258 p.
- Mellor A.K. English Romantic Irony. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. 231 p.
- Reiss E. Medieval Irony // Journal of the History of Ideas. 1981. Vol. 42, No. 2. Pp. 209-226.
- Sharp C.J. Irony and Meaning in the Hebrew Bible. Bloomington: Indiana University Press, 2009.376 p.
- Tamura E.T. Jonathan Swift’s Satire and Irony // The Economic Journal of Takasaki City University of Economics. 2003. Vol. 46. № 3. P. 129-135.
- Thomson J. Irony: a Few Simple Definitions. URL: http://www.ajdrake.com/e456_spr_03/ materials/guides/gd_irony_def.htm (Дата обращения 10.01.2015).
- Zank S. Irony and Sound: the Music of Maurice Ravel. University Rochester Press, 2009. 434 p.