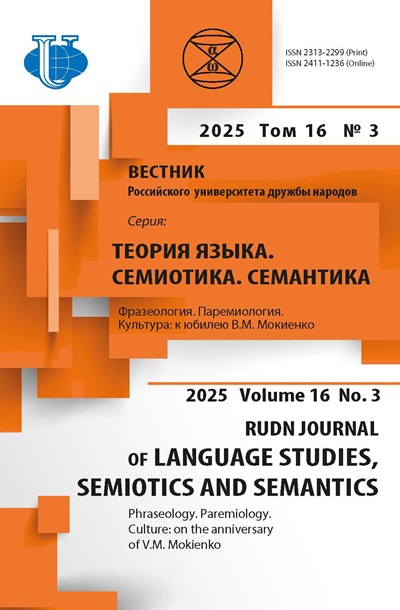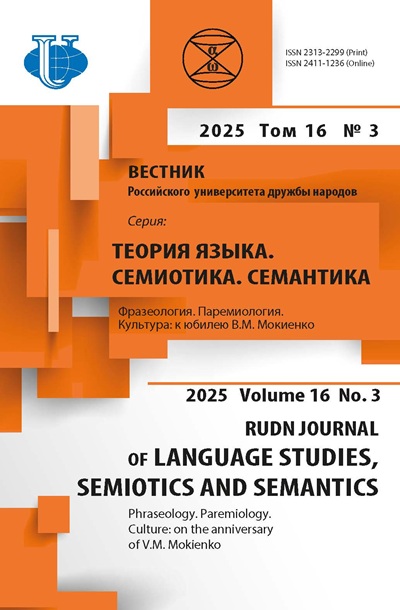Some Aspects of Transformational Development of Northern Russian Vocabulary of Baltic-Finnic Origin
- Authors: Myznikov S.A.1,2,3
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
- Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences
- Herzen State Pedagogical University of Russia
- Issue: Vol 16, No 3 (2025): Phraseology. Paremiology. Culture: on the anniversary of V.M. Mokienko
- Pages: 671-686
- Section: SEMIOTICS. SEMANTICS. PAREMIOLOGY
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/47344
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2025-16-3-671-686
- EDN: https://elibrary.ru/DJZHBB
- ID: 47344
Cite item
Full Text
Abstract
The work proposes an analysis of lexical data from the Baltic-Finnish linguistic continuum. For the most part, these materials can be considered as sub-texts. On the basis of an etymological reading of a dialect lexicon of Baltic-Finnish origin with the adoption of linguistic geography methods, some aspects of phonetic and semantic use of subtractive units are generalized, as well as some facts of semantic influence on Russian sub-dialects, so-called semantic сalcs. It is noted that in a number of cases there is a departure from the traditional form of the word with an attempt to find a motivating basis on native soil. Sometimes it is quite difficult to determine the direction of the influence of a particular semantic model. education, the same or similar motivational basis for nomination is used in these cases. In most cases, the sub-unit enters into the lexical system of speech, which leads to its full functional inclusion. Based on the specifics of denothate, our materials most often fix metaphorical translations. In the contact areas, there are data that are very frequent on Baltic-Finnish soil, which sometimes leads to the penetration and development on the Russian dialect soil of some frequency in speech of verb paradigms.
Full Text
Введение
Работа над данными, вошедшими в русские говоры из финно-угорского языкового континуума, показала возможность выделение различных единиц прибалтийско-финского, пермского, обско-угорского, марийского, мордовского типов. Причем, рассматривая отдельно каждый тип, возможно выделить дробные пласты, которые верифицировано могут возводиться не только к различным языкам или диалектам, но и к субдиалектным группировкам. Например, А.К. Матвеев рассматривал как «достойный особого изучения, крайне трудный и пока практически не исследованный вопрос о различении карельских и вепсских заимствованных лексем на РС (Русском Севере) и их ареальной привязке». По его мнению, возможно членение этого материала, по двум параметрам — на заимствования, которые имеют особенности, соответствующие фонетическим закономерностям ныне существующих прибалтийско-финских языков, и на заимствования, обладающие фонетической спецификой [1. С. 31].
Поскольку, обычно, субстратная единица имеет статичный и стабильный ареал, то, опираясь на соответствия в форме и семантике слова, вполне возможно добавить ареальный критерий, как крайне важный, для определения типа субстрата. Причем, довольно часто ареальная стратификация субстратного слова уже сама по себе являющаяся его важной характеристикой, в большинстве случаев может служить индикатором его типа.
Постановка проблемы
В данной работе предлагается анализ данных, источником которых является прибалтийско-финский языковой континуум. Большей частью эти материалы можно трактовать как субстратные. На наш взгляд, возможно выделение различных типов прибалтийско-финских субстратных типов, основываясь не только на фонетических особенностях этимонов (при наличии таковых), но и также на некоторых характеристиках, свойственных субстратной апеллятивной единице, как диалектному слову.
Таким образом, выделение типов субстрата при выявленной связи русского диалектного слова с прибалтийско-финскими данными, строится на различных параметрах: 1) наличие фонетических особенностей в языках (диалектах); 2) наличие-отсутствие в них слова; 3) ареальная характеристика субстратной единицы в большинстве случаев может быть связана с определенным языковым типом. В работе на базе этимологического прочтения диалектного лексикона прибалтийско-финского происхождения с применением методов лингвогеографии [2], обобщаются некоторые аспекты фонетического и семантического освоения субстратных единиц, а также выявляются некоторые факты семантического воздействия на русские говоры, так называемые семантические кальки.
Методологическая база исследования
В данной работе реализуются в том числе идеи регионального этимологического словаря, основанного на анализе исконных данных, которая была выдвинута А.С. Гердом [3; 4]. Кроме того, нами была предпринята попытка этимологического исследования неисконного лексикона на лингвогеографической базе [5; 6].
Цель и материал исследования
В данной работе предпринимается попытка на базе этимологического прочтения диалектного лексикона прибалтийско-финского происхождения и выделения субституционных и адаптационных фонетических моделей с применением методов лингвогеографии, обобщить некоторые аспекты фонетического и семантического освоения субстратных единиц, а также выявить факты семантического воздействия на русские говоры, так называемого семантического калькирования [5; 6]. В данной работе были использованы различные виды источников. Значительные материалы были получены при полевом экспедиционном обследовании русских говоров и финно-угорских языков, были использованы материалы картотек «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» (хранится в СПбГУ), «Словаря русских народных говоров» (хранится в ИЛИ РАН), картотеки «Словаря пинежских говоров» Г.Я. Симиной (хранится в ИЛИ РАН и в Словарном кабинете им. Б.А. Ларина филологического факультета СПбГУ).
Методы исследования
При этимологическом анализе, на базе которого строятся выводы о различных аспектах семантического освоения, предполагается использовать рассмотрение семантических и словообразовательных ареалов слова, причем более продуктивным кажется этимологический анализ лексики, когда каждое слово рассматривается не отдельно, а в комплексе, вместе с другими фонетическими, деривационными и т. и. вариантами, в том числе с лексикой сходной семантической природы и представляющей лексическую манифестацию этого же понятия или этой же реалии [5].
Фонетические варианты; трансформация формы слова
В данной работе, оставляя в стороне традиционное описание фонетического освоения заимствованной и субстратной лексики, обратимся к некоторым аспектам проблем преобразования формы диалектного слова. Часть из них уже рассматривались нами ранее [7–9]. При исследованиях диалектной лексики анализ сталкивается с проблемами, опосредованными устной формой бытования такого рода данных. Нередко исследователь не владеет полной фиксаций всех вариантов слова, — как диахронных, так и территориальных, а при этимологическом анализе нередко в качестве основного может исследоваться маргинальный вариант. Часто это связано с тем, что при разработке этимологической версии не всегда можно определить, является ли рассматриваемая лексема основной единицей в системе или окказиональным вариантом.
В ряде случаев наблюдается уход от первичной формы слова с попыткой поиска мотивационной основы на исконной почве, нередко с утратой некоторых его частей. Ср., например, ро’вда ‘слой мерзлого грунта под оттаявшей сверху почвой’ Вытегор., Подпорож., Сегеж., Вашк., Беломор., Кирил., Белоз. (ПЛГО). Слово восходит к прибалтийско-финским источникам, ср.: кар. твер. rowda ‘мерзлота, мерзлый слой земли’ (СКЯП: 241), ливв. rowdu ‘мерзлота, мерзлая почва — обычно весной’, вепс. сев. roud, ruŭd ‘мерзлота’ (SKES: 850), при вепс. r’öud ‘талая земля’ (СВЯ: 492). Однако, имеются нечастотные фиксации лексемы ров с этим же значением: — Ещё ров не вышел — садиться нельзя. Медвежьегор. (СРГК 5: 533). Причем, если рассматривать эти материалы в отрыве от основных данных карельско-вепсского происхождения, то вполне возможна отсылка только к русским источникам, что в плане происхождения единицы ров будет не вполне корректно.
Отмечается опрощение формы слова или его переразложение, нередко при этом может происходить преобразование морфемной структуры слова.
Опя’ться ‘покрыться первым тонким льдом’ Арх. Арх. (СРНГ 23: 325). Вероятно, слово возникло в результате переразложения, ср. фин. jäätää ‘покрываться льдом’ (SKES: 132), ливв. jiädüö ‘замерзать, обледеневать, покрываться ледяной коркой, обрастать льдом’ (СКЯМ: 102), вепс. jäduda ‘замерзнуть, превратиться в лед, обледенеть’ (СВЯ: 94), кар. jeätyö ‘замерзнуть’ (KKS 1: 499); т.е. кар. jeät- > русск. *яться > *объяться ‘покрыться льдом’ > опяться.
Можно привести пример, когда в диалектах на синхронном срезе представлена сложная совокупность разновременных данных различного происхождения, которую можно дифференцировать как хронологически, так и ареально-этимологически.
То’мор ‘палочка, используемая для стрельбы из детского ружья’ Прионеж. (СРГК 6: 480). Тома’р ‘стрела’ Петрозав., Лодейноп. (Куликовский: 119). Тамары’ ‘охотничий лук’ Урал (СРНГ 43: 256). Тамаро’к ‘игра — стрельба из лука по бабкам’ Том. (СРНГ 43: 256). Та’мор ‘стрела с тупым наконечником (для охоты на мелких пушных зверей)’ Енис. (СРНГ 43: 259). Имеются фиксации с XVI века (1589 г.): др.-русск. томара ‘стрела’ (Срезневский 3: 976). Вряд ли справедлива версия заимствования из хант. tamàr ‘тупая стрела для охоты за белками’ [10. С. 264], при общей тюркской основе этих данных, ср.: тюрк. tomar, tomyr, tomor ‘нечто круглое, тупое, например, кочка’, шорск. tamar ‘круглая стрела с шишкой на конце’ [11. С. 552]. Имеются вепсские материалы, которые, вероятно, древнерусского происхождения, — вепс. tomar ‘стрела лука (для стрельбы) (СВЯ: 574), что может объяснить факт наличия слова, тома’р, как обратного заимствования, в русских говорах Обонежья.
Представляется довольно близким фонетически наречное образование: тумаро’м ‘друг за другом, гурьбой’ Новг. (НОС 11: 71); тума’ром ‘коллективно, группой, занимаясь общим делом’: Тумаром собрались да в лес. Лодейноп. (СРГК 6: 535). Однако оно не связано с вепс. tomar ‘стрела лука (для стрельбы)’, причем в качестве источника можно привести другую вепсскую единицу, ср. вепс. tomarom: josta tomarom ‘бежать сломя голову’ (СВЯ: 574). Вепсская единица, на наш взгляд, является частью прибалтийско-финского гнезда, ср.: фин. диал. tomara ‘проворный, бойкий’, tomera (преимущественно в восточных диалектах) ‘проворный, бойкий, энергичный, напористый’, ‘хвастливый’, ‘быстро говорящий’, ‘бранчливый’, ‘неуклюжий, неловкий’ (SKES: 1340). Причем в этом же гнезде авторы SKES рассматривают вепс. tomotada. ‘звать, приглашать (для совместного действия)’ tomotada kodhe ‘позвать домой’, tomotada mända ühtes mecha ‘пригласить пойти вместе в лес’ (СВЯ: 574–575).
Приведенный анализ не является полным, поскольку лексема то’мор, наряду со значением ‘стрела’ и т.п. фиксируется также с семантикой то’мор ‘поперечная палка, жердь для подвешивания над костром чайника, котла и т.п.’ Медвежьегор. (СРГК 6: 480). Далее фиксируется в этом же значении лексема мото’р, фиксация которой может рассматриваться как результат метатезы томо’р > мото’р: Кишочки положат в котел, повесят на мотор и сало греют. Терск. (СРГК 1: 393). Мотор: палку, конечок, вывострят, в землю забьют и чайник греют на покосе. Подпорож. (СРГК 2:413). Мотор — это палка, приспособленная для кострища. Терск (СРГК 2: 443). Эти материалы представлены в тексте словаря при других словарных статьях. На заголовочное слово мото’р отмечается только значение ‘вращающийся вал в колодце’: Раньше колодцы были с мотором, да жердь така приделана, шест такой. Тихв. (СРГК 3: 265).
Приведем еще один подобный пример. Лексема ки’нцель ‘продольный бpуc, прокладываемый над килем внутри судна’ с обширными фиксация в Беломорье и Обонежье, является преобразованием от заимствования кильсон, являющееся морским термином, ср. кильсон ‘продольная связь на судах с ординарным дном, соединяющая днищевые части шпангоутов’, при нем. Binnenkiel ‘кильсон’, нидерл. kielbalk ‘то же’, которое следует возводить к англ. keelson ‘днищевая продольная связь на судне, идущая поверх шпангоутов, параллельно килю’ [12. С. 298]. Однако имеется фиксация мотивационной трансформации этого заимствования, которая объясняется прибалтийско-финским влиянием. Лексему ки’нсарь с тем же значением (на р. Свирь, Онежском озере) (СРНГ 13: 213), в данном случае можно рассматривать как результат переразложения: кин-сарь, где кин- возводится к вепс. kiŋged ‘тугой, натянутый’ (СВЯ: 206), а -сарь, при вепс. sarg ‘полоска (продолговатый кусок чего-л.)’ (СВЯ: 498), при русск. диал. са’рга ‘тонкие корни хвойных деревьев (сосны, ели, кедра), используемые для плетения корзин, верш, сшивания лодок и т.п.’, ‘тонкая дранка, прутья, используемые для вязки, плетения и т.п.’ [6. С. 717–719].
В ряде случаев фиксация какой-либо единицы в узком ареале предполагает связь с определенным субстратным типом, что, в свою очередь, обычно, минимизирует появление фонетических вариантов. Так, например, та’ймина ‘всходы, ростки у картофеля’ Кандалакш. (Ковда, Княжая Губа) (КСРГК), восходит к карельским источникам, ср. кар. taimen ‘росток, саженец’ (ILKS: 143), люд. taimen, при вепс. taimen ‘то же’ (SKES: 1197, 1198), кар. твер. taimen ‘рассада’ (СКЯП: 291), однако суффикс -ина, который можно как будто выделять на русской почве, является преобразованием карельского taim-en. По данным СРГК, отмечается единица, которая представляет собой не только фонетическое преобразование, но и результат поиска внутренней формы слова: томи’на ‘ботва картофеля’: Всю томину ощипали, картофельну траву; говорят, вся картошка в томину ушла. Онеж. (СРГК 6: 480).
Семантические кальки
Проблема языковых контактов и анализ процесса взаимовлияния языков и результатов их взаимодействия — весьма давняя проблема лингвистических исследований. Так, Л.В. Щерба полагал, что «во взаимном влиянии языков следует различать два совершенно различных процесса — заимствование и смешение языков; первое основывается на двуязычии, как я предложил бы назвать независимое сосуществование двух языков у одного и того же индивида, а второе основывается на смешанном языке с двумя терминами… В действительности есть всегда промежуточные формы и чаще всего оба процесса перекрещиваются» [13. С. 60].
В настоящее время при дифференциации заимствований на материальные и нематериальные кальки относят к последним, поскольку они представляют собой единицы (слова или словосочетания), созданные по иноязычному образцу из исконных языковых элементов, и являются неявными заимствованиями, воспроизводящими структуру или значение иноязычного источника. Можно провести следующую классификацию калек: грамматические, словообразовательные, семантические, фразеологические, синтаксические. Хотя, конечно, в целом все кальки представляют собой смысловой перевод иноязычной единицы на родной язык, и это может относиться к морфемному составу лексемы, к особенностям грамматики, корневым лексемам, фразеологизмам или особенностям синтаксиса [7].
В ряде случаев довольно трудно определить направление влияния семантической модели какого-л. образования, в этих случаях констатируются тождественные или сходные мотивационные основы номинации. Так, например, в севернорусских говорах и на прибалтийско-финской почве фиксируется сходная модель наименования ячеи в рыболовной сети: Глаз ‘ячея сети’: — У калеги глаз поменьше, мелку ловим, у невода побольше глаз. Плесец. (СРГК 1: 336). Глаз ‘ячейка рыболовной снасти’ Плесец. (Федотово) (СГРС). Глаз ‘ячейка рыболовной сети’ Арх. (АОС 9: 77–79). Семантически сходные данные отмечены в прибалтийско-финских и в коми языках, ср. ливв. silmü ‘глаз; ячея сети’ (СКЯМ: 336), вепс. süum, sil’m ‘глаз; ячея сети’ (СВЯ 535), водск. silm’ ‘глаз; ячея сети’ (VKMS: 296), коми син ‘глаз; ячея сети’ (ССКЗД: 336). Широко представлена сходная номинация в псковских говорах: глаз ‘ячейка в сетке’ Печор., Гдов., Сланц., Пск. (ПОС 6: 174), а также на рр. Волге, Урал: Глаз ‘ячея сети’ Астрах., 1858. «По величине ячеи (глаза) делятся на аханы, полуаханы и сети. Первые ловят исключительно белугу и вообще самую крупную рыбу; вторые — среднюю: осетра, шипа и крупную севрюгу; третьи — более мелкую севрюгу, белужатник и галбыш. На разну рыбу свой глаз: полаханы — восемь вершков, а для севрюги шестерик» Р. Урал (СРНГ 6: 184).
В тех случаях, когда мотивационная модель реализуется на прибалтийско-финской почве и локализована в русских говорах в зонах контактов, в большинстве примеров констатируется семантическая калька прибалтийско-финского происхождения, причем довольно часто она указывает на определенный язык или диалект-источник. Хотя бывают случаи сравнительно широкого распространения слова в севернорусских говорах при локализованном прибалтийско-финском источнике. Приведем пример такого рода.
Корешки’ ‘стебли щавеля’: — В де’тстве корешки’ рва’ли на поля’х, жа’рили ф пе’чке, вот э’то ки’слица — ща’вель, ки’слицэй зва’ли. Корешки’ — ве’точка — зё’рна на ней кра’сные. Терск. (Умба). Пудож. (Гакукса), Прионеж. (Ладва, Педасельга), Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). Коре’шки ‘стебли (преимущественно) щавеля’: — Кисленьки корешками у нас называют. Прионеж. С кислятки корешки ели, а наверху цвет, корешки-то вкуснее. Вытегор. Медвежьегор. (СРГК 2: 426). Данный материал первоначально был зафиксирован в районах с вепсским субстратным и адстратным влиянием, позднее в говорах Беломорья. Они находят семантическое соответствие только в вепсском языке, ср. вепс. jurutkad ‘щавель’, дословно ‘корешки’, при jur’ ‘корень’ (СВЯ: 159–160). Причем в Беломорье отмечается также лексема ко’рень в этом же значении: — Э’тот ко’рень, он то’жэ высо’кий, ли’стики э’то са’мое фсё оборвё’шь и ф пе’чке. Терск. (Умба). В имеющихся карельских источниках фиксируется только значение ‘корень’, ср. ливв. juwri ‘корень (растения)’ (СКЯМ: 109).
Приведем еще некоторые примеры, мотивационные основы которых тождественны или сходны в русских говорах и вепсском языке.
Медве’жья вошь ‘навозный жук, Geotrupes stercorarius, L.; Geotrupes sylvaticus, L.’ Петрозав. (Куликовский). Ср. вепс. kondjantäi ‘черный жук’ (дословно ‘медвежья вошь’) (СВЯ: 223).
Куку’шья вошь ‘клещ’: — Кукушья вошь сядет, не слыхаешь, напивается кровью. Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ 16: 47). Ср. вепс. kägointäi, kägentei, kägentäi ‘клещ’ (буквально ‘кукушья вошь’) (СВЯ: 260).
Га’жья трава ‘папоротник’ Кондоп. (Горка) (ПЛГО). Га’жья трава ‘папоротник Pteris aquilina L.’ Лодейноп. «Настоем из нее моют рану от укушения змеи» (Куликовский). Га’жья трава ‘растение Orchis, кукушкины слезки’ Вытегор., Пудож. (КСРНГ). Га’жьи ягоды ‘растение’ Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). Ср. вепс. gadan лuz’ik ‘папоротник’ (где gad ‘змея’) (СВЯ: 84).
В ряде случаев наличие семантических соответствий в одних и тех же наименованиях на русской диалектной и прибалтийско-финской почве трудно однозначно трактовать как воздействие какого-л. одного языкового континуума, ср. например: вепс. muiktad ‘щавель’, muiged ‘кислый’ (СВЯ: 333) и русск. диал. ки’слица; вепс. hebočaińe ‘ягода поленика’, при hebo ‘лошадь’ (СВЯ: 111) и русск. диал. комани’ка, кума’ника ‘княженика арктическая или поленика’, русск. устар. комонь ‘конь’; вепс. kuźjāńe ‘муравей’, при kuzi ‘моча’ (СВЯ: 250), фин. kusiainen ‘муравей’ и русск. диал. сикляки ‘муравьи’, с той же мотивационной основой.
Семантическое освоение
Наряду с фактами прямого заимствования семантической модели из прибалтийско-финского континуума лексические единицы в ходе функционирования в говорах в ряде случаев трансформируют этимологически первичную семантику, которая получает развитие уже на русской почве [14].
Так, например, в карельско-вепсских диалектах понятие ‘омут, глубокое место в реке’ манифестируется следующими лексемами: кар. южн. voŋga, ливв. voŋgu (ген. -gan) ‘излучина в реке, небольшая заводь, глубокое место, где река делает поворот; более широкое и глубокое место в реке; водоворот’ (SKES: 1808), вепс. boŋg ‘омут в реке, лесном ручье’, ‘широкое и глубокое место в реке’ (СВЯ: 47), люд. voŋg ‘водоворот, глубокое, тихое место в реке’ (SKES: 1808). Причем вепсские данные послужили источником для русск. диал. бо’нга ‘омут’ Прионеж. (Ладва, Педасельга), Подпорож. (Пидьма, Шустручей, Юксовичи, Гоморовичи), Вытегор. (Мегра, Ошта, Ундозеро) (ПЛГО). В зонах вепсского влияния отмечаются также топонимы: Бо’нга ‘поселок’ Вашк. (Новец) (ПЛГО), Бонга ‘название омута’ (СГБРС: 7). Воздействие карельского типа представлено не имеет апеллятивных фиксаций в говорах, однако отмечается гидроним Вонга в Мезенском, Пинежском районах [15. С. 299], ойконимы Во’нга ‘поселок’ на берегу реки Шижня (приток р. Паша) в Волховском районе, Во’нга Пинеж. (Симина).
В деревне Валдокурье Пинежского района фиксируется во’нга в значении ‘о жидком, слабо заваренном чае’ Валдокурье (АОС 5: 79). Исходя из семантики апеллятива ‘омут, водоворот’, можно было бы предположить, что в данном случае сдвиг значения связан именно с этими денотатами. Однако на территории Пинежья представлены только гидронимы и ойконимы, в основе которых лежат источники карельского типа: деревня Вонга находится в нескольких километрах от Валдокурья, кроме того фиксируется название протоки, которая соединяет два рукава реки Пинеги — Во’нга, которая находится напротив деревни Цимола. На наш взгляд, следует искать основания изменения семантики в связи с бытованием в этом регионе ономастических единиц. Вероятно, когда речь идет о слабо заваренном чае, в узусе говора Валдокурья, напрашивается связь с деревней Вонга, находящейся на противоположном берегу Пинеги на расстоянии чуть более пяти километров. Иллюстрация свидетельствует в пользу данной версии: Во’нга ви’дна. Если жы’ткий чай — вон Во’нга ви’дна. Валдокурье (АОС 5: 79). Таким образом, намечаются две линии семантического развития этих данных на русской почве:
1. Вепс. boŋg > Бо’нга ‘омут, самое глубокое место в омуте. Подпорож. (Вороничи, Косельга, Пидьма, Юксовичи), Прионеж. (Ладва, Педасельга), Вытегор. (Мегра, Ошта); > глубокая и широкая яма’ Подпорож. (Пидьма); > ‘выкопанная для каких-л. целей яма с водой’ Подпорож. (Чикозеро); > ‘топкое место на болоте’ Подпорож. (Заозерье); > ‘запруда в ручье’ Подпорож. (Косельга).
2. кар. voŋga > Вонга (гидроним) > Вонга (ойконим) > Во’нга ви’дна ‘о слабо заваренном чае’.
Следует отметить, что на вепсской почве фиксируются единицы, обозначающие наименования омутов, ср. Hebomboŋg, в которых часто отражаются какие-л. события, например, гибель лошади (вепс. hebo) [16. С. 33], однако на русской почве субстратная единица вепсского происхождения развивается как апеллятив. Причем как апеллятив кар. vonk(k) a практически отсутствует на собственно карельских территориях, при фиксациях в названиях гидронимов [17. С. 44]: Vonganlakši ‘залив’, Vongajarvi ‘озеро’, Vonganperä ‘залив’, Suurivongu ‘омут’, Vongaliete ‘урочище’, Ѵongu ‘озеро’, Isakanvongu, Kurgelanvongu, Pekinvongu ‘омут’ [18. С. 101].
В большинстве случаев субстратная единица входит в лексическую систему говора, что ведет к ее полной функциональной включенности. Исходя из специфики денотата, на наших материалах чаще всего фиксируются метафорические переносы [19]. Например, мелкая рыба > ребенок, человек невысокого роста.
Ва’шкал[1] ‘мелкая рыба’ Кирил., Вашк. (Сидорово) (КСРГК); Вашк., Подпорож. (СРГК 1: 166). Ва’шкалица ‘маленькая девочка’ Белозер. (Чикиево) (СГРС).
Ря’пус ‘рыба ряпушка’ Пудож. (Водлозеро, Римское), Вытегор., Каргоп., Вашк., Кирил. (КСРГК). Ря’пус ‘человек маленького роста и с большим животом’ Олон., 1912 (СРНГ 35: 352).
Нередко в русских говорах фиксируется только результат переноса, а первичное значение отмечается только на почве языка этимона.
Фин. kossi ‘мелкий лосось’, ‘маленький мальчик’, небольшой человек’ (SKES: 223) при русск. диал. кося’к ‘мальчик, мужчина очень маленького роста’ Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). В финский слово пришло из скандинавских языков, где фиксируются следующие данные: швед. gosse ‘мальчик’, норв. gosse ‘мужчина, высокий, крепкий мужчина’, ‘кабан’ (SKES 223).
Вепс. käč, käčak ‘пучок, клубок, моток, комок’ (СВЯ: 260) при руск. кичу’га ‘икра налима в виде клубка’ Медвежьегор. (Есино) (ПЛГО).
В ряде случаев характеристики птицы, зверя, манифестирующие в неисконных лексемах, в ходе функционирования уже на русской почве получают семантическое развитие, реализуясь в метафорических переносах [20].
Габу’к ‘ястреб’ Подпорож., Вытегор., Пудож. (ПЛГО). Слово восходит к вепсским источникам, ср. вепс. habuk ‘ястреб’ (СВЯ: 101), а для северного Обонежья нельзя исключать и людиковские источники, ср. люд. habuk ‘ястреб’ [21. С. 88] при древнегерманском источнике прибалтийско-финского гнезда, ср. герм. *ha(b) uka-e, при др.-норв. haukr, др.-швед. höker (SKES: 62).
Поскольку птица ястреб обладает яркими агрессивными поведенческими характеристиками, на русской почве они реализуются первоначально в виде сравнения: Налетел, как габук. Подпорож. (Корба) (ПЛГО). В дальнейшем происходит метафорический перенос на существ, обладающих этими качествами: г’а’бук ‘драчливый петух’ Вытегор. (Казаково), Подпорож. (Юксовичи, Корба) (ПЛГО); габу’к ‘злая собака’ Прионеж. (Вороничи) (ПЛГО); габу’к ‘жадный нахальный человек; забияка, драчун’ Подпорож. (Пидьма, Шеменичи), Кондоп. (Гангозеро), Прионеж. (Ладва), Пудож. (Гакукса). (ПЛГО).
Карельско-вепсские глагольные формы парадигмы спряжения
В ряде случаев в контактных зонах фиксируются данные, которые весьма частотны на прибалтийско-финской почве, что иногда ведет к проникновению в русские диалекты некоторых частотных в речи единиц глагольных парадигм. Например, глагол вепс. tuntta ‘знать, иметь сведения о ком-л., о чем-л.’ (СВЯ: 584), имеет основу — tund-: Must kü, hahk kü, kirgan kü, vauged кü, vaskne kü, tundod kus kodi, koivus kodi, aidakočkus elo, pahust paha, mäno maha (Черный змей, серый змей, пестрый змей, белый змей, медный змей, знаешь, где дом? На березе дом, в закоулке житье из худа в худо уходи в землю) (ОВР: 120–121). D’er’üŭn’, K’iĭno, Kaĭno. V’en’äks en tundo, Kaino, ka, v’en’äks en tundo kut nazyveĭše (Деревня Кайно, по-русски не знаю, Кайно, дак по-русски не знаю как называется (ПЛГО). Причем именно эта форма послужила основой для глагола ту’ндать, а семантика ‘знать’ на вепсской почве трансформируется в русских говорах в значение инфинитива ‘объяснять’: Ту’ндать ‘много и бестолково объяснять, говорить что-л. ‘: Тундал тундал, ничего не поняла. Черепов. (СРГК 6: 536).
Еще в одном случае уже карельский глагол послужил основой для сходной семантической трансформации. Кар. malttua, maltaa, maltua ‘понимать; разбираться; уметь’: Mie mahan, mie maltan ‘Я умею, я понимаю’. Ken siel’ä malttanou, se i viržit’t’äy ‘Кто там умеет, тот и причитывает’. En malta lehmyä mahokši šanuo, enga t’iijä i t’iinehekši ‘Не умею сказать, как яловую корову, да и не знаю, как стельную’ (ССКГК: 337). В СРНГ представлен глагол е’малтать «не понимать» Арх., 1887 (СРНГ 6: 354). Причем русская диалектная фиксация восходит к прибалийско-финской отрицательной формуле, ср. ливв. maltta- ‘мочь, уметь, понимать’, люд. maлttada ‘то же’ (SKES: 332), вепс. maltta ‘уметь, мочь’ (СВЯ: 320), ср. вепс. ei malta ‘он не умеет’.
Заключение
Таким образом, в ходе освоения и функционирования единиц прибалтийско-финского происхождения в смежных севернорусских говорах наблюдаются следующие аспекты:
а) уход от первичной формы слова с попыткой поиска мотивационной основы на исконной русской почве;
б) выявляются собственно семантические кальки, представляющие собой лексические единицы, значение которых имеет прямое соответствие в прибалтийско-финском языке (или языках);
в) наличие семантических соответствий в ряде случаев не дает возможности однозначно говорить о воздействии какого-л. одного языкового континуума;
г) в контактных зонах фиксируются проникновение на русскую диалектную почву некоторых частотных в речи единиц глагольных парадигм;
д) в ряде случаев можно наблюдать одновременно семантическое воздействие прибалтийско-финских языков и прямое заимствование: русск. диал. ломо’тник ‘репник’ при вепс. лohkoi ‘репник’, лohkaita ‘отломить, расколоть’ и лексема ло’хкы ‘вареная или пареная репа’ (ПЛГО).
1 Об этимологии см. [6. С. 123].
About the authors
Sergey A. Myznikov
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences; Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences; Herzen State Pedagogical University of Russia
Author for correspondence.
Email: myznikovs@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0002-2972-0656
SPIN-code: 4796-6667
Dr.Sc. (Philology), Chief Researcher of the Center for Areal Linguistics of the Institute, Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences ; Head of the Department of Dialect Lexicography and Linguogeography of the Russian Language, Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences; Head of the Department of Uralic Languages, Folklore and Literature, Faculty of Philology, Herzen State Pedagogical University of Russia; Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences
32a, Leninsky Prospekt, Moscow, Russian Federation, 119991; 9, Tuchkov Pereulok, Saint Petersburg, Russian Federation, 199053;30, Stachek Prospekt, Saint Petersburg, Russian Federation, 191186References
- Matveyev, A.K. (1995). Appellative borrowings and stratification of substrate toponyms. Voprosy yazykoznaniya, (2), 29–42. (In Russ.).
- Myznikov, S.A. (2007). Atlas of substrate and borrowed vocabulary of Russian dialects of the North—West. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.). EDN: UBIQXV
- Gerd, A.S. (1995). Materials for the etymological dictionary of northern Russian dialects. In: Northern Russian dialects. Interuniversity collection, A.S. Gerd (Ed.) (Iss. 6, pp. 85–107). Saint Petersburg. (In Russ.). EDN: SXBRRW
- Gerd, A.S. (1999). Materials for the etymological dictionary of northern Russian dialects (D, E, Zh, Z). In: Northern Russian dialects. Interuniversity collection, A.S. Gerd (Ed.) (Iss. 7, pp. 117–140). Saint Petersburg. (In Russ.). EDN: UYACSP
- Myznikov, S.A. (2004). Vocabulary of Finno-Ugric origin in Russian dialects of the North-West: etymological and linguageographical analysis. Saint Petersburg. (In Russ.). EDN: RWJDZN
- Myznikov, S.A. (2019). Russian dialect etymological dictionary. Vocabulary of contact regions. Moscow; Saint Petersburg: Nestor-History. (In Russ.). EDN: CIIKNB
- Myznikov, S.A. (2009). Transformational changes in the form of a dialect word and some aspects of etymological research. In: Actual problems of Russian dialectology and research of the Old Believers. Abstracts of the International Conference, October 19–21, 2009 (pp. 158–161). Moscow. (In Russ.).
- Myznikov, S.A. (2011). Transformation of native and borrowed words in Russian dialects. In: Ryabinin readings 2011. Proceedings of the VI scientific conference on the study and actualization of the cultural heritage of the Russian North (pp. 495–498). Petrozavodsk. (In Russ.).
- Myznikov, S.A. (2012). Transformational changes in a dialect word in light of etymological research. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Studia etymologica Brunensia 15. Nakladatelstvi Lidove noviny (pp. 51–61). Praha. (In Russ.).
- Kálmán, B. (1961). Die Russischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest.
- Anikin, A.E. (2000). Etymological dictionary of Russian dialects of Siberia. Borrowings from the Uralic, Altaic and Paleo-Asiatic languages. Moscow; Novosibirsk. (In Russ.). EDN: RUOAKN
- Dictionary of foreign words (1949). I.V. Lepyokhin, F.N. Petrov (eds.). Moscow: State publishing house of foreign and national dictionaries. (In Russ.).
- Shcherba, L.V. (1974). On the concept of mixing languages. In: Language system and speech activity (pp. 60–74). Leningrad. (In Russ.).
- Myznikov, S.A. (2009). Calquing as a type of interlingual interaction. In: Dialectal Lexicon 2009 (pp. 183–192). Saint Petersburg: Nauka. (In Russ.). EDN: SWGXTL
- Matveyev, A.K. (1969). Toponymic Etymologies I. (Geographical Terms with Correspondences in the Baltic-Finnic and Sami Languages, Substrate Toponymy of the Russian North). SFU, 1, 299–304. (In Russ.).
- Mullonen, I.I. (1994). Essays on Vepsian Toponymy. Saint Petersburg. (In Russ.).
- Kuzmin, D.V. (2007). East Finnish types in the toponymy of White Sea Karelia. In: Finno-Ugric toponymy in the areal aspect: Proceedings of a scientific symposium (pp. 20–89). Petrozavodsk. (In Russ.).
- Mamontova, N.N., & Mullonen, I.I. (1991). Baltic-Finnish geographical vocabulary of Karelia. Petrozavodsk. (In Russ.). EDN: UOVCLV
- Pyulzyu, E.A. (2008). Metaphorical vocabulary in the structural-semantic aspect (based on materials from northern Russian dialects) [PhD thesis]. Petrozavodsk. (In Russ.). EDN: ZNMRVB
- Samarin, A.V. (2012). Metaphorical transfer of animal images in projection onto humans and inanimate objects in Russian and English. Modern Problems of Science and Education, 3, 397. (In Russ.). EDN: PAAIMJ
- Kalima, J. (1915). The Eastern Finnish Languages of Russia. Helsinki (In Germ.).
Supplementary files