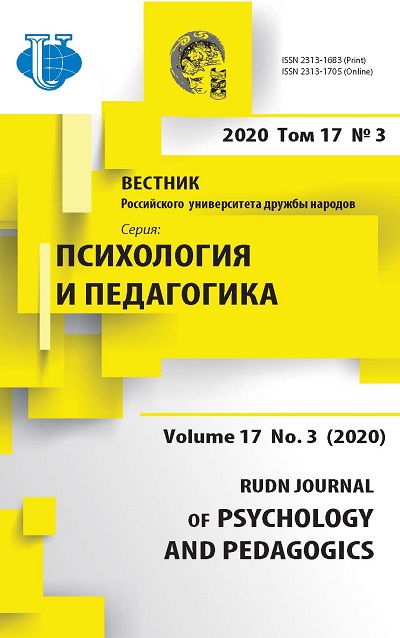Views on Cultural Diversity as well as Authoritarian and Ethnocentric Attitudes of Russians
- Authors: Grigoryev D.S.1
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- Issue: Vol 17, No 3 (2020)
- Pages: 473-490
- Section: SOCIAL PSYCHOLOGY IN CULTURAL DIMENSIONS
- URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/24715
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-3-473-490
- ID: 24715
Cite item
Full Text
Abstract
The article considers the relationship of different views on ethnocultural diversity (intergroup ideologies) and authoritarian and ethnocentric attitudes of Russians. This is an important issue because, having the status of a culturally dominant group, it is the ethnic Russians who largely determine the mutual character of intercultural relations in Russia. In this regard, an empirical study was carried out aimed at (1) testing the relationship of intergroup ideologies (assimilationism, colorblindness, multiculturalism, polyculturalism) with other attitudes relevant to intercultural relations (ethnocentrism, right-wing authoritarianism, social dominance orientation) and (2) testing their sociofunctional orientation. A cross-sectional one-sample correlation design using data from the socio-psychological survey was applied. According to the results of the study on a sample of 225 ethnic Russians, it was found that: (1) assimilationism was positively associated with intergroup ethnocentrism; (2) colorblindness was negatively associated with intragroup and intergroup ethnocentrism, authoritarian aggression, conventionalism as well as dominance and anti-egalitarianism; (3) multiculturalism was positively associated with intragroup ethnocentrism and conventionalism; and (4) polyculturalism was negatively associated with intergroup ethnocentrism. In addition, it was proposed to distinguish four dimensions of the considered attitudes for a general description of intercultural relations in Russia: (1) protective group motivation aimed at collective security and cohesion (intragroup ethnocentrism and right-wing authoritarianism); (2) social domination orientation (dominance and anti-egalitarianism); (3) cultural dominance orientation and superiority (intergroup ethnocentrism, assimilationism and rejection of colorblindness); and (4) acceptance of cultural diversity (multiculturalism and polyculturalism). The results were discussed in terms of the importance of taking into account the historical development of intercultural relations in Russia.
Full Text
Введение Институт экономики и мира ежегодно составляет рейтинг стран на основе Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index, GPI)[9], который, по их мнению, характеризует уровень безопасности проживания в странах и регионах и в котором Россия в 2019 г. заняла десятое место с конца (позади Северной Кореи, Судана и Пакистана). Данный индекс достаточно тесно связан и с экономической ситуацией в регионе, например, страны, которые улучшили показатели GPI в течение последнего десятилетия, имели в 7 раз более высокие темпы роста ВВП[10]. При этом GPI отражает степень региональной интеграции, уровень насилия и преступности, степень недоверия между гражданами, политическую неустойчивость и вероятность массовых демонстраций и волнений и т. п., что в целом можно обозначить как социальную дезинтеграцию. Социальная дезинтеграция в России может усиливаться негативным восприятием возрастающего социального неравенства, потерей доверия и низким уровнем социального капитала и сплоченности, этнической факторизацией из-за неадаптированных и дискриминируемых иммигрантов и этнических меньшинств в силу отсутствия общей позитивной идентичности, негативных образов, стереотипов и предубеждений друг к другу среди социальных и этнических групп. Прямыми последствиями социальной дезинтеграции являются угроза сепаратизма и межэтнических конфликтов, неэффективная работа социальных институтов, коррупция, эмиграция талантливых людей за рубеж, экономические потери и т. д., что также в свою очередь усиливает социальную дезинтеграцию, то есть имеет место так называемый реципрокный паттерн взаимодействия. Обратным и во многом параллельным процессом является социальная интеграция, характеризующаяся, например, общей гражданской идентичностью, устранением негативных образов групп и разрешением социальных и межкультурных конфликтов, что сопровождается улучшением качества жизни и экономическим ростом. Социальная интеграция и дезинтеграция проходят в различных сферах одновременно, при этом данные процессы похожи в том числе тем, что основаны во многом на одинаковом наборе психологических механизмов - так или иначе в них вовлечены люди, которые вынуждены координировать свои социальные отношения. Среди ученых из области социальных и поведенческих наук существует консенсус, что социальные отношения реализуются на базе когнитивно-мотивационных структур или схем, которые люди используют для организации и интерпретации социальной информации и координации взаимодействия с другими людьми, когда они ориентируются в социальном мире. Необходимо понимать психологические основы процессов, которые мы хотим регулировать, что потребует понимания того, какие социально-реляционные модели и когнитивно-мотивационные структуры наиболее благоприятствуют благосостоянию людей в конкретных социально-экономических условиях. И затем, исходя из этого понимания, на практике мы должны будем устанавливать те социальные отношения, которым мы стремимся способствовать. Подобное регулирование социальных отношений может быть ключом к решению проблем, связанных с межгрупповыми и межкультурными отношениями, что является большой и значимой частью процессов социальной интеграции и дезинтеграции, особенно в такой многонациональной стране, как Россия. Важным шагом на пути к интеграции российского полиэтнического пространства является формирование гражданской идентичности политической нации, интегрирующей культурно сложную и полиэтническую общность (Дробижева, 2019). Однако возникает вопрос, как население России видит культурное многообразие? Следует ли нам подчеркивать сходство и общие основания или, наоборот, признать, что существуют важные групповые различия? (Григорьев и др., 2018). Для решения проблем, связанных с культурным многообразием и формированием общей гражданской идентичности, внутри каждой страны могут создаваться некоторые формальные и неформальные правила, целенаправленная политика, а также нормы и традиции. В результате этого возникает множество убеждений и взглядов на культурное многообразие, которые могут оформиться в более-менее целостную по своему содержанию межгрупповую идеологию, предполагающую некоторые правила и нормы того, как члены доминирующих социальных групп должны относиться к другим группам в данном обществе. Таким образом, межгрупповые идеологии определяют способы организации межгрупповых отношений в культурно многообразных обществах (Rattan, Ambady, 2013). Взгляды на этнокультурное многообразие, которые сегодня обсуждаются чаще всего, включают: 1) ассимиляционизм (АС), отрицающий необходимость поддержания культурного многообразия, единство общества обеспечивается общей культурой (как правило доминирующей группы), которую мигранты и этнические меньшинства должны принять вместо своей собственной; 2) этнический дальтонизм (ЭД), который также отрицает важность поддержания культурных различий, культурные и этнические категории не должны использоваться - на них не нужно обращать внимание, поскольку общество составляют только отличающиеся личности, а не группы; 3) мультикультурализм (МК), основа которого в признании важности культурных различий и границ между группами, их подчеркивание и сохранение; 4) поликультурализм (ПК), который также признает ценность культурных различий, но утверждает, что они не могут создавать четкие границы между группами, так как все культуры - это продукт совместного исторического развития в тесном взаимодействии, поэтому подчеркивать нужно эту взаимозависимость, а не границы (Григорьев, 2017; Григорьев и др., 2018; Дубров, Григорьев, 2019; Guimond et al., 2014; Rattan, Ambady, 2013; Rosenthal, Levy, 2012). Описанные взгляды на этнокультурное многообразие отражены на рисунке. Другими, особо когнитивно-мотивационно нагруженными и во многом ключевыми для литературы по межгрупповым отношениям, идеологическими установками являются авторитаризм правого толка и ориентация на социальное доминирование. Авторитаризм правого толка выражает (или поддерживает) мотивационные цели (или ценности) коллективной (или внутригрупповой) безопасности и сплоченности, а ориентация на социальное доминирование выражает (или поддерживает) мотивационные цели (или ценности) группового доминирования и превосходства над другими (Duckitt, Sibley, 2010), которые прежде всего связаны с функциональной стратегией эксплуатации на основе асимметрии власти и поддержании статуса-кво (Grigoryev et al., 2020). Авторитаризм правого толка долгое время рассматривался как одномерный конструкт, включающий три аспекта: авторитарную агрессию, авторитарное подчинение и конвенционализм. Ориентация на социальное доминирование также долгое время использовалась как одномерный конструкт. Тем не менее были представлены некоторые свидетельства для трехстороннего подхода к авторитаризму правого толка (агрессия/авторитаризм, подчинение/консерватизм и конвенционализм/традиционализм (см., например, Dunwoody, Funke, 2016)) и выделения двух измерений для ориентации на социальное доминирование (доминирование и (анти)эгалитаризм (см. например, Ho et al., 2012)). Рисунок. Взгляды на этнокультурное многообразие (Григорьев и др., 2018) [Figure. Views on cultural diversity (Grigoryev et al., 2018)] Кроме того, между этими двумя идеологическими установками и одним из центральных понятий для межгрупповых отношений - этноцентризмом проводятся некоторые параллели и выделяются два вида предвзятости: «интрагрупповая этноцетрическая предвзятость» (предпочтение ингруппы как целого по сравнению с отдельными ее членами, то есть это во многом основной аспект авторитаризма правого толка) и «межгрупповая этноцентрическая предвзятость» (с акцентом на превосходство ингруппы над аутгруппой - основной аспект ориентации на социальное доминирование) (Duckitt, Sibley, 2010). Данные два вида предвзятости и составляют этноцентризм (Bizumic, Duckitt, 2012). Этноцентризм концептуально и эмпирически отличается от многих других связанных понятий, например, таких как национализм, коллективный нарциссизм, ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность, и определяется как сильное чувство эгоцентричности этнической группы, которое включает в себя: 1) внутригрупповое выражение, основанное на убеждениях, что сама по себе этническая группа важнее, чем люди ее составляющие (два компонента: необходимость сплоченности ингруппы и сильная преданность ингруппе); 2) межгрупповое выражение, основанное на убеждениях, что одна этническая группа важнее других групп (четыре компонента: предпочтение ингруппы перед аутгруппой, восприятие превосходства ингруппы над аутгруппой, стремление сохранить этническую чистоту ингруппы и преследование ингрупповых интересов без учета интересов аутгруппы - эксплуатация) (Bizumic, 2019). При некоторых обстоятельствах этноцентризм может привести к предубеждениям, враждебности и доминированию над другими группами и даже спровоцировать геноцид, открытый конфликт или войны (Батхина, 2017; Голынчик, 2020). И здесь уместно вспомнить о таких недавних крупных межэтнических конфликтах, как, например, массовые беспорядки в Кондопоге, на Манежной площади, в Западном Бирюлеве. Ежемесячный мониторинг Московского бюро по правам человека показывает, что в России довольно часто происходят проявления агрессивной ксенофобии. Таким образом, конфликтный потенциал в России достаточно высок (Батхина, Лебедева, 2019), и эти проблемы являются критически важными для России (Кузнецов, Хухлаев, 2013). Более того, хорошо известно, что отношение к аутгруппам не обязательно всегда является враждебным, оно может варьироваться от симпатии и безразличия до неприязни и ненависти, и этноцентризм не неизбежно ведет к негативному отношению к аутгруппам. Однако этноцентризм, прежде всего в таких своих компонентах, как превосходство и эксплуатация, может легко предрасполагать людей к негативному отношению к аутгруппам, особенно когда аутгруппы воспринимаются как угрожающие или конкурирующие и, в частности, когда аутгруппы воспринимаются как поддерживающие совершенно разные нормы, ценности и идеологию (Bizumic, 2019). Также отсутствие этноцентризма является важным компонентом межкультурной компетентности, который способствует успешной межкультурной коммуникации (Хухлаев и др., 2020). Следовательно, можно говорить о том, что межгрупповые идеологии, компоненты авторитаризма правого толка, ориентации на социальное доминирование и этноцетризм являются по большей части центральными понятиями для описания и интерпретации межкультурных отношений. Однако как они соотносятся между собой, особенно в таком во многом уникальном контексте, как российский? Цели и гипотезы эмпирического исследования В данном эмпирическом исследовании была изучена роль различных межгрупповых идеологий в поддержании авторитарных и этноцентрических установок русских, а именно - рассмотрены взаимосвязи между четырьмя межгрупповыми идеологиями (АС, ЭД, МК, ПК), двумя компонентами этноцентризма (внутригрупповой и межгрупповой), тремя компонентами авторитаризма правого толка (агрессия, подчинение, конвенционализм) и двумя компонентами ориентации на социальное доминирование (доминирование, антиэгалитаризм). В соответствии с предыдущими исследованиями (например, Bizumic, Duckitt, 2012; Duckitt, Sibley, 2010; Guimond et al., 2013; Rosenthal, Levy, 2012; Thomsen et al., 2008), в том числе и в России (Григорьев, 2017; Григорьев и др., 2018; Grigoryev et al., 2018), и логикой социофункционального подхода (см., например, Cottrell, Neuberg, 2005; Grigoryev et al., 2020) были выдвинуты следующие предположения: 1) поскольку идеология АС характеризуется направленностью на поддержание единства общества, уважение культуры большинства и может рассматриваться в качестве стратегии наказания для иммигрантов и этнических меньшинств, то можно предположить, что эта направленность соотносится с защитными и сплачивающими компонентами правого авторитаризма (агрессия и конвенционализм) и этноцентризма (внутригрупповой этноцентризм). Кроме того, АС предполагает особого рода асимметрию: если культура большинства должна быть общей для всех групп, то другие группы включаются в состав одной общей группы. Это устранение межгрупповых границ, по сути, означает, что теряется эксплуатационная направленность ориентации на социальное доминирование, поскольку по групповому признаку эксплуатировать можно только обособленные, «видимые» группы. Доминирование же как компонент ориентации на социальное доминирование предполагает поддержание статуса-кво - непроницаемые границы между группами и сохранение их социальных позиций, то есть отсутствие какой-либо социальной мобильности. Гипотеза 1 (Г1): АС положительно связан с внутригрупповым и межгрупповым этноцентризмом, авторитарной агрессией, конвенционализмом, антиэгалитаризмом и отрицательно - с доминированием; 2) ЭД тесно связан с индивидуализмом, поэтому должен снижать готовность к коллективной мобилизации, сплоченности по групповому признаку, иерархическим отношениям и предпочтениям на основе группового членства. Гипотеза 2 (Г2): ЭД отрицательно связан с внутригрупповым и межгрупповым этноцентризмом, авторитарной агрессией, конвенционализмом, а также доминированием и антиэгалитаризмом; 3) МК как подчеркивание межгрупповых различий может быть необходим для создание более четких границ между группами с целью реализации защитных мотивов авторитаризма правого толка, то есть чтобы было сразу понятно, кто «друг», а кто «враг». Для реализации эксплуатации по групповому признаку различия также должны быть заметны[11]. Гипотеза 3 (Г3): МК положительно связан с внутригрупповым этноцентризмом, авторитарной агрессией, конвенционализмом, а также доминированием и антиэгалитаризмом; 4) идеи ПК противоречат идеям культурного изоляционизма и культурной «чистоты». Кроме того, такой взгляд может снимать акцент с культурных различий, а значит, понижать уровень символической угрозы: поскольку все культуры - это продукт длительного взаимодействия, то контакт с другими культурами с отличающимися ценностями не должен нести какой-либо угрозы, так как он присутствовал на протяжении всей истории. Также, поскольку все культуры являются продуктом взаимодействия и связаны между собой, не может быть какой-либо иерархии на основании культурной принадлежности. Гипотеза 4 (Г4): ПК отрицательно связан с межгрупповым этноцентризмом, авторитарной агрессией, доминированием и положительно - с конвенционализмом. Процедура и методы исследования Участники. Общую гендерно сбалансированную выборку составили 225 русских: 41,8 % женщин и 58,2 % мужчин в возрасте от 16 до 82 лет (М = 31,2; SD = 12,7), из них 28,0 % - студенты, 40,0 % - православные, 57,8 % - имеют высшее образование. Процедура. Применялся кросс-секционный одновыборочный корреляционный дизайн с использованием данных социально-психологического опроса. Данные были собраны с помощью онлайн-анкетирования, проведенного независимой коммерческой исследовательской компанией посредством опроса их собственной панели респондентов за денежное вознаграждение. Инструменты. Все шкалы, ранее не переведенные на русский язык, были адаптированы (см. подробнее Григорьев и др., 2018; Batkhina, Grigoryev, 2019). Для всех пунктов использовалась 7-точечная шкала Ликерта, которая включала диапазон ответов от 1 (Абсолютно не согласен) до 7 (Абсолютно согласен). Ответы оценивались таким образом, что более высокие баллы указывают на более сильное одобрение концепции/утверждения. Коэффициенты внутренней согласованности для текущего исследования представлены в скобках. Независимые переменные. Межгрупповые идеологии. Межгрупповые идеологии оценивались пятью пунктами каждая (Григорьев и др., 2018). Примеры пунктов: «Между этническими группами не должно быть культурных различий, они должны выступать как единая группа, придерживающаяся культуры большинства населения» (АС, α = 0,78), «Все люди - индивидуальности, и поэтому раса и национальность не важны» (ЭД, α = 0,89), «Существуют различия между культурными и этническими группами, которые важно учитывать» (МК, α = 0,77) и «Существует множество взаимосвязей между различными культурными и этническими группами» (ПК, α = 0,83). Зависимые переменные. Этноцентризм. Двенадцать пунктов оценивали два компонента этноцентризма: внутригрупповой (домены: сплоченность и преданность) и межгрупповой (домены: предпочтение, превосходство, чистота, эксплуатация) (Bizumic, Duckitt, 2012). Примеры пунктов: «Мы должны направить все усилия на развитие единства, чувства общности и солидарности в нашей культуре» (внутригрупповой этноцентризм, α = 0,70), «В большинстве случаев мне больше нравятся люди из моей культуры, чем из других» (межгрупповой этноцентризм, α = 0,84). Авторитаризм правого толка. Восемнадцать пунктов оценивали три компонента авторитаризма правого толка: агрессию, подчинение, конвенционализм (Dunwoody, Funke, 2016). Примеры пунктов: «Необходимо жестокое силовое подавление групп, способных представлять угрозу для общества» (агрессия, α = 0,77), «Мы должны доверять тому, что говорят наши лидеры» (подчинение, α = 0,78), «Традиции - это фундамент здорового общества, их следует уважать» (конвенционализм, α = 0,87). Ориентация на социальное доминирование. Шестнадцать пунктов оценивали два компонента ориентации на социальное доминирование: доминирование и антиэгалитаризм (Ho et al., 2012). Примеры пунктов: «Было бы меньше проблем, если бы каждая социальная группа оставалась на своем месте в иерархии общества» (доминирование, α = 0,78), «Нам не следует пытаться гарантировать каждой группе одинаковое качество жизни» (антиэгалитаризм, α = 0,87). Анализ данных. Используя SPSS v.25, был проведен скрининг данных, включая проверку выбросов и пропущенных значений. Для оценки взаимосвязей между рассматриваемыми примеренными использовались парный корреляционный анализ, регрессионный анализ и эксплораторный факторный анализ методом оценки максимального правдоподобия с использованием косоугольного вращения Промакс с нормализацией Кайзера и параметром, каппа равным 4. Результаты Предварительный анализ. Данные не имели наблюдений с пропущенными значениями. Показатели расстояния Махаланобиса, расстояния Кука и значения левериджа не выявили выбросов в данных, которые необходимо было бы исключить из дальнейшего анализа. Все шкалы имели приемлемую внутреннюю согласованность, α Кронбаха находилась в диапазоне от 0,70 до 0,89; ее среднее значение составило 0,81, что говорит о достаточной надежности использованных шкал. Описательная статистика, включающая средние значения и их стандартные отклонения, а также результаты корреляционного анализа представлены в табл. 1. АС из всего набора рассмотренных переменных был значимо положительно связан только с двумя компонентами этноцентризма (Г1). ЭД был значимо отрицательно связан со всеми рассматриваемыми переменными, кроме ПК и авторитарного подчинения (Г2). Соответственно, МК значимо отрицательно связан с ЭД и положительно - с ПК, внутригрупповым этноцентризмом и конвенционализмом (Г3). ПК, помимо значимой положительной связи с МК, был значимо отрицательно связан только с межгрупповым этноцентризмом (Г4). Таблица 1 Описательная статистика и результаты корреляционного анализа (N = 225) [Table 1. Descriptive statistics and correlation matrix (N = 225)] Переменные M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Межгрупповые идеологии 1. Ассимиляционизм 4,36 (1,25) 2. Этнический дальтонизм 4,39 (1,60) -0,10 3. Мультикультурализм 5,37 (0,93) 0,07 -0,19*** 4. Поликультурализм 5,51 (0,86) 0,04 0,10 0,45*** Этноцентризм 5. Межгрупповой 3,34 (1,18) 0,31*** -0,54*** 0,08 -0,20*** 6. Внутригрупповой 3,93 (1,28) 0,17* -0,36*** 0,26*** 0,03 0,47*** Авторитаризм правого толка 7. Агрессия 3,11 (1,15) 0,12 -0,29*** 0,10 -0,06 0,22*** 0,49*** 8. Подчинение 2,38 (0,99) -0,04 0,01 -0,05 -0,12 0,02 0,39*** 0,56*** 9. Конвенционализм 4,50 (1,39) 0,06 -0,22*** 0,22*** 0,04 0,27** 0,70*** 0,47*** 0,45*** Ориентация на социальное доминирование 10. Доминирование 3,09 (1,12) 0,10 -0,41*** 0,13 -0,11 0,36*** 0,26*** 0,30*** 0,16* 0,13 11. Антиэгалитаризм 3,17 (1,35) 0,04 -0,40*** 0,11 -0,05 0,30*** 0,17** 0,31*** 0,14* 0,11 0,78*** Примечание. *** - p < 0,001; ** - p < 0,01; * - p < 0,05. Таблица 2 Результаты регрессионного анализа (N = 225) [Table 2. Results of the regression analysis predicting authoritarian and ethnocentric attitudes for intergroup ideologies (N = 225)] Переменные Этноцентризм Авторитарные установки Межгрупповой Внутригрупповой Авторитаризм правого толка Ориентация на социальное доминирование Агрессия Подчинение Конвенционализм Доминирование Антиэгалитаризм Предикторы Ассимиляционизм 0,26*** 0,12 0,09 -0,04 0,03 0,07 0,01 Этнический дальтонизм -0,48*** -0,30*** -0,26** 0,02 -0,18* -0,37*** -0,38*** Мультикультурализм 0,05 0,22** 0,07 0,01 0,20* 0,11 0,06 Поликультурализм -0,18** -0,05 -0,07 -0,12 -0,04 -0,13 -0,05 R2 0,38 0,18 0,10 0,02 0,08 0,19 0,16 Примечание. *** - p < 0,001; ** - p < 0,01; * - p < 0,05. Регрессионный анализ. Результаты оценки регрессионной модели, в которой одновременно четыре межгрупповые идеологии выступали в качестве предикторов авторитарных установок и этноцентризма, представлены в табл. 2. Показатель фактора инфляции дисперсии (VIF) предикторов варьировался от 1,013 до 1,346, составив в среднем 1,190, что свидетельствует об отсутствии проблем с мультиколлинеарностью в оцениваемой регрессионной модели. Связанная с предикторами дисперсия объясняемых переменных варьировалась от 8 до 38 %, среднее значение - 18 %. АС был значимым положительным предиктором только межгруппового этноцентризма (Г1), в то время как ЭД был значимым отрицательным предиктором всех объясняемых переменных, кроме авторитарного подчинения (Г2). При этом МК был значимым положительным предиктором только внутригруппового этноцентризма и конвенционализма (Г3), а ПК был значимым отрицательным предиктором только межгруппового этноцентризма (Г4). Авторитарное подчинение, как и ожидалось, вовсе не было связано с межгрупповыми идеологиями. Эксплораторный факторный анализ. Результаты эксплораторного факторного анализа представлены в табл. 3. Таблица 3 Результаты эксплораторного факторного анализа (N = 225) [Table 3. Results of the exploratory factor analysis for the considered variables (N = 225)] Переменные Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Межгрупповые идеологии 1. Ассимиляционизм -0,06 -0,05 0,36 0,01 2. Этнический дальтонизм 0,04 -0,24 -0,55 -0,01 3. Мультикультурализм 0,01 0,10 0,07 0,68 4. Поликультурализм -0,05 0,01 -0,23 0,72 Этноцентризм 5. Межгрупповой -0,06 0,04 0,86 -0,18 6. Внутригрупповой 0,62 -0,12 0,41 0,13 Авторитаризм правого толка 7. Агрессия 0,68 0,18 -0,06 -0,04 8. Подчинение 0,87 0,07 -0,35 -0,18 9. Конвенционализм 0,72 -0,13 0,14 0,13 Ориентация на социальное доминирование 10. Доминирование 0,04 0,80 0,10 0,01 11. Антиэгалитаризм 0,02 0,93 -0,03 0,06 % дисперсии 27,0 13,3 8,7 9,0 Общий % 27,0 40,3 49,0 58,0 Корреляции между факторами: Ф1 - Ф2 0,23 - Ф3 0,43 0,37 - Ф4 0,15 -0,03 0,21 - Результаты теста адекватности выборки Кайзера - Мейера - Олкина и сферичности Бартлетта (КМО = 0,7; χ2(55) = 894,3; p < 0,001) свидетельствуют о возможности выделения факторной структуры данных. Последующий анализ с собственными значениями факторов определил четыре фактора, связанные с 58 % общей дисперсии, вращение сошлось за пять итераций. В первый фактор, связанный с 27 % дисперсии переменных, вошел внутригрупповой этноцентризм и все компоненты авторитаризма правого толка; во второй фактор (13 % дисперсии переменных) - компоненты ориентации на социальное доминирование; в третий фактор (9 % дисперсии переменных) - межгрупповой этноцентризм, АС и ЭД с обратным знаком; в четвертый фактор (9 % дисперсии переменных) - МК и ПК. Первый и второй факторы сильнее всего коррелировали с третьим фактором. Обсуждение В данном исследовании была изучена роль различных межгрупповых идеологий в поддержании авторитарных и этноцентрических установок русских. Результаты подтвердили гипотезы в различной степени. За исключением Г2 (о взаимосвязях ЭД), которая была полностью доказана данными, остальные - получили лишь частичное обоснование. Во-первых, по-видимому, все взаимоотношения между рассматриваемыми переменными можно описать взаимосвязью четырех факторов: 1) защитной мотивацией, направленной на коллективную безопасность и сплоченность (внутригрупповой этноцентризм и авторитаризм правого толка); 2) ориентацией на социальное доминирование; 3) ориентацией на культурное доминирование и превосходство (межгрупповой этноцентризм, АС и отрицание ЭД); 4) принятие культурного многообразия (МК и ПК). Разделение на социальное и культурное доминирование нуждается в некотором пояснении. В постсоветской России все еще поддерживаются исторически сложившиеся этнические иерархии, но одобрение неравенства между этническими меньшинствами или мигрантами и доминирующей группой в России может основываться на предполагаемом превосходстве социального класса из-за разницы в уровне образования, дохода и социального происхождения (Ф2) или/и превосходства доминирующей культуры, которое составляет этноцентризм (Ф3) (Grigoryev et al., 2018). Статус и культурная дистанция (или в целом межгрупповая похожесть) являются ключевыми для России факторами в оценке этнических групп (Grigoryev et al., 2019). Здесь также интересно упомянуть США в аспекте так называемых расовых отношений.[12] Проблемы расовых отношений в США являются во многом продолжением именно социально-экономического расслоения, когда классовые границы почти полностью совпадают с расовыми, более того, они уже неразличимо смешаны с определенной социальной экологией (Williams et al., 2015). Во-вторых, особенности российского контекста могут помочь объяснить расхождение предложенного в гипотезах социофункционального характера установок и полученных результатов. Россия значительную часть своей истории являлась культурно плюралистическим обществом. При этом некоторые принципы политики мультикультурализма также исторически долгое время были частью национальной политики России, и, хотя зачастую эти принципы только декларировались на словах, тем не менее мультикультурная идеология, по сути, никогда не была чуждой для России (Григорьев, 2017; Лебедева и др., 2016). Поэтому межкультурные и межэтнические отношения на ее территории могут носить более сложный и многоуровневый характер, а значит, предложенные связи могут не иметь простой линейной зависимости, а медиироваться и/или модерироваться другими переменными. Кроме того, возможно, что сама по себе ориентация на культурное доминирование и превосходство в России не предполагает активных, мобилизационных стратегий, а скорее приводит к пассивной, когнитивно-аффективной реакции в форме межгрупповой предвзятости из-за отсутствия чувства безопасности, так как базовое чувство безопасности связано с принятием тех, кто отличается, в том числе и в России (Батхина, Лебедева, 2019; Лебедева и др., 2016). Это может быть также связано с особенностями межгрупповой дифференциации в форме сопоставления и противопоставления, а также в целом стратегий поддержания позитивной групповой идентичности в процессе межэтнического восприятия в России (Стефаненко, 2009). Наконец, как и предполагалось, у русских ЭД может способствовать не использованию этнических категорий для выведения суждений о представителях аутгрупп, а рассмотрению их в рамках идей, заложенных в концепции персонализации. Преимущества ЭД, особенно для культурно дистантных групп, в российском контексте по сравнению с оставшимися тремя межгрупповыми идеологиями также были продемонстрированы ранее (Григорьев и др., 2018). Связь МК, в форме важности признания межгрупповых различий, с внутригрупповым этноцентризмом (то есть ориентацией на сплоченность и преданность) и конвенционализмом (или традиционализмом) может указывать на некую традиционность и уже исторически сложившуюся важность утверждения «Россия - многонациональное государство» для русских. Это также соответствует данным опросов общественного мнения; как отмечает в своем анализе Л.М. Дробижева (2019), половина опрошенных поддерживает позицию «Россия - государство многонациональное, всех народов» в противовес другой половине, считающей, что у русских должны быть какие-то преимущества. Тема преимуществ напрямую связана с вопросом безопасности и защитных мотивов, так как утрата русскими доминирующего статуса может восприниматься ими как дискриминация. Для сравнения, опрос в США показывает, что белые американцы рассматривают расизм как игру с нулевой суммой, когда среди них восприятие меньшей межгрупповой предвзятости по отношению к черным американцам связано с ее увеличением по отношению к белым американцам, то есть проявлением так называемого обратного расизма (Norton, Sommers, 2011). Обе описанные ситуации могут относится к типичным последствиям асимметрии в групповом статусе, когда в обществе сосуществуют доминирующая и недоминирующие группы. Заключение Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Г1 была подтверждена частично, АС положительно связан только с межгрупповым этноцентризмом. Г2 доказана полностью, ЭД отрицательно связан с внутригрупповым и межгрупповым этноцентризмом, авторитарной агрессией, конвенционализмом, а также доминированием и антиэгалитаризмом. Г3 обоснована частично, МК положительно связан только с внутригрупповым этноцентризмом и конвенционализмом. Г4 также частично подтвердилась, ПК был отрицательно связан только с межгрупповым этноцентризмом. Многомерный анализ взаимосвязей между рассмотренными переменными позволяет выделить несколько аспектов межкультурных установок русских: 1) сохранение статуса-кво (то есть у русских должны сохраняться какие-либо преимущества) на основе превосходства в социоэкономическом статусе или доминирующего и привилегированного положения своей культуры; 2) обеспечение защиты от аутгрупповых угроз посредством поддержания сплоченности и лояльности, используя жесткие социальные нормы и наказание за их нарушение; 3) некоторое признание многонационального и поликультурного характера российского общества и важности поддержания этого аспекта. В теоретическом плане полученные результаты указывают на то, что при рассмотрении межкультурных отношений в России необходима дифференциация межгрупповых установок сразу по нескольким осям, которые выходят за границы простого вопроса об отношении к культурному многообразию. Существенными здесь являются вопросы о групповых позициях и безопасности (Лебедева и др., 2016; Berry, 2016). В практическом плане артикулированная межгрупповая идеология в России, как и любая другая идеология в ее функциональном (или мотивационном) аспекте (Jost et al., 2009), должна: 1) обеспечивать солидарность, в позитивном ключе проясняя вопрос о групповых позициях на базе как социоэкономического, так и культурного статуса; 2) гарантировать безопасность, элиминируя межгрупповые угрозы; 3) предлагать определенность, формируя позитивную гражданскую идентичность, возможно, на некоторых принципах ЭД, непротиворечивым образом интегрируя все остальные социальные идентичности.
About the authors
Dmitry Sergeevich Grigoryev
National Research University Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: dgrigoryev@hse.ru
PhD, is research fellow at Center for Sociocultural Research
20 Myasnitskaya St, Moscow, 101000, Russian FederationReferences
- Batkhina, A. (2017). Intercultural conflict styles: Literature review. Social Psychology and Society, 8(3), 45–62. https://doi.org/10.17759/sps.2017080305 (In Russ.)
- Batkhina, A., & Grigoryev, D. (2019). Authoritarianism in Modern Russia. Poster session presented at the Fifth Annual American Political Science Association Political Psychology Conference. Washington, DC: Georgetown University.
- Batkhina, A., & Lebedeva, N. (2019). Рredictors of behavioral strategy choice among Russians in intercultural conflict. Social Psychology and Society, 10(1), 70–91. https://doi.org/10.17759/sps.2019100105 (In Russ.)
- Berry, J.W. (2016). Diversity and equity. Cross Cultural & Strategic Management, 23(3), 413–430. https://doi.org/10.1108/ccsm-03-2016-0085
- Berry, J.W. (2019). Ecocultural psychology (D. Grigoryev, Transl. from Eng.). Cultural-Historical Psychology, 15(4), 4–16. http://doi.org/10.17759/chp.2019150401 (In Russ.)
- Bizumic, B. (2019). Ethnocentrism: Integrated Perspectives. Abingdon, UK: Routledge.
- Bizumic, B., & Duckitt, J. (2012). What is and is not ethnocentrism? A conceptual analysis and political implications. Political Psychology, 33(6), 887–909. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2012.00907.x
- Cottrell, C.A., & Neuberg, S.L. (2005). Different emotional reactions to different groups: A sociofunctional threat-based approach to “prejudice”. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 770–789. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.5.770
- Drobizheva, L. (2019). The policy of integrating a multi-ethnic Russian society into doctrinal documents, political discourse and mass consciousness. Obshchestvennye Nauki i Sovremennost, (4), 134–146. https://doi.org/10.31857/S086904990005821-5 (In Russ.)
- Dubrov, D., & Grigoryev, D. (2019). Current studies on intergroup ideologies: Assimilationism, colorblindness, multiculturalism, polyculturalism. Obshchestvennye Nauki i Sovremennost, (1), 143–155. https://doi.org/10.31857/S086904990002755-2 (In Russ.)
- Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2010). Personality, ideology, prejudice, and politics: A Dual-Process Motivational Model. Journal of Personality, 78(6), 1861–1894. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00672.x
- Duckitt, J., Bizumic, B., Krauss, S.W., & Heled E. (2010). A tripartite approach to right-wing authoritarianism: The Authoritarianism-Conservatism-Traditionalism Model. Political Psychology, 31(5), 685–715. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00781.x
- Dunwoody, P.T., & Funke, F. (2016). The Aggression-Submission-Conventionalism Scale: Testing a new three factor measure of authoritarianism. Journal of Social and Political Psychology, 4(2), 571–600. https://doi.org/10.5964/jspp.v4i2.168
- Golynchik, E. (2020). The ethos of intractable interethnic conflict: Research approaches and prospects. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 17(1), 29–50. http://doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-1-29-50 (In Russ.)
- Grigoryev, D. (2017). An analysis of the relationship of multicultural ideology by John W. Berry and various principles of interethnic categorization. Moscow University Psychology Bulletin, (4), 54–67. http://doi.org/10.11621/vsp.2017.04.54 (In Russ.)
- Grigoryev, D., Batkhina, A., & Dubrov, D. (2018). Assimilationism, multiculturalism, colorblindness, and polyculturalism in the Russian context. Cultural-Historical Psychology, 14(2), 53–65. https://doi.org/10.17759/chp.2018140206 (In Russ.)
- Grigoryev, D., Batkhina, A., Van de Vijver, F., & Berry, J.W. (2020). Towards an integration of models of discrimination of immigrants: From ultimate (functional) to proximate (sociofunctional) explanations. Journal of International Migration and Integration, 21(3), 667–691. https://doi.org/10.1007/s12134-019-00677-w
- Grigoryev, D., Fiske, S.T., & Batkhina, A. (2019). Mapping ethnic stereotypes and their antecedents in Russia: The Stereotype Content Model. Frontiers in Psychology, 10(1643), 1–21. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01643
- Grigoryev, D., Van de Vijver, F., & Batkhina, A. (2018). Discordance of acculturation attitudes of the host population and their dealing with immigrants. Journal of Intercultural Communication Research, 47(6), 491–509. https://doi.org/10.1080/17475759.2018.1497678
- Guimond, S., Crisp, R.J., De Oliveira, P., Kamiejski, R., Kteily, N., Kuepper, B., … & Zick, A. (2013). Diversity policy, social dominance, and intergroup relations: Predicting prejudice in changing social and political contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 104(6), 941–958. https://doi.org/10.1037/a0032069
- Guimond, S., De la Sablonnière, R., & Nugier, A. (2014). Living in a multicultural world: Intergroup ideologies and the societal context of intergroup relations. European Review of Social Psychology, 25(1), 142–188. https://doi.org/10.1080/10463283.2014.957578
- Ho, A.K., Sidanius, J., Pratto, F., Levin, S., Thomsen, L., Kteily, N., & Sheehy-Skeffington, J. (2012). Social dominance orientation: Revisiting the structure and function of a variable predicting social and political attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(5), 583–606. https://doi.org/10.1177/0146167211432765
- Jost, J.T., Federico, C.M., & Napier, J.L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. Annual Review of Psychology, 60(1), 307–337. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163600
- Khukhlaev, O., Gritsenko, V., Pavlova, O., Tkachenko, N., Usubian, S., & Shorokhova, V. (2020). Comprehensive Model of Intercultural Competence: Theoretical substantiation. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 17(1), 13–28. https://doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-1-13-28
- Kuznetsov, I.M., & Khukhlaev, O.E. (2013). Social psychological monitoring of interethnic conflicts: Methodology and practice. Social Psychology and Society, 4(1), 104–113. (In Russ.)
- Lebedeva, N., Tatarko, A., & Berry, J.W. (2016). Social and psychological basis of multiculturalism: Testing of intercultural interaction hypotheses in the Russian context. Psikhologicheskii Zhurnal, 37(2), 92–104. (In Russ.)
- Norton, M.I., & Sommers, S.R. (2011). Whites see racism as a zero-sum game that they are now losing. Perspectives on Psychological Science, 6(3), 215–218. https://doi.org/10.1177/1745691611406922
- Rattan, A., & Ambady, N. (2013). Diversity ideologies and intergroup relations: An examination of colourblindness and multiculturalism. European Journal of Social Psychology, 43(1), 12–21. https://doi.org/10.1002/ejsp.1892
- Rosenthal, L., & Levy, S.R. (2012). The relation between polyculturalism and intergroup attitudes among racially and ethnically diverse adults. Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology, 18(1), 1–16. https://doi.org/10.1037/a0026490
- Stefanenko, T.G. (2009). Ethnopsychology (4th Ed). Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russ.)
- Williams, K.E. G., Sng, O., & Neuberg, S.L. (2015). Ecology-driven stereotypes override race stereotypes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(2), 310–315. https://doi.org/10.1073/pnas.1519401113
Supplementary files