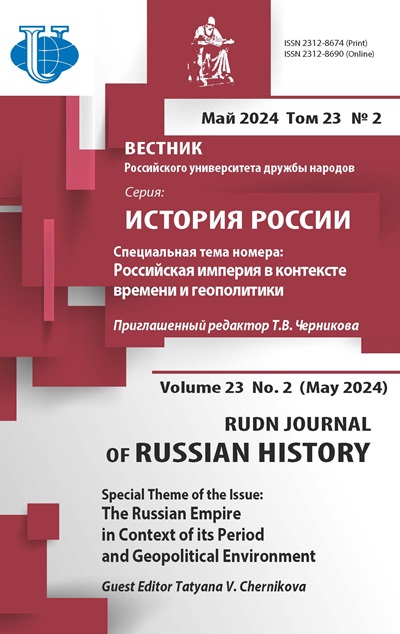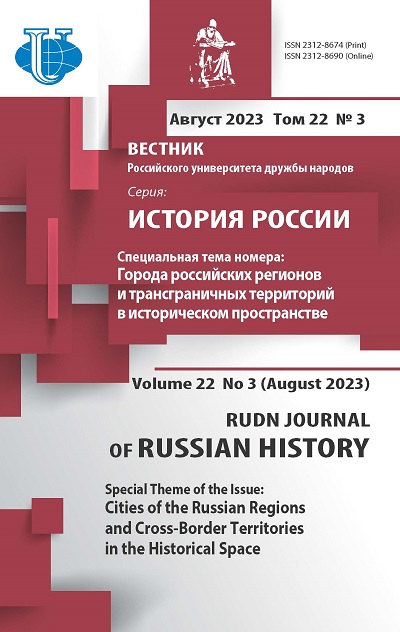Реорганизация дипломатических представительств Российской империи в Северо-Восточном Китае в начале XX века: по материалам АВПРИ
- Авторы: Старовойтова Е.О.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том 22, № 3 (2023): Города российских регионов и трансграничных территорий в историческом пространстве
- Страницы: 484-495
- Раздел: СТАТЬИ
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/36010
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2023-22-3-484-495
- EDN: https://elibrary.ru/VRFAGW
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрены ранее малоизученные аспекты деятельности российских дипломатических представительств в Китае конца XIX - начала XX в. с целью установить особенности повседневной жизни консульских учреждений Российской империи в Китае. Исследование строится на основе копий ответов служащих российских консульских учреждений в Маньчжурии на вопросы анкеты, составленной специальной Комиссией по реорганизации заграничной службы при МИД в 1907 г. Данные документы хранятся в Архиве внешней политики Российской империи МИД РФ и впервые вводятся в научный оборот. Выясняется, что помимо тяжелых условий жизни в непривычном климате чиновники МИД в Китае сталкивались с большим количеством бытовых сложностей, недостатком рабочих материалов и финансирования. Разногласия по поводу разграничения консульских округов, а соответственно, и полномочий дипломатов приводили к несогласованности деятельности российских консулов в Китае. Тем не менее, несмотря на трудности, российские дипломаты на местах при любых обстоятельствах оставались верны долгу своей службы и делали все возможное в интересах собственного государства, стремясь в то же время наладить дружественные и равноправные отношения с китайской стороной.
Полный текст
Введение
Деятельность отечественных дипломатов-китаеведов конца XIX – начала XX в. является примером межцивилизационного диалога, выявление различных аспектов которого позволяет понять и объяснить многие явления как в российско-китайских межгосударственных отношениях, так и в области внутреннего развития социумов обоих государств[1]. В этой связи освещение «белых пятен» в истории деятельности российских дипломатических представительств в Китае сегодня является крайне актуальным.
Существует достаточное количество научных трудов по истории российской дипломатии в Китае рубежа XIX–XX вв. Исследователи определили круг обязанностей российских консулов и их полномочий[2]. Общепризнанным является утверждение, что успехи России в регионе были во многом обусловлены деятельностью отечественных дипломатов, зачастую профессиональных китаеведов, которые в своей работе руководствовались, прежде всего, национальными интересами, в то же время стремясь поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с китайской стороной, а также сохранять баланс сил в отношениях с другими государствами[3].
В основном же исследования посвящены судьбам отдельных дипломатов, служивших в Китае в различные периоды. Среди них прежде всего работы Дж. Ленсена, А.Н. Хохлова, Н.А. Самойлова, Е.И. Нестеровой, А.М. Харитоновой[4]. Исследования В.Г. Шароновой посвящены деятельности российского императорского консульства в Нючжуане[5].
Настоящая статья посвящена рассмотрению ранее малоизученные аспектов деятельности российских дипломатических представительств в Китае конца XIX – начала XX в. с целью установить особенности повседневной жизни консульских учреждений Российской империи в Китае.
На рубеже XIX–XX вв. Дальний Восток стал местом столкновения геополитических интересов Российской империи, западных держав и активно модернизирующейся Японии. В 1896 г. Россия и империя Цин заключили в Москве секретный союзный договор, а также контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД, а в 1898 г. стороны подписали конвенцию об аренде Россией портов Порт-Артур и Дальний на Ляодунском полуострове[6]. Эти соглашения существенно расширили присутствие России в регионе, но в то же время насторожили ее соперников. После поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. с целью защиты интересов собственных подданных в регионе Российская империя открыла на Северо-Востоке Китая восемь консульских представительств – в городах: Айгунь, Гирин (Цзилинь), Куанчэнцзы (Чанчунь), Мукден (Шэньян), Нючжуан (Инкоу), Хайлар, Харбин и Цицикар.
После революции 1905–1907 гг. государственное устройство Российской империи подверглось определенному реформированию. С 1906 г. в стране постепенно начал формироваться новый центр принятия решений по вопросам внешней политики. Важную роль в этих процессах играл тогдашний министр иностранных дел Российской империи А.П. Извольский (1856–1919), который стремился изменить взаимоотношения царской власти и министерства, с тем чтобы последнее обладало большей автономией при принятии решений. С целью реформирования в 1907 г. при МИД была создана специальная Комиссия по реорганизации заграничной службы (далее – Комиссия) во главе с товарищем министра К.А. Губастовым (1845–1919). В состав Комиссии входили 23 постоянных члена, среди которых были представители Совета и директора департаментов МИД, советники, делопроизводители. На заседания также приглашались лица с докладами[7]. В 1910 г. начался очередной этап осуществления реформы, в рамках которого предусматривалась «комплексная модернизация аппарата Министерства: создание в нем единого политического отдела, бюро печати, правового отдела, информационной службы; внедрение системы обязательной ротации чиновников центрального аппарата, дипломатической и консульской служб; выравнивание условий прохождения службы и оплаты труда служащих в министерской и заграничной системах»[8]. Для достижения поставленных целей Комиссия проводила в том числе анкетирование сотрудников своих дипломатических представительств за рубежом, с тем чтобы детально ознакомиться с условиями их труда и быта, а также с предложениями и пожеланиями по совершенствованию несения службы. Так, 14 февраля 1910 г. во все посольства, миссии, генконсульства и консульства Российской империи стали направляться специальные вопросники, касающиеся различных аспектов организации заграничной службы МИД. В Архиве внешней политики Российской империи хранятся разрозненные копии ответов служащих российских консульских учреждений в Маньчжурии на вопросы данной анкеты. В предлагаемой статье через анализ ответов на запрос Комиссии со стороны императорского российского консула в Нючжуане (Инкоу) реконструируется история реорганизации российских дипломатических представительств в Северо-Восточном Китае.
История российского присутствия в Нючжуане
Порт Нючжуан, расположенный на р. Ляохэ, являлся одним из портов, открытых для иностранной торговли согласно Тяньцзиньским трактатам 1858 г., и скоро превратился в центр джоночной торговли в Маньчжурии. Благодаря двусторонним соглашениям с Китаем 1896 и 1898 гг. влияние России в данном регионе существенно возросло. В 1899 г. в Нючжуане было учреждено императорское российское консульство. С 1900 по 1904 гг. Инкоу находился под временным управлением российской администрации, когда российские консулы совмещали свою дипломатическую службу с деятельностью градоначальника. Как отметила В.Г. Шаронова,
временное русское управление в Инкоу имело большое значение для развития российско-китайских отношений <…> Благодаря умелым и своевременным действиям российских консулов, китайский город Инкоу превратился в один из самых чистых портов европейского типа[9].
В городе имелась телефонная связь, электричество, водопровод. После окончания русско-японской войны город временно находился под японской администрацией и был передан китайским властям 23 ноября 1906 г. Значение города для торговли в регионе только возрастало. По этой причине наряду с российским консульством после 1906 г. в Нючжуане функционировали дипломатические представительства Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, США, Франции. С 1906 г. пост консула Российской империи в Нючжуане занимал видный российский дипломат А.Т. Бельченко (1873–1958), прошедший классический карьерный путь тех лет от драгомана при консульстве до генерального консула в таких разных городах Китая, как Ханькоу, Нючжуан, Фучжоу, Кантон, и не понаслышке знакомый с особенностями китайской жизни. Как раз в начале 1910 г., когда Комиссия начала опросы дипломатических работников за рубежом, А.Т. Бельченко получил новое назначение на пост генерального консула в Фучжоу. Его преемником в Нючжуане стал другой известный российский дипломат-китаевед П.Г. Тидеман (1872–1941), до этого служивший в качестве вице-консула в Чифу, а позже занявший в пост генерального консула в Тяньцзине. Некоторое время, пока шла передача дел от Бельченко к Тидеману, обязанности управляющего консульством исполнял секретарь И.А. Бобровников (1878 – ?), до Нючжуана служивший на той же должности при консульстве в Турфане и генконсульстве в Кашгаре, а затем получивший пост вице-консула при генеральном консульстве в Мукдене. В освещаемых в данной статье материалах АВПРИ содержатся копии ответов на вопросы анкеты Комиссии МИД, датируемые 1910–1912 гг. К сожалению, не на всех копиях имеется подпись составителя документа, однако, судя по датам, отвечали на эти вопросы все три упомянутые выше российских дипломата, что придает им отдельную ценность.
Предложения служащих консульства в Нючжуане по совершенствованию работы дипломатических представительств Российской империи в Китае
Один из разделов вопросника Комиссии МИД был, в основном, посвящен бытовой стороне жизни консульских представительств Российской империи за рубежом. В анкете содержались вопросы о том, в какого типа здании помещается канцелярия консульства, сколько платится за наем помещения (требовалось также указать, сколько тратят на аналогичные нужды дипломатические представители других государств), как долго канцелярия размещается в данном помещении, достаточно ли в нем места для посетителей, насколько хорошо обеспечивается сохранность кассы, шифров и архива консульства и т. д. Из ответов консула в Нючжуане следует, что с 19 марта 1907 г. канцелярия императорского российского консульства находилась в одноэтажном казенном здании, расположенном в центре европейской части города. Участок, на котором помещалось консульство, занимал более десятины земли (более 1 га), на нем был расположено два строения – собственно здание консульства, где находились канцелярия и квартира консула, а также дом секретаря. На здании дипломатического представительства не было никаких надписей, но имелся государственный герб Российской империи последнего утвержденного на тот момент образца, над крышей ежедневно понимался консульский флаг. Подробного описания количества и назначения отдельных помещений на участке консул не дал, сославшись на то, что в Департаменте личного состава и хозяйственных дел МИД (далее – Департамент Л.С. и Х.Д.) хранится подробный план и фотографии консульства в Нючжуане. Канцелярия располагалась в лучших комнатах и использовалась в качестве приемного помещения, достаточно просторного для того, чтобы вмещать всех ожидающих, а также открывалась для гостей в случаях, когда при консульстве проходили официальные приемы. Обстановка канцелярии была довольно скромной и состояла из двух портретов императора Николая II и одного портрета императрицы, двух несгораемых шкафов, письменного стола, пишущей машинки «Ундервуд», карты Маньчжурии, плана здания консульства. Кассы и шифры хранились в специальном сейфе, архив помещался непосредственно в канцелярии в отдельном шкафу[10]. В целом, эта обстановка была вполне типичной для консульских учреждений Российской империи на Дальнем Востоке.
Помимо некоторых подробностей организации быта собственно консульства Российской империи документальные свидетельства помогают расширить представление о том, как жил город Нючжуан тех лет. Из ответов российских дипломатов мы узнаем, что лучшие квартиры в центральной части города состояли из 4-х – 7-ми комнат. Аренда такого помещения в год обходилась в 1 тыс. руб. (около 1 млн руб. сегодня[11]), на оплату освещения уходило 1 руб., 60 коп. в месяц на каждую лампочку, фунт керосина стоил 3 руб. 50 коп. Отопительный сезон в Нючжуане составлял шесть месяцев в году. Для этих целей в жилых домах горожане пользовались углем, стоимость которого составляла 25 руб. за каждые 100 кг. Дрова при необходимости обходились в 6 руб. 25 коп. за 100 кг. При жилых домах иностранцев обычно состояла прислуга, чаще всего состоявшая из лиц мужского пола – повара, кучера и лакея. В случае, если прислуга была из числа российских подданных, то месячная плата составляла 50, 40 и 40 руб. соответственно. Китайцы на тех же должностях получали 20, 20 и 18 руб. Для сравнения заработная плата лакея в Петербурге в аналогичный период варьировалась в диапазоне от 10 до 18 руб., горничная получала 8‒10 руб., повар – порядка 25 руб.[12] Некоторые дома также нанимали прислугу мужского пола без специальности и нянек-амма из числа подданных Цинской империи, платя им по 16 и 20 руб. ежемесячно. Домовой прислуги при консульстве в Нючжуане не имелось, а дворовая состояла из китайцев – садовника, двух ночных сторожей и одного дворника, содержание которых обходилось порядка 470 руб. в год. Кроме того, всей прислуге выплачивалась ежегодная премия по случаю Китайского нового года, на что уходило еще около 30 руб. Сотрудники консульства сетовали на недостаток прислуги, предлагая увеличить ее состав хотя бы еще одним домашним служителем (старшим боем) и одним привратником[13]. Что касается стоимости основных продуктов питания, то фунт мяса первого сорта стоил 17‒20 коп., десяток яиц – 17 коп., фунт пшеничного хлеба первого сорта обходился в 4‒5 коп., фунт сахара – 13 коп., фунт чая – 2 руб., а кофе – 80 коп.[14]
Из представленного выше краткого обзора видно, что расходы консульских учреждений в Северо-Восточном Китае в начале XX в. были довольно существенными, но меньше, чем, например, в домах иностранных предпринимателей. Тем не менее общим местом в отзывах дипломатических представителей Российской империи в Китае были постоянные жалобы на недостаток финансирования из Петербурга. Указывалось, что вопрос о снабжении российских заграничных учреждений важен не только с точки зрения потребностей службы, но и соответствия последних своему статусу. Так, один из начальников консульства в Нючжуане отмечал:
Среди наших консульских учреждений вообще, в том числе и на Дальнем Востоке, едва ли найдется много таких, канцелярии коих по своему инвентарю, могли бы быть признаны действительно соответствующими достоинству учреждения, представляющего Великую державу[15].
В ответ на очередное циркулярное предписание со стороны Департамент Л.С. и Х.Д. от 3 января 1911 г. по поводу требований к снабжению консульства, в мае того же года из Нючжуана было отправлено сообщение, по всей видимости, составленное И.А. Бобровниковым, согласно которому дипломатическое представительство не имело в наличии необходимых для работы справочных материалов. В документе сказано, что к весне 1911 г. в распоряжении консульства имелась лишь одна небольшая английская карта Центральной Маньчжурии и высказывалось пожелание к приобретению большего числа необходимых для работы справочных материалов и карт, таких как ежегодный справочник по Дальнему Востоку «Directory and chronicle for China, Japan, Corea, etc.»[16], «Современная политическая организация Китая»[17] Бруннерта и Гагельстрома, адресные и справочные книги «Вся Россия» и «Весь Петербург», карта Российской империи, карта Китая и Дальнего Востока, карта мира. Кроме того, консулам в Китае для своевременного получения информации о происходящих в стране и мире событиях приходилось внимательно следить за прессой разных государств, освещавшей события в регионе. В список «пожеланий» консульства в Нючжуане вошли такие газеты как «Der Ostasiatische Lloyd»[18], «The North China Herald»[19], «The Japan Weekly Mail»[20], «The Manchuria Daily News»[21], а также пять ‒ шесть местных китайских газет. Зачастую агенты МИД в Китае были вынуждены оплачивать подписку на издания из собственных средств, что обходилось в сумму свыше 70 руб. ежегодно[22]. Помимо справочных изданий, прислуги и прессы консулы указывали на недостаток предметов обстановки в помещениях дипломатического представительства, а именно мебели, систем хранения, осветительных приборов, ковров и пр.:
Обстановка самой канцелярии для учреждения, представляющего Великую державу, – убогая, а для надобностей службы – недостаточная[23].
В документе представлена скрупулезно составленная тогдашним начальником консульства смета всех необходимых к приобретению предметов с указанием цены для каждого на общую сумму 673 руб., 04 коп[24]. Управляющий консульством в Нючжуане также просил у Комиссии МИД содействия в вопросе оснащения помещений российского диппредставительства электрическим освещением, которое имелось во всех иностранных дипломатических агентствах города, указывая на то, что проводить его за собственный счет слишком затратно. Примечательно, что ходатайство в адрес Департамента Л.С. и Х.Д. об отпуске средств на устройство при консульстве электрического освещения возбуждалось прежним консулом, А.Т. Бельченко, еще в 1908 г., на что последний просил выделить из казны чуть больше 1 тыс. йен (ок. 1 тыс. руб.), но тогда оно не было удовлетворено[25].
Помимо сугубо бытовых вопросов анкетирование МИД касалось, конечно, и особенностей организации работы заграничных представительств империи на местах. Дипломатические агенты России в Китае, будучи зачастую профессиональными востоковедами, имеющими опыт длительного пребывания в различных регионах Цинской империи, в своих ответах высказывались о недостатках организации консульской службы как на Северо-Востоке, так и в Китае в целом. Так, в одном из документов ответчик предложил идею созыва консульских съездов: для Западного Китая – в Кульдже, как центрально расположенном городе, в Урге – для Монголии, в Харбине – для Маньчжурии. По мнению дипломатов, такие съезды имели бы существенное значение для реорганизации консульского судопроизводства на Востоке. Замечаниям подверглись и взаимоотношения дипломатических работников в регионе с российскими военнослужащими. Отмечалось, что при консульстве в Нючжуане, в частности, не имелось отдельного консульского конвоя, а к охране были привлечены два солдата пограничной стражи из состава конвоя при генеральном консульстве Российской империи в Мукдене. При этом консул жаловался на то, что в инструкции, которой руководствуются военные при диппредставительствах, не была указана основная, на его взгляд, функция подобных конвоев – полицейская, а также на то, что военные охранники не внемлют распоряжениям консулов-штатских. Дипломат предлагал заменить конвои от воинских частей, типичные для восточных регионов, наемной стражей или лицами, несущими сверхсрочную службу в составе особого корпуса при МИД. Кроме того, он предполагал, что несущие на Востоке службу стражники обязательно должны были быть женаты, а члены их семей должны были бы находиться при них во время командировок, с тем чтобы создавать в Китае особый «контингент лиц русской национальности», особенно в регионах, где большая часть населения исповедует ислам, как, например, в Китайском Туркестане. Автор подчеркивал, что данный вопрос имел «государственное значение»[26].
Среди иных замечаний, касающихся несоответствия российских консульств в Китае статусу дипломатических представительств «Великой державы», были высказаны претензии к форме консулов. По мнению управляющего консульством в Нючжуане, парадная форма отечественных дипломатов существенно проигрывает в нарядности форме «конкурентов», в частности японцев. Уничтожение наплечных знаков для всех гражданских чинов являлось, на его взгляд, оправданным решением для чиновников внутри Российской империи, но не подходило для заграничной службы – ведь дипломатические работники обладали правом на воинские почести, такие как прием парада, а кроме того офицеры, служащие в конвоях при консульствах, должны были находиться в подчинении у начальников этих учреждений. Помимо этого, парадная форма российских консулов в Китае не соответствовала требованиям к форме для жарких стран: ей следовало быть белой или красной, а треугольную шляпу стоило заменить пробковым шлемом. Автор подчеркивал, что
вопрос о форменной одежде, несмотря на кажущуюся маловажность для С. Петербурга и стран культурных, имеет огромное значение для стран Восточных[27].
Предположительно, эту часть опросника заполнял И.А. Бобровников, так как он был единственный из трех перечисленных выше управляющих консульством в Нючжуане, кто имел опыт работы при консульских учреждениях Российской империи в Западном Китае, пример которого он часто приводил в своих ответах.
Ответы другого опытного дипломата-китаеведа П.Г. Тидемана, датируемые 1912-м г., в большей степени посвящены тем улучшениям, которые можно было бы внести в организацию консульской службы в Китае в целом. В одном из своих донесений в адрес императорской Миссии в Пекине автор указывает на недостаток «постоянных и правильных» сношений между консульскими учреждениями Российской империи, независимо от расстояний, их разделяющих. Тидеман предлагал организовывать регулярные съезды служащих в Китае консулов для обмена информацией и мнениями по текущим вопросам, что в том числе способствовало бы передаче знаний от более опытных чиновников МИД новичкам, а также повышению общего уровня консульской службы. На его взгляд, отсутствие систематического общения между дипломатическими агентами России в Цинской империи приводило к недостатку осведомленности консулов о событиях, происходящих в районах, входящих в сферу их непосредственного интереса. Управляющие консульствами часто были вынуждены черпать сведения из прессы, которая подавала новости под определенным углом, выгодным, прежде всего, конкретному издателю, что вело к искажениям. По мнению Тидемана, в интересах страны все консульства должны были быть осведомлены обо всем, что происходило в Китае и могло представлять интерес для России. Подобная инициатива была бы крайне полезна еще и потому, что чиновники МИД, служащие в Китае, часто перемещались по своим обязанностям между различными регионами страны. Тидеман полагал, что взаимные обмены информацией, в частности содержанием донесений в адрес посланника, должны были быть организованы сверху, с тем чтобы не обременять и без того перегруженные бумажной волокитой канцелярии консульских учреждений, а также чтобы процесс этот контролировался единым учреждением, располагающим всеми необходимыми сведениями и достаточно компетентным в выборе материалов для всеобщего ознакомления, подразумевая, конечно же, Миссию в Пекине. При Миссии, на его взгляд, следовало бы готовить сводные «обозрения» из поступающих со всей страны консульских донесений, а также комментарии к ним и руководящие указания для конкретных консулов. Дипломат сетовал, что консульские работники на местах зачастую были плохо осведомлены о состоянии политических отношений Российской империи с Китаем в конкретный момент и получают руководящие направления по политическим вопросам крайне редко, чаще всего в чрезвычайных ситуациях. Он также высказывалтся о необходимости расширения кругозора у некоторых агентов МИД и «развития в них сознательного и правильного понимания своей роли в общей системе консульского представительства»[28]. Очевидно, отношения между консулами Российской империи не всегда были абсолютно гладкими, и между ними могли возникать противоречия по тем или иным конкретным вопросам, связанным прежде всего с индивидуальным видением ситуации на местах и пониманием собственного служебного долга. О проблемах в организации сообщения между главами различных консульских округов в Маньчжурии дипломаты, работавшие в Китае, упоминали и до предложений Тидемана. Так, тогдашний посланник в Пекине И.Я. Коростовец (1862–1933) в обращении от июля 1907 г. к секретарю генерального консульства в Мукдене В.К. Никитину сообщал, что
по имеющимся в миссии сведениям, в виду существующей неопределенности границ наших консульских округов в Маньчжурии, при направлении дел, возникает на практике не мало неудобств, как при сношениях наших консульских представителей в названном крае между собой, так и с местной китайской администрацией[29] .
Отчасти неразбериха была вызвана административной реформой в Маньчжурии, проводимой местной администрацией в эти годы, в результате которой из ведения даотая Инкоу были изъяты ряд округов и уездов, вошедших в непосредственное подчинение Мукденского генерал-губернатора. Эта реформа потребовала соответствующего изменения границ смежных округов генерального консульства в Мукдене и консульства в Нючжуане, что было одобрено Первым департаментом и утверждено МИД Российской империи в 1909 г.[30] Однако противоречия, связанные с недостатком общения между дипломатическими работниками в Маньчжурии, в том числе по вопросу разграничения консульских округов, не были исчерпаны, о чем лишний раз свидетельствует тот факт, что в мае 1913 г. Департамент Л.С. и Х.Д. вновь направил в адрес императорских генеральных консульств, консульств и вице-консульств циркуляр, в котором просил в самом непродолжительном времени доставить
подробное описание округа каждого консульского установления, с обозначением границ округа и составляющих его отдельных административных единиц, а равно с точным перечислением всех входящих в консульский округ нештатных консульских постов[31].
Вопрос о пересмотре границ консульских округов был по-прежнему актуален и в 1915 г. Тогда консул Российской империи в Куанчэнцзы дипломат М.И. Лавров, имевший опыт работы в генеральных консульствах в Харбине и Мукдене, высказывал свои личные соображения на этот счет. Он, в частности, предлагал расширить границы территорий, входящих в ведение генерального консульства в Мукдене с тем, чтобы генеральное консульство в Харбине занималось лишь общими вопросами лиц, имеющих деловые отношения в данном районе (выдача охранных листов и пр.), а также ведением дел политического характера, связанных с деятельностью КВЖД. Он также указывал на то, что из-под полномочий консульства в Гирине следует вывести те округа, которые из-за особенностей своего географического положения близ КВЖД и рек Сунгари и Уссури должны были бы войти в сферу компетенции генерального консульства в Харбине[32].
Выводы
Анализ документов внешнеполитического ведомства Российской империи, посвященных вопросам реорганизации консульской службы на северо-востоке Китая в начале XX столетия, позволяет заключить, что организация работы представительств страны за рубежом была далека от совершенства. Помимо тяжелых условий жизни в непривычном климате в стране с абсолютно иной культурой чиновники МИД в Китае сталкивались с большим количеством бытовых сложностей, таких как недостаточная просторность помещений, занимаемых консульствами, отсутствие электричества, плохая оснащенность мебелью. Кроме того, консулы часто указывали на нехватку при вверенных им учреждениях справочников (карт, словарей, адресных книг), необходимых для работы, а также прессы, позволявшей своевременно узнавать о происходивших в Китае и мире событиях. Все эти проблемы были вызваны прежде всего недостатком финансирования из Петербурга, о чем дипломаты часто упоминали донесениях.
Помимо сугубо бытовых вопросов несовершенство организации консульской службы проявлялось и в недостаточной согласованности деятельности российских консулов в Китае. В частности, это выражалось в разногласиях по поводу разграничения консульских округов, а соответственно и полномочий дипломатов, на что часто указывали современники. Подобная несогласованность могла быть вызвана разными причинами: от межличностных конфликтов до отсталости системы связи в Китае тех лет. Кроме того, как отмечают сегодня многие специалисты, для российской политики в отношении Китая на рубеже XIX–XX вв. была характерна разобщенность между представителями различных ведомств, в результате чего столичные чиновники редко глубоко вникали в суть дальневосточных проблем. Сложности возникали также в периоды реформирования административного устройства китайских земель, что было частым явлением в начале XX в.
Административные преобразования в Китае продолжились и после поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг. Начавшаяся вскоре Синьхайская революция и последовавшая за ней Первая мировая война вряд ли могли способствовать окончательному решению вопроса о четком разграничении консульских округов, как и о совершенствовании работы дипломатических представительств Российской империи в Китае в целом. Революционные события 1917 г. в России не могли не отразиться на положении российских дипломатических работников за рубежом. И хотя большинство из них продолжили выполнять свои функции по защите российских интересов в регионе, положение их постепенно ухудшалось.
Тем не менее можно с уверенностью резюмировать, что несмотря на трудности, с которыми сталкивались служившие в Китае российские дипломаты на местах, они при любых обстоятельствах оставались верны долгу своей службы и делали все возможное в интересах собственного государства, стремясь в то же время наладить дружественные и равноправные отношения с китайской стороной.
1 Самойлов Н.А. Изучение истории социокультурного взаимодействия России и Китая: традиционные подходы и новые парадигмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2006. № 4. С. 121.
2 См.: Сизова А.А. Политическое измерение деятельности консульской службы России в Застенном Китае во второй половине XIX – начале XX вв. // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 1 (13). С. 103–107.
3 См.: Наземцева Е.Н. «Закат» имперской и «восход» советской дипломатии в провинции Синьцзян: консульства бывшей Российской империи и «советские консулы» в 1917–1920 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 5. C. 143–158. https://doi.org/10.31857/S013128120021109-0.
4 Lensen G.A. Russian diplomatic and consular officials in East Asia: A handbook of the representatives of tsarist Russia and the provisional government in China, Japan and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet representatives in Japan from 1925 to 1968; complied on the basis of Russian, Japanese, and Chinese sources with a historical introduction. Tokyo, 1968; Хохлов А.Н. 1) Российский дипломат И.Я. Коростовец и его роль в подготовке цицикарского протокола 1911 г. // Общество и государство в Китае. 2012. Т. 42. № 2. С. 259–275; 2) Дмитрий Дмитриевич Покотилов // Вопросы истории. 2011. № 5. С. 36–54; 3) Китаист Д.Д. Покотилов в начале дипломатической карьеры // Общество и государство в Китае. 2011. Т. 41. № 1. С. 155–168 и др.; Самойлов Н.А. 1) Реформы в цинском Китае начала XX в. глазами российских дипломатических представителей (по документам из фондов РГИА) // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 6. С. 175–188; 2) Иван Яковлевич Коростовец – российский дипломат и знаток Китая // Новейшая история России. 2022. Т. 12. № 3. С. 596–609 и др.; Нестерова Е.И. Российский генеральный консул в Тяньцзине Петр Генрихович Тидеман: жизнь в Китае до и после эмиграции // Восточные ветви российской диаспоры. Т. 5. Из прошлого в настоящее. М., 2022. С. 424–441; Харитонова А.М. 1) Дипломат П.К. Рудановский (1871–1904): биографические сведения и китайские книги из его коллекции // Россия – Китай: история и культура. Сборник статей и докладов участников XV Международной научно-практической конференции. Казань, 2022. С. 355–360; 2) Ситуация в Маньчжурии 1902–1904 гг. По донесениям дипломата Г.А. Плансона (1859 – ?) // Современные востоковедческие исследования. 2022. Т. 4. № 4. С. 36–47 и др.
5 Шаронова В.Г. 1) Социокультурная деятельность Российского Императорского консульства в Инкоу (Китай) в период временного русского управления (1900–1904 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. Вып. 3. С. 396–414; 2) Роль Российского Императорского консульства в Нючжуане (Инкоу) в расширении торгово-экономических отношений между Россией и Китаем с 1906 по 1909 г. // Проблемы Дальнего Востока. 2023. № 1. C. 135–150.
6 Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные документы. Составители П.Е. Скачков и В.С. Мясников. М., 1958. С. 73–78.
7 См.: Министерство иностранных дел России в 1856–1917 гг. – Летопись дипломатической службы // Историко-документальный департамент МИД России. URL: https://idd.mid.ru/letopis-diplomaticeskoj-sluzby/-/asset_publisher/5H3VC9AbCsvL/content/ministerstvo-inostrannyh-del-rossii-v-1856-1917-gg-?inheritRedirect=false (дата обращения: 28.11.2022).
8 Зонова Т.В. Основные этапы становления российской дипломатической службы // Дипломатическая служба: научно-практический журнал. 2011. №1 (18). С. 111.
9 Шаронова В.Г. Социокультурная деятельность… С. 410–411. https://doi.org/10.21638/spbu13.2022.302
10 Архив внешней политики Российской империи (далее – АВП РИ). Ф. 267. Оп. 558. Д. 2. Л. 77–78 об.
11 Цены 1913 года в современных рублях // Красное место. URL: https://www.krasplace.ru/ceny-1913-goda-v-sovremennyx-rublyax (дата обращения: 05.12.2022).
12 Веременко В.А., Жукова А.Е., Самарина Л.А. Прислуга в Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. СПб., 2021. C. 70–93.
13 АВП РИ. Ф. 267. Оп. 558. Д. 2. Л. 169–170.
14 Там же. Л. 164–165.
15 Там же. Л. 175.
16 Издавалась на английском языке в Гонконге британским издательством «Daily Press».
17 Монография была издана 1910 г. при Российской духовной миссии в Пекине.
18 Немецкая газета, издаваемая в Шанхае ежедневно с 1889 г. Также известна как «德文新报 (Дэвэнь синьбао)». С 1917 г. издавалась еженедельно. В 1936 г. была реорганизована и переименована.
19 Английская газета, издаваемая в Шанхае еженедельно с 1850 по 1941 г. В 1951 г. переименована в «North China Daily News».
20 Английская газета, издаваемая в Йокогаме еженедельно с 1870 г. С 1918 г. стала частью «The Japan Times», по сей день крупнейшей англоязычной газетой Японии с штаб-квартирой в Токио.
21 Японская газета на английском языке, издававшаяся в Дальнем (Дайрэн или Далянь) в 1908–1940 гг.
22 АВП РИ. Ф. 267. Оп. 558. Д. 2. Л. 167–167 об.
23 Там же. Л. 178.
24 Там же. Л. 178 об.
25 Там же. Л. 175 об.
26 АВП РИ. Ф. 267. Оп. 558. Д. 2. Л. 149.
27 Там же. Л. 150.
28 АВП РИ. Ф. 267. Оп. 558. Д. 2. Л. 181–183.
29 Там же. Д. 35. Л. 5.
30 Там же. Л. 15–15 об.
31 АВП РИ. Ф. 267. Оп. 558. Д. 35. Л. 20.
32 Там же. Л. 28–28 об.
Об авторах
Елена Олеговна Старовойтова
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: e.starovoytova@spbu.ru
ORCID iD: 0000-0001-8283-2238
канд. истор. наук, ассистент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки
199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11Список литературы
- Веременко В.А., Жукова А.Е., Самарина Л.А. Прислуга в Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. СПб.: Медиапапир, 2021. C. 70–93.
- Зонова Т.В. Основные этапы становления российской дипломатической службы // Дипломатическая служба. 2011. № 1 (18). С. 103–113.
- Наземцева Е.Н. «Закат» имперской и «восход» советской дипломатии в провинции Синьцзян: консульства бывшей Российской империи и «советские консулы» в 1917–1920 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 5. C. 143–158. https://doi.org/10.31857/S013128120021109-0
- Самойлов Н.А. Изучение истории социокультурного взаимодействия России и Китая: традиционные подходы и новые парадигмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2006. № 4. С. 114–121.
- Сизова А.А. Политическое измерение деятельности консульской службы России в Застенном Китае во второй половине XIX – начале XX вв. // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 1 (13). С. 103–107.
- Скачков П.Е., Мяников В.С. Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные документы. М.: Изд-во восточной лит-ры, 1958. 139 c.
- Ходяков М.В. Желтороссия конца XIX ‒ начала XX века в геополитических планах русской военной элиты // Новейшая история России. 2018. Т. 8. № 4. С. 880–897. https://doi. org/10.21638/11701/spbu24.2018.406.
- Шаронова В.Г. Роль российского императорского консульства в Нючжуане (Инкоу) в расширении торгово-экономических отношений между Россией и Китаем с 1906 по 1909 г. // Проблемы Дальнего Востока. 2023. № 1. С. 135–150. https://doi.org/10.31857/S013128120024371-9
- Шаронова В.Г. Социокультурная деятельность Российского Императорского консульства в Инкоу (Китай) в период временного русского управления (1900–1904 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. Вып. 3. С. 410–411. https://doi.org/10.21638/spbu13.2022.302
- Lensen G.A. Russian diplomatic and consular officials in East Asia: a handbook of the representatives of tsarist Russia and the provisional government in China, Japan and Korea from 1858 to 1924 and of Soviet representatives in Japan from 1925 to 1968, complied on the basis of Russian, Japanese, and Chinese sources with a historical introduction. Tokyo: Peter Brogen, The Voyagers’ Press, 1968.