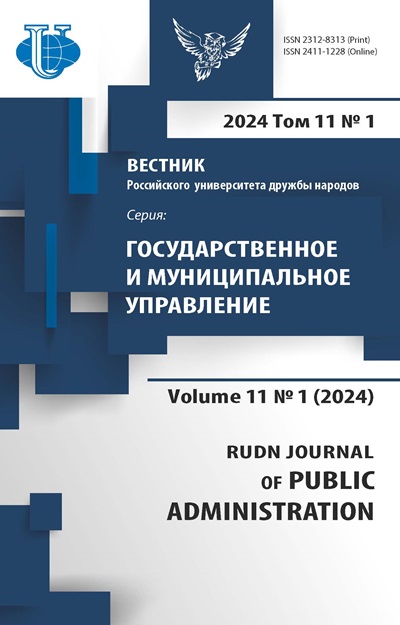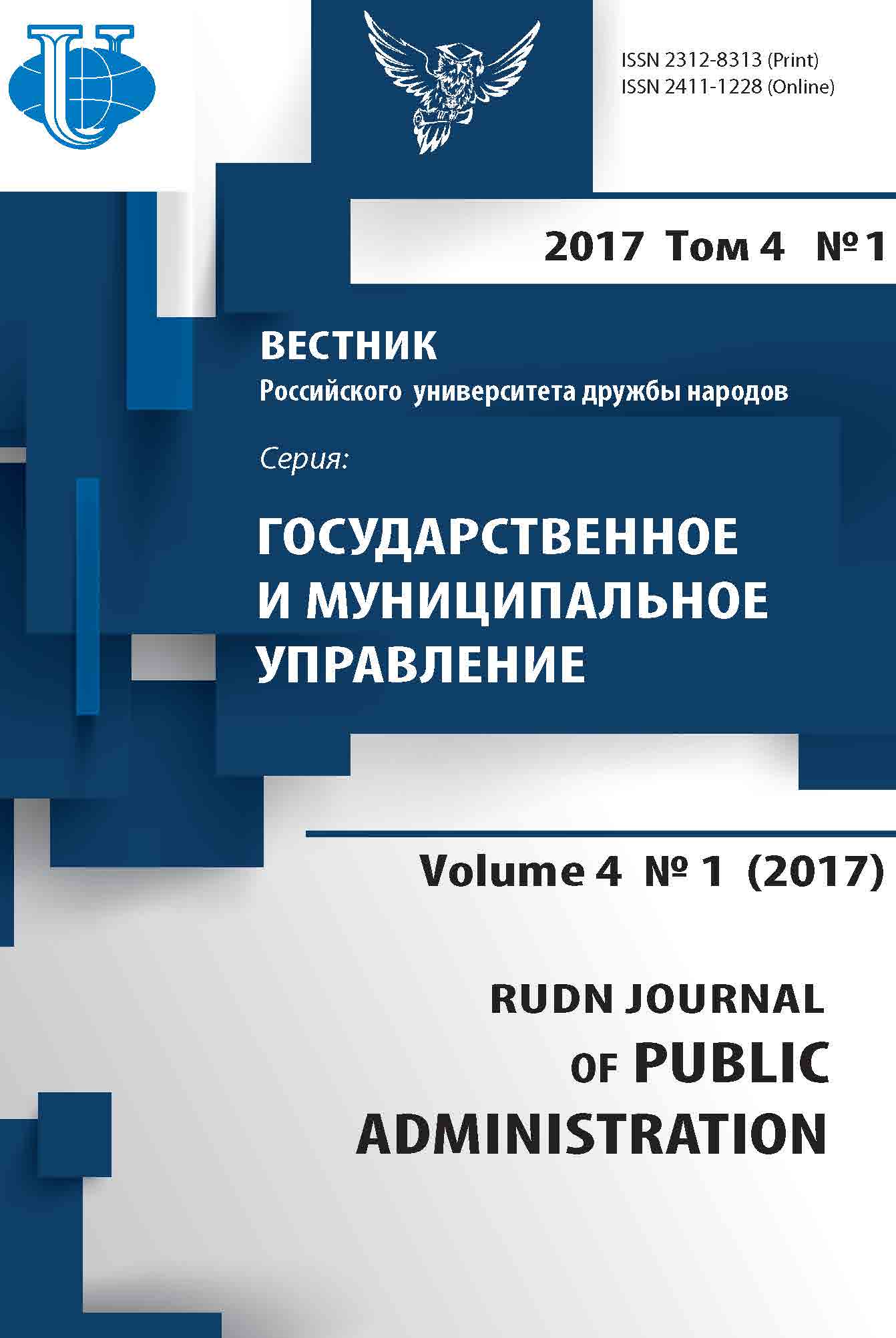YOUTH AS A BASIS OF STRENGTHENING OF UNITY OF THE RUSSIAN NATION AND ETHNOCULTURAL DEVELOPMENT OF THE PEOPLE OF RUSSIA
- Authors: Ivanova M.G1
-
Affiliations:
- Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
- Issue: Vol 4, No 1 (2017)
- Pages: 67-73
- Section: YOUTH AND STATE YOUTH POLICY
- URL: https://journals.rudn.ru/public-administration/article/view/17149
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8313-2017-4-1-67-73
Cite item
Full Text
Abstract
The article deals with the semantic gap between generations in the era of changing eco-nomic-political course of the country. The necessity of state intervention and the creation of proactive strategies in working with young people to strengthen the continuity of social and cul-tural code of the Russian nation and strengthening the strategic development of the country
About the authors
Maria G Ivanova
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
Author for correspondence.
Email: pravodogovor@yandex.ru
Иванова Мария Геннадьевна - генеральный директор компании ООО «ГК «Восход»», старший преподаватель вечернего отделения факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198References
- Byzov L.G. Konservativnyj trend v sovremennom rossijskom obshhestve – istoki, soder-zhanie i perspektivy // Obshhestvennye nauki i sovremennost’. 2015. № 4.
- Vasilenko O.V. O formirovanii grazhdanskoj aktivnosti i social’nom potenciale sovre-mennoj molodezhi // Reformy i revoljucii v kontekste istorii i obrazovatel’noj praktiki. IV Adlerovskie chtenija. Cheboksary, 2012.
- Ivanov V.G. «Estestvennyj uroven’ obrazovanija» kak faktor stabil’nosti politicheskogo rezhima. Chast’ 1 // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov: serija: Politologija. 2011. № 4.
- Ivanov V.G. «Estestvennyj uroven’ obrazovanija» kak faktor stabil’nosti politicheskogo rezhima. Chast’ 2 // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov: serija: Politologija. 2012. № 1.
- Kajumov A.M. Universitety XXI veka – shkola formirovanija kreativnogo pokolenija molodezhi / Vysshaja shkola – hram kul'tury. Kazan', 2014.
- Medvedko L.I. Rossija, Zapad, Islam // Obshhestvennye nauki i sovremennost’. 2002. № 1.
- Mezhuev V.M. Istorija, civilizacija, kul’tura: opyt filosofskogo istolkovanija. SPb.: SPbGUP, 2011.
- Mirhanova S.V. Stanovlenie identichnosti molodezhi v sovremennom rossijskom obsh-hestve riska. Avtoref. dis. ... kand. sociol. nauk. Kazan’, 2009. URL: http://diss.seluk.ru/av-sotsiologiya/1083228-1-stanovlenie-identichnosti-molodezhi-sovremennom-rossiyskom-obschestve-riska.php.
- Moiseev N.I. Byt’ ili ne byt’ chelovechestvu. M.: IPK «Ul’janovskij dom pechati», 1999.
- Muhamadeeva A.A. Istoricheskij opyt formirovanija duhovnogo oblika rossijskoj molo-dezhi v kontekste kul’tury mira (konec XX – nachalo XXI v.v.). Dis. … kand. sociol.nauk. Kazan’, 2015. URL: http://kazgik.ru/kcontent/main/disertation/doc_disertation/mu-chamadeevaa/disert.pdf.
- Nazaretjan A.P. Antropologija nasilija i kul’tura samoorganizacii: Ocherki po jevoljucionno-istoricheskoj psihologii. M., 2007.
- Pain Je.A. Mezhdu imperiej i naciej. Modernistskij proekt i ego tradicionalistskaja al’ternativa v nacional’noj politike Rossii: Novoe izdatel’stvo. M., 2004.
- Rogozin D. Metodicheskij audit polevyh rabot. URL: https://postnauka.ru/video/65232.
- Sorokin P.A. Social’naja i kul’turnaja dinamika. SPb., 2000.
- Sorokin P.A. Chelovek. Civilizacija. Obshhestvo. M.: Politizdat, 1992
- Tagirov Je.R. Jenergija molodosti. Molodezh’ v zerkale istorii. Kazan’: Magarif, 2009.
- Federal’naja celevaja programma «Ukreplenie edinstva rossijskoj nacii i jetnokul’turnoe razvitie narodov Rossii (2014–2020 gody)», utverzhdennaja Postanovleniem Pravitel’stva RF ot 20 avgusta 2013 g. № 718.
- Fedotov A.P. Globalistika: nachalo nauki o sovremennom mire. Kurs lekcij. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Aspekt Press, 2002. 186 s.
- Hrenov N.A. Izbrannye raboty po kul’turologii. Kul’tura i imperija: soglasie. M., 2014.
- Celi razvitija tysjacheletija: doklad OON za 2015 god. N’ju-Jork, 2015. URL: http://ecuo.org/media/fi ler_public/2015/09/10/millennium-development-goals_2015.pdf.
- Shumilov A.V. Jelektoral’naja politika i setevye molodezhnye soobshhestva (regional’nyj aspekt) // Reformy i revoljucii v kontekste istorii i obrazovatel’noj praktiki. IV Adlerovskie chtenija. Cheboksary, 2012.