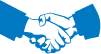Constructing Political Space in the Tsar Residences of the 17th Century: an Essay on Its Theoretical Analysis
- Authors: Topychkanov AV1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 4 (2016)
- Pages: 136-144
- Section: ARTICLES
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/14966
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2016-4-136-144
- ID: 14966
Cite item
Full Text
Abstract
The transition to Modernity was characterized by the emergence and development of the culture of sovereigns’ residences. The constructivist approach to the study of the political space of the tsar country residences of the 17th century allow to establish that the sovereign was interested 1) in a hierarchic representation of all social groups, 2) in totalizing a hierarchical structure, underlining its coherence, unity and integrity, 3) that only tsar was endowed by political subjectivity. The success of the construction of political space was depended not only by the use of legal, social, spatial and other ways of organizing interaction, but also by the formation of political space (in the absence of the sovereign) that simulates a real political space and specifies all the positions within the hierarchical structure, including the tsar.
Keywords
Full Text
В результате проблематизации ключевых понятий, служивших для описания политического процесса в прошлом (1), исследователь вынужден обращаться к современным теоретическим подходам и в частности к теориям власти, описывающим способы ее репрезентации как культурной и социальной практики. Пространственный поворот в социальных и гуманитарных науках открыл ряд новых возможностей для изучения пространственных аспектов этих практик [27; 30; 19; 28]. Однако ключевое понятие - «политическое пространство» - по-прежнему нуждается в рефлексии [24; 29]. В данной статье операционные возможности этого понятия апробируются при изучении феномена власти в России XVII в. и ее репрезентации в царских загородных резиденциях. Обращение к резиденциям обусловлено тем, что их возникновение и развитие является характерной чертой перехода к Новому времени. Этим понятием обозначают место постоянного пребывания правителя, выполняющее представительные функции. В России резиденции возникли на рубеже XV-XVI вв., одновременно с распространением этого явления на Западе [17. P. 11.], однако во время Смуты начала XVII в. система царских загородных резиденций была полностью уничтожена. Первые Романовы, особенно царь Алексей Михайлович, восстановили большинство усадеб последних Рюриковичей и выстроили новые. К концу XVII в. насчитывалось 22 резиденции с дворцами или «избушками для государевых пришествий», не считая дворцов в Троице-Сергиевом, Саввино-Сторожевском, Новодевичьем и других монастырях. Начиная с 1640-х гг. Романовы проводили значительную часть теплого времени года, переезжая из одной резиденции в другую. В их отсутствие загородные дворцы стояли пустыми: здесь находилась только мебель и завесы на окнах. Помещения наполняли всем необходимым перед приездом царской семьи. Таким образом, российские резиденции XVII в. обладали некоторыми чертами номадической (кочевой) культуры (2). Ее изучение позволяет проследить за процессом конструирования политического пространства, отказавшись от кантианской абсолютизации категории пространства и эссенциалистской уверенности в существование стабильных пространственных и социальных структур (3). Политическое пространство царских резиденций имело два измерения: физическое и социальное [9. C. 16-21]. Согласно первому выделялись следующие зоны: государево или дворцовое село (4) - государев двор - передние помещения дворца (переднее крыльцо, сени, первые комнаты) - внутренние помещения дворца. Социальная стратификация довольно точно соответствовала структуре физического пространства. Царь со своей семьей жил во внутренних помещениях дворца в окружении придворных и слуг, а также некоторых членов Боярской думы. Остальные думцы регулярно приезжали в загородные резиденции для докладов и участия в заседаниях думы и различных боярских комиссий, которые собирались в передних помещениях дворца. По периметру государева двора размещалась дворянская и стрелецкая охрана. Представители остальных сословий находились преимущественно за пределами государева двора. Редко на территорию двора допускались крестьяне и посадские люди для выполнения хозяйственных работ. Лишь в нескольких резиденциях к дворцу примыкали домовые храмы, а рядом, по периметру государева двора, располагались приказные помещения: в первых служило местное духовенство, а во-вторых - местные и приезжие приказные люди. Таким образом, в присутствии государя в резиденции наблюдалось представительство всех социальных групп. Однако возникает вопрос, существовала ли эта иерархическая социальная структура до появления царской семьи, придворных, дворцовых слуг и охраны? До приезда царя в большинстве загородных резиденций находился административный аппарат (сотрудники приказов большого дворца и тайных дел, выбранные из крестьян целовальники и сторожа), мастера (чаще всего плотники), местное духовенство и крестьяне. Все они хорошо осознавали, что проживают на территории царской резиденции (5). Их повседневная жизнь протекала бок о бок с государевым двором и дворцом. Например, крестьяне молились перед иконами святых - покровителей членов царской семьи (6), были знакомы с представителями местной администрации (приказчиками, подьячими), видели придворных и дворцовых слуг, приезжавших для подготовки дворца к проживанию царской семьи [2; 3. C. 60-101]. Таким образом, еще до появления государя в резиденции возникали социальные отношения, которые имитировали будущее политическое пространство, выступали его прообразом или копией (назовем его «пространство-имитант»). В пространстве-имитанте над крестьянской общиной и местной администрацией надстраивалась административная вертикаль, которая для дворцовых сел выглядела так: приказчик - Приказ Большого дворца - Боярская дума - царь, а для государевых сел: приказчик - Приказ Тайных дел - царь. Замещение номинальной административной вертикали реальной иерархической структурой во главе с монархом происходило по принципу матрешки: царь и его окружение занимали пустовавшее место государева двора, находившегося в центре резиденции, а на месте номинальных руководителей приказов, чьи имена воспроизводились в делопроизводстве местной приказной избы, появлялись реальные люди. Таким образом, пространство-имитант указывало на будущую конфигурацию, определяющую позиции всех акторов политического пространства, включая царя. В присутствии государя номинальная административная вертикаль превращалась в реальные иерархические отношения, подобно тому, как современные коммуникации переходят из онлайн в офлайн и обратно. Отсутствие противоречий между пространством-имитантом и подлинным политическим пространством позволяло легко переключаться от одного к другому (табл. 1). Таблица 1 Социальная структура пространства-имитанта и подлинного политического пространства в царских резиденциях XVII в.* Уровень власти Пространство-имитант (резиденции в ведении Приказа Большого дворца и Приказа Тайных дел) Подлинное политическое пространство Верховная власть Царь Царь Царская семья Царская семья Придворные Придворные Центральное управление Боярская дума Тайный приказ Представители Боярской думы Приказ Большого дворца Представители приказов Местное управление Приказчик, подьячие Дворец Дворцовые слуги Охрана** Дворяне и стрельцы Община Крестьяне Примечания: *Выделены те, кто мог контактировать лицом к лицу. **Данные об охране загородных дворцов в отсутствие государя пока не выявлены. Таким образом, при конструировании политического пространства верховная власть была заинтересована не просто в иерархизированном представительстве всех социальных слоев, но в тотализации этой иерархической структуры, подчеркивающей ее связность, единство и целостность, что обеспечивало верховенство царской власти. Это было естественно для эпохи, когда монарх одновременно выступал и как правитель, и как квинтэссенция территориального государства, которым он управлял [25. P. 334; 7. C. 12-74.]. Указанная тотализация, например, проявлялась в том, что на протяжении XVII в. верховная власть сознательно отказывалась от дифференциации царской резиденции и сельского поселения и называла свои резиденции по именам сел, в которых они располагались. Причем резиденции размещались в непосредственной близости от сел, а площадь перед государевым двором являлась главной сельской площадью, где проходил крестьянский сход и велась торговля. Только в Измайловской резиденции 1660-х гг. начался процесс отделения сельского поселения от государева двора: село было перенесено на противоположный берег реки Измайловки (Серебрянки), однако приказная изба и, вероятно, место сельского схода были оставлены близ государева двора. Описанная иерархическая система предполагала, что только верховной власти принадлежало право структурировать политического пространство. Несмотря на присутствие всех социальных групп, неверно было бы утверждать, что государь и его подданные образовывали единое политическое тело [23. P. 237-240.]. Приказное делопроизводство, освещающее повседневную жизнь резиденций, говорит только о тех, кто коммуницирует с властью и ее агентами, и тех, кто исключен из этой коммуникации, то есть приговорен к тому или иному наказанию. Все они находились в сфере действия самой верховной власти, наделенной и наделявшей субъектностью. Вне этой сферы оказывались не допущенные на аудиенцию, челобитчики, чьи челобитные подолгу не принимали, местные жители - об этих людях мы узнаем только тогда, когда они вступали в упомянутые отношения с представителями верховной власти. Таким образом, большинство присутствующих в резиденциях оказывается в тени. Это феномен можно рассматривать как проявление симметрии суверен - политический человек [1], которая в действительности заложена в самом дискурсе власти, структурирующей политическое пространство именно таким образом. Недостаток источников других видов (прежде всего личных документов и судебно-следственных дел, позволяющих выработать собственные стратегии высказывания и тематизации окружающего мира) создает трудности для преодоления представлений, навязанных этим дискурсом. Но и эти источники в рассматриваемый период возникают преимущественно в результате коммуникации с верховной властью (7), возможно по причине доминирования вертикальной коммуникации в сфере письменности. К середине XVII в. верховная власть уже считала недостаточными традиционные социальный, пространственный, архитектурный, церемониальный и прочие способы конструирования политического пространства. Третья глава Соборного уложения 1649 г. ввела нормы, защищающие «честь государева двора», в том числе «не при государе» (ст. 5) и «где изволит царьское величество во объезде быти» (ст. 6, 7). Авторы главы развили положения Литовского статута 1588 г., заменив оскорбление короля на оскорбление чести государева двора [8. C. 155-157]. В других странах Европы можно наблюдать подобное отношение к территории резиденции. Так, например, мадридский двор испанского короля Филиппа II даже в отсутствие короля считался резиденцией, потому что содержал в себе «остаток власти» [17. P. 11]. Введение понятия «честь государева двора» должно было обеспечить стабильность перехода от пространства-имитанта к подлинному политическому пространству. Вместе с тем это соответствует тенденции к усилению представительных возможностей царских резиденций, что было характерно для царствования Алексея Михайловича и затем его наследников и наибольшей степени выразилось в оформлении Коломенского дворца. Таким образом, верховная власть была заинтересована в постоянном воспроизводстве иерархически организованного политического пространства, в котором она занимала центральное место [26. S. 105-144]. В этом пространстве политической субъектностью обладал лишь царь и реже члены его семьи, а остальные обезличено представляли свои социальные группы, демонстрируя «людность». «Моментальное» конструирование политического пространства при въезде царя в резиденцию было возможно в силу того, что в отсутствие государя воспроизводилось пространство-имитант, задававшее позиции всех акторов будущего политического пространства, включая самого царя. Одновременное использование нормативных, социальных, пространственных, архитектурных, церемониальных и иных способов конструирования политического пространства позволяло рутинизировать этот процесс, уменьшив возможность переозначивания знаков этого пространства. Учитывая степень влияния этого способа на положение подданных в пространстве, их поведение и организацию их повседневной жизни, такой вариант конструирования политического пространства можно отнести с биополитике [13]. Описанная модель конструирования политического пространства безусловно имела ограниченное использование. Она работала только при условии, если подданные следовали нормативно санкционированному и социально приемлемому поведению, т.е. строго придерживались своих позиций в иерархически организованном обществе [16]. Переозначивание знаков политического пространства могло привести к конкуренции и конфликтам, в том числе между различными иерархическими структурами, например между Нарышкиными и Милославскими, дворами царя Петра и царевны Софьи. Верховная власть часто поддерживала существование конкурирующих иерархий, которые были ей необходимы, чтобы «разделять и властвовать» [21. P. 137-158]. Однако в подмосковных загородных резиденциях, где было трудно обеспечить безопасность царской семьи [10. C. 145-157], верховная власть была занята укреплением лишь одной иерархии, во главе которой находился исключительно российский самодержец. ПРИМЕЧАНИЯ (1) См., например, дискуссии вокруг понятий «феодализм» [6], «абсолютизм» [14], «Раннее Новое время» [20] и т.д. (2) О современных подходах к изучению номадизма см.: [11. C. 53-81]. (3) Конструктивистский подход к пространству прошел длительную эволюцию от бихевиоризма к постструктурализму и акторно-сетевой теории. В качестве введения в конструктивистский подход к пространству см.: [23, особенно Part. 3]. (4) Государево село находилось в ведомстве Приказа тайных дел, дворцовое - Приказа большого дворца. (5) Наиболее изучены представления черносошных крестьян о государевой земле в Поморье [23. C. 265 и далее]. (6) Подобные иконы находились в сельском храме в Измайлове [12. C. 190-197]. (7) См., например, комплекс документов XVII в. села Дьякова [МГОМЗ. Фонд книги; 4. C. 17-30; 5. C. 41-57.), Приходо-расходная книга мирского старосты Игнатия Трофимова деревни Щитникова 1708/09 г. [РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Кн. 545. Л. 1-14 об.] и др. REFERENCES [1] Agamben J. Homo sacer. Suverennaia vlast' i golaia zhizn'. M.: Evropa, 2011. [2] Zaozerskii A.I. Tsarskaia votchina XVII v. Iz istorii khoziaistvennoi i prikaznoi politiki tsaria Alekseia Mikhailovicha. 2-e prosm. i ispr. izd. M., 1937. [3] Il'ina M.N. Krest'iane Kolomenskoi dvortsovoi volosti v XVII v. Gosudarevo selo Kolomenskoe i ego zhiteli / Pod red. E.A. Verkhovskoi. M.: MGOMZ, 2007. [4] Nefedova E.S. Vypisi 1675-1677, 1696 godov s mezhevykh i pistsovykh knig dvortsovoi Kolomenskoi volosti. Kolomenskoe: Materialy i issledovaniia. Vyp. 4. M.: GMZK, 1993. [5] Nefedova E.S. Rybnyi promysel v Kolomenskoi dvortsovoi volosti vo vtoroi polovine XVII v. Kolomenskoe: Materialy i issledovaniia. Vyp. 6. M.: GMZK, 1995. [6] Odissei: Chelovek v istorii. 2006. Gl. red. A.Ia. Gurevich. M.: Nauka, 2006. [7] Skinner Q. The State / Per. D. Fedotenko. Poniatie gosudarstva v chetyrekh iazykakh: Sbornik statei. Pod red. O. Kharkhordina. SPb.; M.: Evropeiskii universitet v Sankt-Peterburge: Letnii sad, 2002. [8] Sobornoe ulozhenie 1649 goda: Tekst, kommentarii. Ruk. A.G. Man'kov. L.: Nauka. Leningradskoe otd-e, 1987. [9] Topychkanov A.V. «Gosudarev dvor» dvortsovoi usad'by vo vtoroi polovine XVII v. i ego posetiteli. Kolomenskoe: materialy i issledovaniia. Vyp. 11. M.: MGOMZ, 2008. [10] Topychkanov A.V. Kremlevskaia rezidentsiia vs podmoskovnye rezidentsii: zony konflikta vo vtoroi polovine XVII v. Romanovy v doroge. Puteshestviia i poezdki chlenov tsarskoi sem'i po Rossii i za granitsu: Sb. statei. Otv. red. M.V. Leskinen, O.V. Khavanova. M.; SPb.: Nestor-Istoriia, 2016. [11] Ushakin S. O liudiakh puti: nomadizm segodnia: Vvedenie k forumu priglashennogo redaktora. Ab Imperio. 2012. № 2. [12] Filatov V.V. Ikony XVII-XVIII vekov - pokroviteli tsarei Romanovykh v khrame Rozhdestva Khristova v Izmailove. Iskusstvo khristianskogo mira: Sbornik statei / Otv. red. A.A. Voronova. Vyp. 4. M.: Izd-vo PSTBI, 2000. [13] Foucault M. Bezopasnost', territoriia, naselenie: Kurs lektsii, prochitannykh v Kollezh de Frans v 1977-1978 uchebnom godu. Per. s fr. N.V. Suslova, A.V. Shestakova, V.Iu. Bystrova. SPb.: Nauka, 2011. [14] Henshall N. Mif absoliutizma. Peremeny i preemstvennost' v razvitii zapadnoevropeiskoi monarkhii rannego Novogo vremeni. SPb.: Aleteiia, 2003. [15] Shveikovskaia E.N. Gosudarstvo i krest'iane Rossii. Pomor'e v XVII v. M.: Arkheograficheskii tsentr, 1997. [16] Elias N. Pridvornoe obshchestvo: Issledovanie po sotsiologii korolia i pridvornoi aristokratii: Per. s nem. M.: Iazyki slavianskoi kul'tury, 2002. [17] Adamson J. The Making of the Ancien-Regime Court, 1500-1700. The Princely Courts of Europe: Ritual, Politics and Culture under the Ancien-Regime Court, 1500-1700. Ed. J Adamson. London: Seven Dials, 2000. [18] Allen J. Lost Geographies of Power. Oxford: Blackwell, 2003. [19] Approaches to Human Geography. Eds. S. Aitken and G. Valentine. London: Sage, 2006. [20] Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft: Forschungstendenzen und Forschungsertäge. Hg. N. Boskowska-Leimgruber. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1997. [21] Duindam J. Myths of Power: Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995. [22] Harvey D. Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell, 1996. [23] Kharkhordin O. What is the State? The Russian Concept Gosudarstvo in the European Context. History and Theory. 2001. Vol. 40. No. 5. [24] Political Space in Pre-industrial Europe. Ed. B. Kümin. Aldershot: Ashgate, 2009. [25] Post G. Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322. Princeton: Princeton University Press, 1964. [26] Seggern H. von. Die Theorie der “Zentralen Orte” von Walter Christaller und die Rezidenzbildung. Hof und Theorie: Annäherungen an die historische Phänomen. Hg. R. Butz, J. Hirschbiegel, D. Willoweit. Köln: Böhlau, 2004. [27] Soja E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989. [28] Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Hg. J. Döring, T. Thielmann. Bielefeld: Transcript, 2008. [29] The Uses of Space in Early Modern History. Ed. P. Stock. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. [30] Thinking Space / Eds. M. Gang and N. Thrift. London: Routledge, 2000. @ А.В. Топычканов
About the authors
A V Topychkanov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: topychkanov@gmail.com
Lomonosov ave., D. 27, Moscow, Russia, GSP-1, 119991
References
Supplementary files