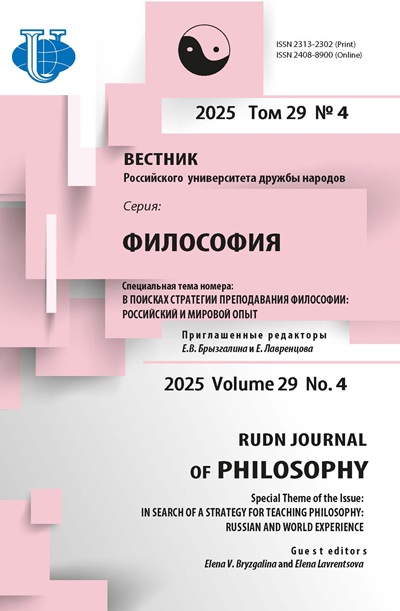Kantian Motives in Work of Ludwig Wittgenstein
- Authors: Sokuler Z.A.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 27, No 3 (2023): KANT’S “CRITIQUE OF PURE REASON” AND WAYS OF ITS READING BY PHILOSOPHERS
- Pages: 629-643
- Section: KANT’S “CRITIQUE OF PURE REASON” AND WAYS OF ITS READING BY PHILOSOPHERS
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/36052
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-3-629-643
- EDN: https://elibrary.ru/ECJVKT
- ID: 36052
Cite item
Full Text
Abstract
It is proved that the basic framework of the premises and reasoning of Wittgenstein's “Tractatus Logico-philosophicus” corresponds quite well to the transcendental method (as formulated by H. Cohen). Whereas Kant’s philosophy proceeds from the fact of existence of mathematics and mathematised natural science and investigates their conditions of possibility, Wittgenstein proceeds from the fact that propositions of language describe reality and reveals the conditions of possibility of such descriptions. Kant, answering the question about the conditions of possibility of the named sciences, comes to the idea of the transcendental subject and the distinction between the world of phenomena and the thing in itself. Wittgenstein's investigation of the conditions of possibility that the world is described by propositions leads to the assertion that both the world and language are together in logical space. The latter constitutes the a priori and transcendental condition of the possibility that language “reaches out” to reality. For both the theories - in the “Critique of Pure Reason” and in the “Tractatus Logico-Philosophicus” - the idea of the boundary is important. In the “Critique of Pure Reason” it is the boundary of possible experience and cognition, while in the “Tractatus Logico-Philosophicus” it is the boundary of what can be thought and expressed by meaningful propositions. Related to the different definitions of the boundary is the difference in the treatment of mathematised natural science. For “The Critique of Pure Reason” was created in the era of unconditional acceptance of Newtonian mechanics. And the “Tractatus Logico-Philosophicus” was created at the time of the crisis of the Newtonian paradigm and its replacement by other notions of time and space. However, the idea of boundary, which is present in both doctrines, determines closeness in the attitude towards metaphysics between the author of “The Critique of Pure Reason” and the author of “The Tractatus Logico-Philosophicus”. The study also shows that Wittgenstein did not follow logicism in his philosophy of mathematics. For him, both mathematical objects and propositions of logic are constructions. The conviction about the constructive character of mathematical and logical objects shows an affinity with the Kantian tradition in the philosophy of mathematics.
Full Text
Введение
Обращение к творчеству Витгенштейна для понимания масштабов влияния Канта на последующую европейскую философию уже не может удивить. Вопрос о кантианских мотивах и установках в его философии стал темой исследований еще с 1970-х гг. (см. например [1—6]), несмотря на то, что конкретные упоминания имени Канта в опубликованных текстах Витгенштейна можно пересчитать по пальцам.
Особенно очевидно влияние кантианства в ранней работе Витгенштейна «Логико-философский трактат». Несмотря на то, что Витгенштейн знакомился с философией Канта сквозь призму Шопенгауэра, «Трактат» действительно принадлежит заданной Кантом традиции трансцендентальной философии и в то же время может быть прочитан как скрытая (а иногда открытая) полемика с кантовскими утверждениями.
Мир, логическое пространство и метафизический субъект в «Логико-философском трактате»
Чтобы указать на те черты «Трактата», которые свидетельствуют о его принадлежности кантовской традиции, позволю себе употребить такие выражения, как «онтология «Критики чистого разума (КЧР)» [7] и «онтология «Трактата»» [8], что позволит сразу показать параллели между той и другой.
Под «онтологией КЧР» я подразумеваю следующие тезисы: мир, который нас окружает, является объектом науки и миром нашего опыта — это мир явлений, а не вещей самих по себе. Его структура и организация внесены трансцендентальным субъектом и являются проекциями последнего. Если бы это было не так, невозможно было бы научное знание о мире. Трансцендентальный субъект, будучи условием возможности мира нашего опыта, не является одним из объектов этого мира. Он не дан ни в каком конкретном опыте, однако весь возможный опыт несет на себе его отпечаток. Знание о вещах самих по себе невозможно. Однако о трансцендентальном субъекте мы знаем на основании того, каким является мир возможного опыта и науки о нем. В мире явлений нет свободы, целей и ценностей. «Царство целей» выходит за пределы этого мира; возможность подобного выхода связана с волей субъекта и его решением принять на себя безусловный моральный закон. Метафизика же не имеет права на такой выход.
Посмотрим теперь на онтологию «Трактата». Первые же слова этого произведения: «1. Мир есть все то, что имеет место. 1.1. Мир есть совокупность фактов, а не вещей» [8. С. 36] показывают, что речь идет не о мире как он есть сам по себе, а о мире нашего возможного опыта. Однако, если в КЧР характеристики этого мира выводились из того, что он может быть объектом науки (или, что то же самое, что о нем могут быть сформулированы синтетические суждения априори), то в «Логико-философском трактате» рассматривается мир, который может быть объектом описания. Утверждение, что мир есть совокупность фактов, а не вещей, означает, что мир описывается предложениями (а не наборами именований). Все, что в «Трактате» утверждается о мире, вся его «онтология» вытекает из предпосылки, что мир можно описывать и что условием возможности этого является параллелизм между структурой предложений и структурой фактов.
Установки «Логико-философского трактата» соответствуют Кантову трансцендентальному методу. Кант исходит из факта — факта существования математизированного естествознания. В отличие от эмпиристов Кант сознает всю нетривиальность подобного факта, поскольку такое научное знание невозможно объяснить тем, что оно извлечено из опыта. Подобное эмпиристское объяснение просто упускает из вида, что науку характеризует наличие законов. Поэтому Кант ставит вопрос о том, как возможны математика и математизированное естествознание, а ответ выводит его за пределы фактов к априорным условиям их возможности.
Витгенштейн также исходит из факта — факта того, что мир может описываться предложениями. Он понимает, что данный факт совсем не тривиален, и его невозможно объяснить посредством расхожего убеждения, что в мире есть вещи, а мы можем придумывать для них имена, которые потом соединяются в предложения. Витгенштейн сознает, что подобное объяснение упускает из вида, что предложение не смесь имен, оно структурировано, артикулировано. Правда, в отличие от Канта, Витгенштейн не формулирует прямо вопрос: как возможны осмысленные предложения, описывающие реальность (и этим он затруднил понимание «Трактата»). Фактически же он начинает именно с ответа на данный вопрос, выстраивая упомянутую трактовку мира. При этом условием возможности как структур фактов, так и структур предложений оказывается логическое пространство «1.13. Факты в логическом пространстве суть мир» [8. С. 36].
Логическое пространство, таким образом, оказывается априорным условием возможности как фактов мира, так и осмысленных предложений, которые их описывают. Оно лежит до и в основе любых определенностей этого мира[1]. Можно сказать, что роль логического пространства в онтологии «Логико-философского трактата» аналогична роли условий возможного опыта, т.е. априорных форм пространства и времени и априорных категорий в КЧР. И то, и другое априорно. Логическое пространство, как и условия возможного опыта по Канту, задает наиболее общие и необходимые черты мира.
Общей чертой кантовской трансцендентальной философии и «Логико-философского трактата» является признание того, что: а) познание (или описание) мира невозможно, если не допустить, что мир имеет априорную структуру; б) эта структура одновременно образует и априорную структуру мира, и структуру трансцендентального субъекта.
В самом деле, в «Логико-философском трактате» строится концепция «метафизического субъекта», которого, скорее, следовало бы назвать «трансцендентальным субъектом». С ним связаны логическое пространство и логика: «5.61. Логика наполняет мир; границы мира являются также ее границами» [8. С. 174]. «5.632. Субъект не принадлежит миру, но он есть граница мира» [8. С. 176].
Итак, субъект не является объектом среди других объектов мира. Однако весь мир является миром метафизического субъекта[2], и это еще раз показывает, что мир «Трактата» не является вещью самой по себе. В то же время метафизический субъект «Трактата» не продуцирует этот мир из себя. О подобном представлении даже странно упоминать применительно к «Логико-философскому трактату», но если бы еще были нужны доказательства, можно привести метафору отношения субъекта и мира как глаза и поля зрения[3], тезис 5.634 «…ни одна часть нашего опыта также не является априорной. Все, что мы видим, может быть также другим» [8. С. 176]; тезис 6.373 «Мир не зависит от моей воли» [8. С. 210] и, наконец, процитированный выше тезис 5.552, что логика предшествует любому «Как», т.е. любой определенности и упорядоченности объектов и фактов, но не предшествует «Что», т.е. самому существованию чего бы то ни было. Это как раз означает, что существование независимо от логики и, соответственно, от субъекта. Думаю, такими же словами можно сказать и о кантовском трансцендентальном субъекте.
Граница мира, физические теории и математика
Тема «границы мира» прямо заставляет вспомнить о кантовой идее границы познания. Как у Канта, так и у Витгенштейна эта граница появляется вследствие того, что данная в опыте действительность (которую Кант называет возможным опытом, а Витгенштейн — миром) оформлена, организована трансцендентальным субъектом. Эта оформленность и является границей. В КЧР речь идет о границе познания, появляющейся вследствие того, что структура трансцендентального субъекта, проецированная в мир опыта, заслоняет от нас реальность саму по себе. В «Логико-философском трактате» и мир, и язык организованы логикой, вследствие чего именно она образует границу мира.
Но здесь же мы видим и различие между КЧР и «Трактатом». В КЧР речь идет о границе именно познания, а мыслить о непознаваемой вещи самой по себе мы можем. А в «Логико-философском трактате» граница мира оказывается одновременно границей языка и мысли:
«5.6. Границы моего языка означают границы моего мира. 5.61. Логика наполняет мир; границы мира являются также ее границами. Поэтому мы не можем говорить в логике: это и это существует в мире, а то — нет. …этого не может быть, так как для этого логика должна была бы выйти за границы мира: чтобы она могла рассматривать эти границы также с другой стороны. То, чего мы не можем мыслить, того мы мыслить не можем; мы, следовательно, не можем и сказать того, чего мы не можем мыслить» [8. С. 174].
Согласно КЧР возможен априорный образ наиболее общих и необходимых черт мира, т.е. возможного опыта. Он воплощен в синтетических суждениях априори, важнейшими среди которых являются «Основоположения чистого рассудка», [7. С. 182—234], названные в «Пролегоменах» общими основоположениями естествознания [9. С. 122]. Напротив, в «Логико-философском трактате» утверждается, что «2.225. Нет образа, истинного априори» (ни образа факта, ни образа мира) [8. С. 50], и что необходимость может быть только логической, а все остальное в мире случайно[4].
Представляется, это различие можно объяснить тем, что Кант строит свою систему в эпоху триумфа Ньютоновой механики, тогда как Витгенштейн — в эпоху критики и кризиса ньютонианской науки. Если во времена Канта представления о науке связывались с идеей безусловной, необходимой истинности (этими свойствами Кант и характеризует синтетические суждения априори), то Витгенштейн формируется в тот исторический период, когда наука связывается больше с представлениями об относительности и конвенциональности[5].
Кант исходит как из факта из необходимой истинности принципов евклидовой геометрии и ньютоновой механики. Из исследования условий возможности суждений математики и математизированного естествознания он извлекает структуру трансцендентально субъекта, т.е. априорные формы созерцания и априорный категориальный схематизм. Учение об этих структурах и составляет главное содержание КЧР. Витгенштейн, как и многие его современники, убежден, что математика и механика не истинны, а конвенциональны. А. Пуанкаре и Г. Герц даже говорят о них как о способах или языках описания; при этом предполагается, что языки описания могут быть различными.
Философия Витгенштейна, подобно кантовской, исходит из факта. Только это уже другой факт: то, что мир описываем языком. Однако данному факту не соответствует никакой определенной теории, никаких определенных истин. Поэтому исследование Витгенштейна разворачивается в ином направлении, нежели кантовское. В «Логико-философском трактате» преобладает критика философских конструкций, а их положительной разработки Витгенштейн избегает. На роль теории, сообщающей истины о логике, лежащей в основе языка и мира, претендовала Фреге-Расселовская логика. Но Витгенштейн отвергает подобные притязания (см. подробнее [11]) и на их место ставит категорическое заявление, что логическое пространство (как априорное условие возможности того, что язык способен описывать действительность) не может описываться осмысленными предложениями. Соответственно, не остается поля для конструктивной философской работы, а только для ее критики.
Базисные утверждения механики для Витгенштейна выступают не априорными истинами, но их роль чисто инструментальна[6] — они позволяют строить все предложения, описывающие соответствующий круг фактов, по одному плану. Витгенштейн сравнивает научную теорию с сеткой, которую набрасывают на реальность, чтобы сделать ее описания единообразными, и подчеркивает условный, конвенциональный характер любой сетки такого рода.
Критичность по отношению к базисным принципам математической физики распространяется и на представления о причинной связи. Принцип причинности, утверждает Витгенштейн, говорит не о реальности, а только о форме физических законов. Данный принцип, конечно, априорен в том смысле, что не обусловлен опытом, но его нельзя назвать истинным в том смысле, в каком для Канта являются истинными «основоположения чистого естествознания».
По убеждению Витгенштейна, мир нашего опыта не структурирован основоположениями науки, принципом причинности в частности. Принцип причинности, так сказать, не «вделан» в строение мира, в отличие от той структурированности, которую несет в себе логическое пространство. В этом мире есть только логическая необходимость, а все остальное случайно. Соответственно: «6.36311. То, что завтра взойдет солнце, — гипотеза; а это означает, что мы не знаем, взойдет ли оно» [8. С. 208]. С этим демонстративно юмовским примером сочетается утверждение 6.3631, что индуктивный вывод имеет только психологическое, а не логическое основание [8. С. 208]. Индуктивный вывод, согласно Витгенштейну, состоит в том, что «6.363. …мы принимаем простейший закон, согласующийся с опытом» [8. С. 208]. Простейший закон, согласующийся с уже имеющимся опытом, на том и основан, что дальше будет повторяться то же самое. Витгенштейновская формулировка отличается от шаблонных формулировок индуктивного вывода подчеркиванием конвенционального характера данной процедуры.
Здесь сразу видно отличие представлений Витгенштейна как от эмпиризма и индуктивизма, так и от представлений Канта о законах науки. В то же время конечным основанием отличия в оценке причинности между двумя нашими мыслителями является различие в их отношении к науке[7].
Не-логицистское видение математики в «Логико-философском трактате»
Под влиянием изменений, происходивших в математике во второй половине XIX в., Герман Коген и его Марбургская школа (но не только они, разумеется) занимают критическую позицию по отношению к учению Канта об априорных формах созерцания. В самом деле, идея созерцания связана с представлением о неизменности этого познавательного аппарата. Если бы математика коренилась в созерцании, были бы невозможны глубокие изменения ее теорий и методов.
У Витгенштейна мы видим близкую по духу позицию. Для него математика конвенциональна, как и физические теории. Например, в единственном месте «Логико-философского трактата», где прямо упоминается Кант, речь идет об обсуждавшейся Кантом проблеме неконгруэнтности правой и левой руки [12]. Для Канта это реальная физическая и философская проблема. Он приводит много примеров, чтобы показать: различие между левым и правым пронизывает весь мир; так, всегда в определенном направлении закручиваются вокруг опоры вьющиеся растения, складываются завитки раковин улитки и проч. Кант заканчивает свои рассуждения следующими словами: «[П]онятие пространства, взятое в том значении, как его мыслит геометр и в каком проницательные философы ввели его в систему естественных наук, вдумчивый читатель не станет рассматривать как чистый плод воображения, хотя нет недостатка в трудностях, связанных с этим понятием, когда его реальность, созерцаемую внутренним чувством, хотят постигнуть посредством разума» [12. С. 379].
Таким образом, примеры того, что различие правого и левого является физической реальностью, используются Кантом, чтобы показать ограниченность лейбницевской интеллектуалистской трактовки пространства и связать пространственные отношения с созерцанием. Но если для Канта речь шла о понимании сущности пространства, то для Витгенштейна вопрос в том, какие концептуальные инструменты мы используем для описания подобного наблюдения: «6.36111. …Правая и левая рука фактически полностью конгруэнтны. И то, что они не могут совпасть при наложении, не имеет к этому никакого отношения. Правую перчатку можно было бы надеть на левую руку, если бы ее можно было повернуть в четырехмерном пространстве» [8. С. 208].
В тексте «Трактата» есть еще одно упоминание проблемы пространства. Оно появляется достаточно неожиданно. Витгенштейн обсуждает достоинства разных способов записи квантора и высказывает общее требование к символике: способы символизации должны, так сказать, иметь ту же размерность, что и символизируемое. И в качестве примера работы подобного требования появляется замечание: «4.0412. По этой же причине неудовлетворительно и идеалистическое объяснение виденья пространственных отношений через «пространственные очки», потому что оно не может объяснить размерность этих отношений» [8. С. 84].
Трудно сказать, с кем именно тут спорит Витгенштейн: с Кантом или с какими-то его толкователями, более близкими Витгенштейну по времени. Однако показательна его аргументация: он ссылается на «размерность отношений». Каких отношений, между чем и чем? Он не дает пояснений, но в подготовительных материалах к «Логико-философскому трактату» [13] Витгенштейн неоднократно обращается к понятию пространства и трактует его при этом как образуемое бесконечным числом точек. Однако созерцание пространства не подразумевает бесконечно большого числа не имеющих размера точек; последние принадлежат не созерцанию, а концептуализации пространства. И в данном случае Витгенштейн ставит на место созерцания и данности свободную понятийную конструкцию.
Итак, мы видим, сколь часто Витгенштейн не склонен соглашаться с Кантом. Тем более интересной оказывается позиция Витгенштейна по отношению к логицизму. Логицизм — это программа в основаниях математики, сторонники которой принимают утверждение Лейбница, что математические аксиомы и теоремы являются частными случаями логических истин, т.е. они являются аналитическими предложениями. С данным утверждением Лейбница спорил Кант, доказывая, что и предложения геометрии, и даже предложения арифметики являются синтетическими. Споры между последователями Лейбница и последователями Канта продолжаются в философии математики по сей день. Последователями Лейбница были Г. Фреге и Б. Рассел. Именно для реализации программы логицизма была создана современная символическая логика.
Какую же позицию занимает Витгенштейн, ученик Рассела? Может показаться, что он разделяет подход школы, из которой вышел, т.е. логицизм Фреге—Рассела. Например, он пишет, что: «6.2. Математика есть логический метод» [8. С. 196]. Однако мы будем разочарованы, если станем искать в «Трактате» сведение предложений математики к предложениям логики. Напротив, Витгенштейн отличает математические предложения от логических. Если последние являются тавтологиями, то в том же тезисе 6.2. он далее утверждает: «Предложения математики являются уравнениями, а потому псевдопредложениями» [8. С. 196], откуда можно заключить, что к ним вообще неприменимо понятие аналитического предложения.
Как показывает П. Фраскола [14], в «Логико-философском трактате» Витгенштейн вместо сведения математики к логике строит параллельную трактовку той и другой. Для этого он вводит понятие операции. Операции задаются методом математической индукции (6.002) и представляют собой чисто формальные манипуляции со знаками. Последовательное применение одной и той же операции дает «формальный ряд». Его члены связаны отношением «следования за» (4.1252) [8. С. 96]. Витгенштейн подчеркивает, что: «5.232. Внутреннее отношение, упорядочивающее ряд, эквивалентно операции, благодаря которой один член возникает из другого» [8. С. 134].
В «Логико-философском трактате» имеется всего два конкретных примера операций: операция прибавления единицы, в результате которой получается ряд натуральных чисел, и операция построения формул пропозиционального исчисления последовательным применением определенной логической функции к выбранным в качестве исходных пропозициональным переменным (см. подробнее [11]). Тем самым Витгенштейн показывает, что все свойства как натуральных чисел, так и сложных предложений, построенных из элементарных с помощью логических связок, являются их «внутренними» свойствами. Это означает, что названные объекты необходимо ими обладают, иначе они не были бы именно этими объектами. Данные свойства обусловлены принципами построения соответствующего ряда, т.е. характером порождающей операции и местом данного выражения в ряду (т.е. на каком шаге оно было построено). Построить объект формального ряда и означает построить объект с такими-то свойствами. Это заставляет вспомнить слова Канта о том, что мы можем знать с необходимостью только то, что сами вложили в свой объект [7. С. 32].
Фраза Витгенштейна, что: «6.234. Математика есть один из методов логики» [8. С. 194], свидетельствует не о близости, но, напротив, об отходе от логицизма. Витгенштейн смотрит на логику не как на совокупность аналитически истинных предложений, а как на деятельность, состоящую в осуществлении определенных операций со знаками. И хотя Витгенштейн не принимает идею Канта, что математик предъявляет себе в созерцании отдельные математические объекты вроде числа 12, тем не менее его понимание математики близко кантовскому. В самом деле, для него: «6.021. Число есть показатель операции» [8. С. 181], т.е. натуральное число для него, как и для Канта — результат определенного повторяющегося действия. Действие является главным, что создает натуральные числа и определяет их свойства. Только, в отличие от Канта, для Витгенштейна это действие не требует внечувственного созерцания, достаточно возможности сколько угодно раз применять выбранную операцию (а такую возможность предоставляет, в конечном счете, логическое пространство, поэтому «6.22. Логику мира, которую предложения логики показывают в тавтологиях, математика показывает в уравнениях» [8. С. 196].
Витгенштейн много занимался философией математики в 30-е и 40-е гг. Математические объекты остаются для него знаковыми конструкциями, а критика логицизма становится все более последовательной и резкой. Для него неприемлемо представление о том, что законы логики более фундаментальны, чем имеющиеся математические практики. В частности, постоянной критике подвергается Фреге-Расселовское определение числа (согласно которому натуральное число есть множество равномощных множеств). Витгенштейн критикует расселовское построение натурального ряда за то, что оно неудобно, неявно уже использует представление о числах, отрывает отдельное числа от его места в ряду натуральных чисел. Он противопоставляет расселовскому построению число как результат последовательного применения операции прибавления еще одной единицы (см. например [13. P. 71—74, 76—77]).
В то же время Витгенштейна не оставляет вопрос, являются ли предложения арифметики синтетическими априори. Те немногочисленные упоминания Канта, которые можно встретить в его записях, связаны именно с этим. Но синтетичность Витгенштейн доказывает совсем не так, как Кант. Он стремится показать, что новые доказанные теоремы или разработанные техники производят изменения в имевшемся исчислении. Последнее становится другим. Понятно, что такое представление исключает претензию на то, что математические утверждения являются аналитическими. Ведь аналитические предложения не содержат новой информации и ничего содержательного не добавляют к имеющимся аксиомам, тогда как для Витгенштейна развитие математической теории это ее изменение, т.е. внесение чего-то нового. В частности, Витгенштейн говорит, что открытие периодичности рациональных десятичных дробей представляет собой построение новой техники и нового исчисления. И тут же добавляет: «Не является ли то, о чем я тут говорю, тем же, что имел в виду Кант, говоря, что 5 + 7 = 12 не аналитическое, а синтетическое априори» [15. P. 404]?
Граница, философия и человеческая экзистенция
Против нашей попытки показать то, что сближает Витгенштейна и Канта, может быть выдвинуто следующее возражение: никакие сближения не оправданы ввиду того, что Витгенштейн так дурно говорит о философии, объявляя ее утверждения и вопросы бессмысленными[8], тогда как Кантом руководит забота о судьбе и правильном развитии философии.
На подобное возражение можно ответить так: Витгенштейн действительно объявил в «Логико-философском трактате» философские утверждения бессмысленными и не сделал исключения ни для одного философа, в том числе и самого себя[9]. Ну а Кант? Не он ли писал, что: «В метафизике можно нести всякий вздор, не опасаясь быть уличенным во лжи» [9. С. 162]? Такое суждение по резкости недалеко отстоит от витгенштейновских оценок философии.
Мне представляется важным показать и здесь соприкосновение мысли Канта и Витгенштейна. Недаром и в «Логико-философском трактате», и в системе Канта такую принципиальную роль играет идея границы возможного познания (или осмысленного выражения). С точки зрения как одного, так и другого мыслителя эту границу соблюдает естествознание, тогда как метафизика (Витгенштейн чаще использует слово «философия») считает выходящее за означенную границу своей вотчиной. И за это метафизику (философию) порицают и Кант, и Витгенштейн.
Как показывает Кант, метафизика, пытаясь исследовать то, что недоступно человеческому познанию, говорит не о предмете, который якобы исследует, а о собственном способе выражения. Он учит, что трансцендентальные идеи указывают только на принципы систематического единства применения рассудка. «Если же принимают это единство способа познания за единство познаваемого предмета, если это единство, которое, собственно, есть чисто регулятивное, считают конститутивным… то это не более как ошибка в оценке собственного назначения нашего разума...» [9. С. 172—173].
Когда Витгенштейн говорит, что философские вопросы и утверждения обусловлены непониманием логики нашего языка, он имеет в виду, что функция языка это описание фактов, и тем самым задана граница того, что может быть описано осмысленными предложениями. Однако условием возможности описывать факты является логическое пространство. Если философы претендуют на описание более глубокого слоя существующей независимо от нас реальности, чем естественные науки, то они жестоко ошибаются. Они просто уткнулись, не понимая этого, в условия возможности любых описаний.
Но не учит ли Кант, что, пытаясь выйти за границу возможного опыта, метафизика только мнит, что описывает глубочайшую реальность, тогда как на самом деле она уткнулась в условия возможного опыта? Не имел ли в виду Витгенштейн что-то подобное, когда он однажды заметил: «§43. Граница языка проявляет себя в невозможности как-то иначе описать факт, соответствующий предложению (являющийся его переводом), чем просто повторяя это предложение. Мы здесь касаемся Кантова решения проблемы философии» [16. С. 421]?
Отвергая претензии метафизики на познание Бога, Кант заявляет: «Но мы держимся этой границы, если наше суждение не идет дальше отношения мира к той сущности, само понятие которой лежит вне всякого познания, доступного нам внутри мира. В самом деле, в этом случае мы не приписываем высшей сущности самой по себе ни одного из тех свойств, с которыми мы мыслим себе предметы опыта, и тем самым избегаем догматического антропоморфизма; но тем не менее мы приписываем эти свойства по отношению высшей сущности к миру и допускаем символический антропоморфизм, который на деле касается лишь языка, а не самого объекта» [9. С. 181]. Представляется симптоматичным, что в данном контексте Кант апеллирует к языку и значениям используемых выражений, предлагая нечто вроде лингвистического анализа, который показывает, что мы не можем выйти за пределы мира явлений.
И последнее, о чем необходимо сказать в данном контексте: для обоих мыслителей идея границы работает двояко: и на ограничение притязаний метафизики, и на расширение пространства, в котором разрешаются экзистенциальные проблемы. Самое важное для человека лежит за этой границей. В мире возможного опыта (мире фактов) бесполезно искать ценности и смыслы. Для обоих мыслителей такие вопросы неотделимы от вопроса об отношении между человеком и Богом[10].
Кант приступает к «Критике практического разума», доказав в «Критике чистого разума», что спекулятивное теоретизирование не может дать никакого знания, которое бы помогло в разрешении подобных вопросов. Зато практический разум, направляющий волю человека, имеет право на выход за пределы, указанные для теоретического разума, и на постулирование собственных объектов, каковы Бог, свобода и бессмертие души. Не метафизические спекуляции, учит Кант, а только личное нравственное усилие дает право на подобный выход за границы условий возможного опыта.
Витгенштейн в «Логико-философском трактате» показывает, что можно выразить осмысленными предложениями и каков мир, если его можно описывать таковыми. Он делает это, чтобы в конце заявить, что Бог, ценности и смысл жизни не в мире, а за его границей. Значит, бесполезно ожидать от ученых трактатов ответа на вопрос о смысле жизни. Следовательно, поиски смысла жизни — дело личной решимости и личного усилия, которое не может быть гарантировано никакими трактатами и системами.
Здесь, в этом последнем пункте мне видится одна из самых глубоких параллелей между двумя мыслителями: их убеждение, что есть граница, за которую не могут выходить положительная наука и метафизика, но которая имеет решающее значение для этики и самоопределения человека в этой жизни.
1 «5.552. «Опыт», в котором мы нуждаемся для понимания логики, заключается не в том, что нечто обстоит так-то и так-то, но в том, что нечто есть: но это как раз не опыт. Логика есть до всякого опыта — что нечто есть так. Она есть до Как, но не до Что» [8. С. 170].
2 «5.62. …Тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, что границы языка (того языка, который я только и понимаю) означают границы моего мира» [8. С. 174] «5.63. Я есть мой мир (микрокосм)» [8. С. 174].
3 «5.633. Где в мире можно заметить метафизический субъект? Ты говоришь, дело здесь обстоит точно так же, как с глазом и полем зрения. Ведь глаза ты на самом деле не видишь. И ни из чего в поле зрения нельзя заключить, что оно видится глазом» [8. С. 176].
4 «6.37. Не существует необходимости, по которой одно должно произойти потому, что произошло другое. Имеется только логическая необходимость» [8. С. 210].
5 Вот характерное рассуждение Анри Пуанкаре о принципах механики: «Если эти постулаты обладают общностью и достоверностью, каких недостает экспериментальным истинам, из которых они извлекаются, то это оттого, что они в результате произведенного анализа сводятся к простому соглашению, которое мы имеем право сформулировать, будучи заранее уверены, что никакой опыт не станет с ним в противоречие. Однако это соглашение не абсолютно произвольно; оно не вытекает из нашей прихоти; мы принимаем его, потому что известные опыты показали нам его удобство… Основные положения геометрии, как, например, постулат Евклида, суть также не что иное как соглашения, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истинны ли они или ложны, как задавать вопрос, истинна или ложна метрическая система… Опыты, которые привели нас к принятию основных соглашений геометрии в качестве наиболее удобных, относятся к вещам, которые не имеют ничего общего с объектами изучения геометрии, они относятся к свойствам твердых тел, к прямолинейному распространению света. А главное основание, по которому наша геометрия представляется нам удобной, — это то, что различные части нашего тела, наш глаз, наши члены обладают в точности свойствами твердых тел» [10. С. 89]
6 «6.341. Например, ньютоновская механика приводит описание мира к единой форме. Представим себе белую поверхность, на которой в беспорядке расположены черные пятна. Теперь мы говорим: какую бы картину они ни образовывали, я всегда могу сделать ее описание сколь угодно точным, покрывая эту поверхность частой сеткой, составленной из квадратных ячеек, и говоря о каждом квадрате, белый он или черный. Таким образом я буду приводить описание поверхности к единой форме. Эта форма произвольна, поскольку я мог бы с таким же успехом применить сетку из треугольных или шестиугольных ячеек… Различным сеткам соответствуют различные системы описания мира. Механика определяет форму описания мира…» [8. С. 202]. «6.342. … Тот факт, что картина, подобная вышеупомянутой, может описываться сеткой данной формы, ничего не говорит о картине… Также ничего не говорит о мире тот факт, что он может быть описан ньютоновской механикой, но, однако, о мире нечто говорит то обстоятельство, что он может быть описан ею так, как это фактически имеет место. О мире также что-то говорит тот факт, что одной механикой он может описываться проще, чем другой» [8. С. 204].
7 «6.371. В основе всего современного мировоззрения лежит иллюзия, что так называемые законы природы являются объяснениями природных явлений» [8. С. 210].
8 «4.003. Большинство предложений и вопросов, высказанных по поводу философских проблем, не ложны, а бессмысленны. Поэтому мы вообще не можем отвечать на такого рода вопросы, мы можем только установить их бессмысленность. Большинство вопросов и предложений философов вытекает из того, что мы не понимаем логики нашего языка» [8. С. 74].
9 «6.53. Мои предложения поясняются тем, что тот, кто их понял, в конце концов признает их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше них (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как взберется по ней)» [8. С. 218].
10 «Верить в Бога значит понимать вопрос о смысле жизни. Верить в Бога значит видеть, что фактами мира все не ограничивается. Верить в Бога значит видеть, что жизнь имеет смысл» ([13. P. 74] (Запись от 8.7.16).
About the authors
Zinaida A. Sokuler
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: zasokuler@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0602-4295
PhD in Philosophy, Professor, Chair of Department of Ontology and Theory of Knowledge
27-4 Lomonosovsky Prospekt, GSP-1, Moscow, 119991, Russian FederationReferences
- Kozlova MS. Specifics of Philosophical Problems: Position of L. Wittgenstein. In: Philosophical Ideas of Ludwig Wittgenstein. Moscow: Institute of Philosophy publ.; 1966. P. 132—134. (In Russian).
- Medvedev NV. Is Wittgenstein a follower of Kant? (Reflections on the proximity of the philosophical projects of the early L. Wittgenstein and I. Kant). Humanities. Bulletin of TSU. 1997;(1):22—32. (In Russian).
- Hanna R. Wittgenstein and Kantianism. A Companion to Wittgenstein. Glock H-J, Hyman J, editors. London: John Willey & Sons, Ltd; 2017. P. 682—698.
- Glock H-J. Kant and Wittgenstein: Philosophy, Necessity and Representation. International Journal of the Philosophical Studies. 1997;(5):285—305.
- Appelqvist H. On Wittgenstein's Kantian Solution of the Problem of Philosophy. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09608788.2016.1154812 (accessed: 09.03.2023).
- Livingston PM. Philosophy and the Vision of Language. London, N.Y.: Rutledge; 2008.
- Kant I. Criticism of Pure Reason. Moscow: Nauka publ.; 1998. (In Russian).
- Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. Moscow: Kanon+ publ.; 2008. (In Russian).
- Kant I. Prolegomena to any future metaphysics that can appear as a science. In: Works in 6 vols. Vol. 4. Pt. 1. Moscow: Mysl publ., 1965. P. 67—210. (In Russian).
- Poincare A. About science. Moscow: Nauka publ.;1983. (In Russian).
- Sokuler ZA. Logic in Ludwig Wittgenstein’s “Tractatus Logico-Philosophicus”. Bulletin of Moscow University. Ser. 7. Philosophy. 2022;(3):19—35. (In Russian).
- Kant I. On the first basis of the difference of sides in space. In: Works in 6 vols. Vol. 2. Moscow: Mysl publ.; 1964. P. 371—379. (In Russian).
- Wittgenstein L. Notebooks 1914—1916. 2nd ed. Oxford: Basil Blackwell; 1979.
- Frascolla P. Wittgenstein’s philosophy of mathematics. London, NewYork: Routledge; 1994.
- Wittgenstein L. Philosophische Grammatik. Frankfurt on the Main; 1973.
- Wittgenstein L. Culture and values. In: Philosophical works. Pt. I. Moscow: Gnosis publ.; 1994. P. 407—492. (In Russian).
Supplementary files