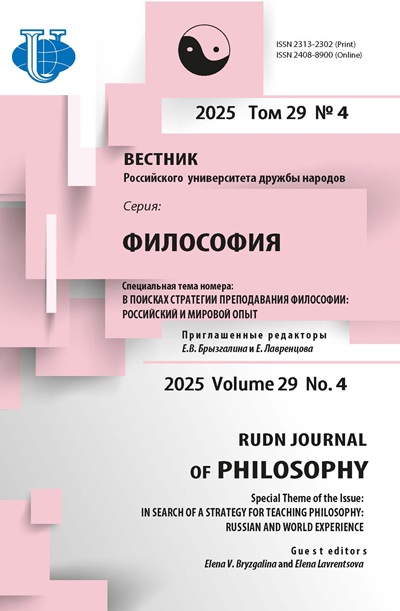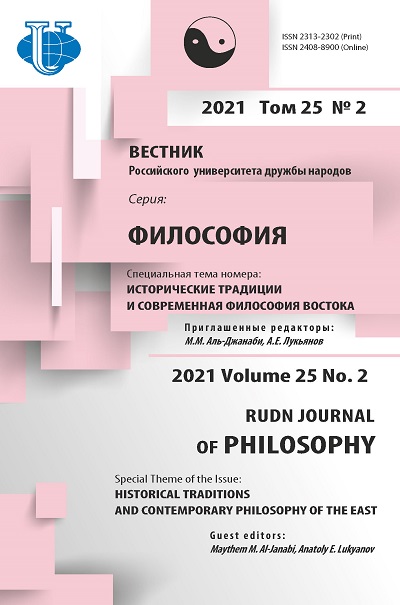Forgotten Ways of Peacekeeping: A Review of the Book «Peace and War: Historical, Philosophical, and Anthropological Perspectives»
- Authors: Kumankov A.D.1, Chaganova D.N.1
-
Affiliations:
- National Research University «Higher School of Economics»
- Issue: Vol 25, No 2 (2021): HISTORICAL TRADITIONS AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF THE EAST
- Pages: 355-363
- Section: SCHOLARLY LIFE
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/26678
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2021-25-2-355-363
- ID: 26678
Cite item
Full Text
Abstract
-
Full Text
Рассматривая философские подходы к вечным проблемам войны и мира, авторы современного сборника «Мир и война: Исторические, философские и антропологические перспективы»1 очерчивают идейное пространство между трактатами «К вечному миру» И. Канта и «Левиафан» Т. Гоббса. Человечество до сих пор ищет оптимальные варианты решения конфликтов, отталкиваясь от двух крайностей: недостижимого кантианского «вечного мира» и недопустимого состояния постоянной bellum omnium contra omnes. При обнаружении подобного тупика, как утверждает группа авторов данной книги, «фундаментально важно обратиться за советом к научной рефлексии, если мы действительно хотим добиться [прекращения войн и достижения более устойчивого мирного состояния]»[2] [5. P. 4]. В данном случае философия выступает в качестве площадки, на которой встречаются разнообразные подходы и практики в попытке расширить возможности для миротворчества в современном мире. Таким образом, сборник «Мир и война» предлагает читателю междисциплинарные исследования в попытке иными, отчасти забытыми, путями прийти к миру и благосостоянию народов. В десяти главах представлены историко-философские и антропологические рассмотрения различных сюжетов войны и миротворчества, от концептуализации насилия в древних книгах до проблем современного образования.
Книга написана коллективом ученых и исследователей из разных университетов мира и встраивается в магистральные философские движения современности, следуя за феминистскими исследованиями аспектов миротворчества [7], которым до выхода данного сборника было уделено недостаточно внимания, с целью сделать угнетаемые сообщества более заметными в дискурсе войны и мира. Редакторами сборника выступили профессор Кардиффского университета, Emeritus Ноттингемского университета (Великобритания), автор книг в области политики и образования [3; 4] У. Дж. Морган и А. Гильерме, профессор Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия).
Сборник открывает глава «Критика войны и видение мира Бартоломе де лас Касаса» посвященная пацифистской просветительской деятельности священника из доминиканского ордена Нового времени в эпоху Испанской конкисты. Ее автор, доцент Д.Т. Орик (Orique), руководитель Латиноамериканских исследований (Providence College, США), воспроизводит аргументы католического священника против несправедливых испанских завоеваний Нового Света. Лас Касас, характеризуя коренные народы Америки как «разумные, свободные и социальные» [5. P. 21], выступал против войн с целью завоевания земель и насильственной евангелизации, которые полагал нелегальными «без санкционирования Короной» [5. P. 25]. Распространение же христианского учения, по Касасу, должно осуществляться мирным убеждением; и тех, кто проповедовал мечом, доминиканец советовал отлучить от церкви. Так, автор, с одной стороны, предлагает читателю глубокое историческое исследование фигуры лас Касаса, однако с другой стороны ограничивается перечислением публикационных и социально-политических вех из жизни доминиканца, оставляя попытку подведения итогов о его роли в миротворчестве или об актуальности его наследия в современном мультирелигиозном мире.
В главе «Сердце Дао дэ цзин: ненасильственная личность» под авторством Т. Пинна из Государственного Университета Кеннесо (США), сфокусированного на восточных религиозных концепциях мира, рассматриваются духовные практики ненасилия, упоминания о которых можно заметить в «Дао дэ цзин» — книге для эффективного ведения войн китайскими правителями. Исследователь утверждает, что наша истинная идентичность не связана с насилием и «невинна» [5. P. 33], а ведение войн связано с забвением человечеством своей природы. «Дао дэ цзин» может, как утверждает Пинн, быть прочитана в пацифистском ключе благодаря фигуре Мудреца, живущего в соответствии с дао, а метафорика книги полна мирных образов: «вода служит замечательным примером принципиального ненасилия, который мы могли бы перенять» [5. P. 38]. Пинн, указывая на неправильную трактовку исследователями wu-wei, предлагает понимать wu-wei, отсутствие сопротивления, не как недеяние (non-action), но как действие, несущее жизнь [5. P. 41]. Наконец, в данной главе выделяются три активных компонента ненасилия как черты личности: сострадание — источник отваги действовать так, как поступил бы каждый человек; умеренность — способность остановиться в своих нуждах; и отказ от стремления стать лучше всех. Рассматривая видение мира в даосизме и вне него, автор предлагает даосистское мировоззрение в качестве практики личностной трансформации для привнесения в нашу жизнь мира и гармонии, однако эта практика может быть применена исключительно в контексте индивида.
Далее, исследователь философии религии и теологических оснований децизионизма М. Хёльцль (Hoelzl) из Манчестерского университета (Великобритания) и А. Цвиттер (Zwitter), декан кафедры международных отношений в Гронингенском университете (Нидерланды), специализирующийся на этике гуманитарной деятельности, рассматривают влияние августинианской концепции войны и мира на политические теории XX века. В главе прослеживается «Августинианское наследие божественного мира и земной войны» в немецкой реальной политике (Realpolitik) и британском политическом реализме. Исследователи отмечают, что подобное переоткрытие Августина вызвано опытом мировых войн: в то время как «децизионистская Realpolitik Шмитта сформирована под влиянием Первой мировой войны и постоянной угрозы гражданских войн в период Веймарской республики», «этическая Realpolitik Ганса Моргентау, в особенности его эссе о зле 1945 года, должно быть, служит ответом на ужасные события Второй мировой войны» [5. P. 67]. Отмечена близость проекта политической теологии Шмитта с августинианским, ведь его «концепция политического, построенная на отношении [друга и врага], предполагает [их] крайний антагонизм, который не так далек от антагонизма civitas Dei и civitas terrena у Августина» [5. P. 59]. Таким образом, осуществлена нестандартная постановка вопроса войны и мира в контексте оппозиции града Божьего как перспективы мира и града земного как столкновения с вооруженными конфликтами. Авторы главы помещают августинианский концепт справедливой войны в современный контекст тотальной войны, когда враг абсолютизируется ввиду различных ценностных ориентиров сторон. Стоит отметить, что августинианское наследие внутри теории справедливой войны едва ли можно переоценить, однако связь его концепции с дискриминационной войной кажется нестандартным шагом в исследованиях войны и мира.
Профессор У. Дж. Морган фокусируется на явлении британского пацифизма, а также его оценок различными идеологическими и классовыми группами общественности в межвоенный период в главе «Пацифизм или буржуазный пацифизм? Хаксли, Оруэлл и Кодуэлл». Британская политика межвоенного периода характеризуется как зрелая и поистине либеральная, поскольку она не препятствовала общественным пацифистским движениям, направленным даже против «оправданных» для Англии войн [1. P. 146]. Эссе и новеллы Хаксли рассматриваются как яркие примеры английского пацифизма 30-х гг. в интеллектуальной сфере, однако сами его представления характеризуются как слишком идеализированные. В конце карьеры Хаксли называл ненасилие «единственной правильной реакцей на внешнеполитические проблемы после войн» [8. P. 62]. Отмечается, что и Оруэлл, и Кодуэлл критиковали пацифизм Хаксли за «буржуазность» из-за понятия «индивидуального спасения» в системе последнего, в то время как сам Оруэлл был глубоко противоречив в своих взглядах на войну и мир, а Кодуэлл использовал исключительно марксистскую призму при рассмотрении этих вопросов. Пацифизм Оруэлла имеет скорее форму антимилитаризма, а в особенности антигитлеризма: «Мы, пацифисты, … стремимся предложить способ сопротивления, который единственный [из всех] может победить гитлеризм» [6. P. 390]. К. Кодуэлл же ярко критикует пацифизм как отказ от любых форм войны [5. P. 88] и указывает, что насилие, позволяющее освободиться от буржуазных отношений, предпочтительно [5. P. 89]. Морган предлагает оригинальную перспективу историко-философского разыскания, но в большей степени фокусируется на сопоставлении взглядов других исследователей на оппозицию британских интеллектуалов XX в.
Обсудив представления о пацифизме в Великобритании в межвоенный период, мы вновь возвращаемся к континентальным философам и сюжету реализма. Можно проследить некоторую взаимосвязь главы «Жюльен Фройнд о войне и мире: мягкий реализм», под авторством специалиста по либеральной и консервативной политической мысли во Франции Д. Розенберга, и вышеупомянутого исследования о влиянии Августина на Realpolitik XX века. Мягкая версия реализма Фройнда, принадлежащего к полемологической школе Г. Бутуля, сложилась в основном под влиянием К. Шмитта и Р. Арона, однако автор характеризует Фройнда как сильного мыслителя в духе Макиавелли, предложившего оригинальную критику концепта человеческих прав, международного права и других ключевых понятий либеральной мысли [5. P. 98]. Тематика войны и мира особенно волновала Фройнда: для него, вслед за Шмиттом, «вражда пронизывает все поле политики в качестве одной из трех [ключевых] „предпосылок“ категории политического» [5. P. 99]. Так, теория войны Жюльена Фройнда служит «мягкой» версией реализма, поскольку философ склонен рассматривать войну как продолжение любых политических отношений, но в то же время подчеркивает зависимость отношений вражды от множества внешних обстоятельств, тем самым отвергая абсолютизм Шмитта. С исторической стороны отмечается, что французский теоретик выделил в истории развития войны две тенденции: войну модерна, ведомую по определенным правилам благодаря появлению государства и его институтов, и тотальную войну, которая, от Французской революции и до наших дней, ведется вне установленного модерном порядка. Данное исследование выделяет Фройнда из ряда иных политических реалистов и демонстрирует нам взгляд на войну и мир, согласно которому структура конфликта сопутствует политическим взаимодействиям, однако уже потеряла свое первостепенное значение, поскольку она формируется различными социальными условиями, политическими ситуациями и логикой исторического развития.
Дж. М. Анг, эксперт по этике войны Университета социальных исследований в Сингапуре (Малайзия) и автор книги «Сартр и нравственные ограничения войны и терроризма», обосновала в главе «Революционная война и мир» феноменологическое понимание революции с привлечением философского наследия Х. Арендт и Ж.-П. Сартра. Исследовательница выстраивает тонкую систему политических понятий, среди которых революция выступает некоторой структурой, реагирующей на угрозу жизни per se. Так, через призму политических философов XX века Анг трактует насилие, порожденное революцией, как средство восстановления своей человеческой природы и борьбы за права и свободы. Вслед за Арендт автор отмечает, что мы «давно вступили в эпоху „тотальной войны“, когда различие между военными и гражданскими столь мало» [5. P. 119]; однако не соглашается с Арендт, что война уходит из сферы политики. Трактуя революцию как манифестацию человечности вслед за Сартром, Дж. Анг пишет: «…утверждая человечность, [и тем сдерживая] революционное насилие, мы можем выделить войну как продолжение политики иными средствами и войны, произошедшие по причине недавних восстаний и преследующие гуманитарные цели» [5. P. 129]. Согласно Анг гуманитарное вмешательство должно способствовать достижению целей, во имя которых поднялось народное восстание, а не множить насилие. Вместе с тем революция, открывающая путь гуманитарной войне, всегда должна иметь меру разрушения, и тогда последняя послужит приближению лучшего будущего народа. В результате мы видим, как революция и следующая за ней гуманитарная интервенция, при необходимых моральных ограничениях, рассматриваются Дж. Анг как потенциально живительные практики, которые способствуют восстановлению заслуженных условий мирной жизни.
Герменевтическую трактовку насилия предлагает Дж. Суйак (Souillac), специалистка по исследованиям мира и конфликтов в Университете Северной Каролины (Гринсборо, США), в главе «Катастрофа и превращение: культура, конфликт и насилие в герменевтике Рене Жирара». Понятие насилия в понимании Жирара плотно связано с культурой, в то время как классическая характеристика войны как продолжения политики другими средствами отрицается теоретиком. Особого внимания заслуживает его тезис о миметическом соперничестве, пронизывающем человеческую культуру. Антропология Жирара построена на понятии желания подражать, которое с древних времен служит основой социального взаимодействия. Далее возникает герменевтика конфликта: насилие необходимо проникает в социокультурное пространство как следствие соперничества. Согласно трактовке Суйак, насилие как структура и постоянная угроза тотальной войны служат в герменевтике Жирара поводом к пересмотру этики в сторону «этики себя» и отказа от традиционных форм конкуренции, несмотря на его довольно пессимистичный взгляд на современное общество как на общество апокалипсиса. Ненасилие может стать секулярной практикой в контексте нового видения религии или взаимодействия с продуктами культуры и знания, то есть «человеческий опыт диалога во время образования может способствовать развитию навыка разрешать конфликты, и [тем самым] круг насилия может быть разомкнут» [5. P. 149]. Так, исследование демонстрирует, как возможна переориентация человека на мир как культурную ценность внутри герменевтической системы Рене Жирара, вместе с тем прорисовывая возможные ходы к критике обширного корпуса французского теоретика.
В рамках рецензируемого сборника особенно важен тезис о значимости образования для возможности распространить миротворческий дискурс и осведомленности о формах и опасности насилия. Эту мысль проводит и глава «Обучаться миру: способ Монтессори» под авторством П.Д. Балигаду (Baligadoo), специалистки в области образования и межконфессиональных исследований, под влиянием педагогической системы Марии Монтессори. Исследовательница контекстуализирует и воспроизводит «мирную философию» Монтессори, учитывающую проблемы несправедливости, нищеты, а также дискриминации в образовании и других областях. Монтессори, как известно, и сама пострадала от ужасов войны, и потому наибольшее внимание уделяла идее воспитания в детях ценностей мира и культурного развития. Так, дискурс миролюбивого воспитания становится особенно актуален в межвоенный период: общей тенденцией было уделять большое внимание истории и географии в школьном обучении, однако опыт Второй мировой войны показал, что подобного изучения недостаточно для воспитания людей, не поддающихся искушению войны [5. P. 161]. Монтессори обратила внимание на другие аспекты обучения детей, указывая, что «предотвращение конфликтов — работа политиков; утверждение же мира — задача образования» [2. P. 24]. Особенностями «обучения миру» по методу Монтессори служат активное обучение, основанное на пробуждении «искреннего интереса» у ребенка [5. P. 166], ведение диалога с учеником, внимание со стороны педагогов к его нуждам и правам, а также включение ребенка в реальные жизненные ситуации, что подготовит его к взаимодействию с государством и обществом в роли ответственного гражданина. Ключевым моментом педагогики на пути к миру является работа в классе, которая исключает враждебную конкуренцию, способствуя умиротворенной обстановке. Автор главы заключает, что Монтессори не получила достаточной поддержки своей теории, но утверждает, что ее метод может быть успешно реактуализирован сегодня.
Заключительная глава под авторством Ю. Омара и А. Бадрудина, специалистов по социологии образования в Университете Кейптауна (Южная Африка), посвящена проблемам современного образования в Африке: авторы рассматривают, как концептуализируется насилие в школах Африки в эпоху постапартеида. Статья представляет философски-социологическое исследование на основе эксперимента, проведенного в Восточно-Капской провинции (Южная Африка) в 2015 году, и тем самым плавно завершает сборник, перенося вопросы войны и мира на современную почву и поднимая острые социальные вопросы. В ней проблематизируется расхождение между представлениями о мире и насилии, которые преподаются детям, и непосредственными условиями их жизни, а также условиями преподавания этих представлений, ведь детское и подростковое насилие, вызванное расовыми, классовыми, гендерными и другими различиями, и сегодня остается острой проблемой в Африке. Проблема насилия в эпоху постапартеида поднимает вопрос, как можно достичь справедливого мира: иначе говоря, как найти условия, удовлетворительные для сосуществования людей с противоположно разными верованиями и образом жизни. Авторы главы обращают внимание, что в современном мире довольно сложно апеллировать к насилию, поскольку «узкое» понимание этого понятия сохраняется. Обращаясь к наследию Жижека и Бурдье, Омар и Бадрудин утверждают, что претензия на культурное и социальное господство все еще может сохраняться через символическое насилие, которое «через символы и подсознательные стимулы нормализует менее заметные формы насилия в [нашем] повседневном мышлении» [5. P. 179]. После проведения исследования в 10 африканских городских и сельских школах обнаружилось, что даже после прекращения политики расовой сегрегации преподаватели, концептуализирующие «мир», не наблюдают его, поскольку вынуждены постоянно сталкиваться с насилием в широком смысле: исключением, ограничением в ресурсах и заброшенностью. Тезис исследования «Мир и насилие в бедных сельских школах Африки в эпоху постапартеида» заключается в том, что нам необходимо научиться выявлять и смягчать повседневное насилие во всем разнообразии его форм, и именно это умение конституирует миротворчество в области современного образования.
Таким образом, глава подводит итоги всего сборника, посвященного малоисследованным путям миротворчества. Философская рефлексия над понятием «мира» должна непрестанно продолжаться, чтобы дать человечеству возможность избежать не только открытого, но и символического насилия, проявляющегося в самых разнообразных культурных, социальных и экономических формах.
Книга «Мир и война» довольно эклектична в разнообразии подходов к преодолению насилия. Она предлагает читателю ознакомиться и критически осмыслить десять различных междисциплинарных — исторических, философских и антропологических — подходов к решению вечной проблемы войны и мира, от мировоззрения, изложенного в древних книгах, до практик современного образования. Каждое исследование возвращает в современное идейное поле забытые или недостаточно проработанные концепции, так или иначе подтверждающие необходимость преодолеть насилие с помощью ученой рефлексии. Подчеркивая первичное значение мира, авторы еще раз привлекают внимание и теоретиков войны, и общественности к мысли, что практики миротворчества необходимо постоянно искать не только чтобы прекратить начавшийся вооруженный конфликт, но скорее чтобы предотвратить неявное насилие в повседневной жизни.
1 Morgan W.J., Guilherme A., editors. Peace and War: Historical, Philosophical, and Anthropological Perspectives. Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, Palgrave Macmillan, 2020.
2 Здесь и далее перевод авт., Дарьи Чагановой.
About the authors
Arseniy Dmitrievich Kumankov
National Research University «Higher School of Economics»
Author for correspondence.
Email: akumankov@hse.ru
PhD in History of Philosophy (HSE), Deputy Dean for Research, Associate Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities
20, Myasnitskaya St., Moscow, 101000, Russian FederationDaria Nikolaevna Chaganova
National Research University «Higher School of Economics»
Email: d-chaganova@mail.ru
Master student, Master Programme «Philosophical Anthropology», School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities
20, Myasnitskaya St., Moscow, 101000, Russian FederationReferences
- Ceadel M. A Legitimate Peace Movement: The Case of Interwar Britain, 1918-1945. In: Brock P, Socknat TP, editors. Challenge to Mars: Essays on Pacifism from 1918 to 1945. Toronto and London: University of Toronto Press; 1999. P. 134-148.
- Montessori MM. Education for Human Development: Understanding Montessori. Oxford: Clio Press; 1992.
- Morgan WJ, editor. Politics and Consensus in Modern Britain. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, Palgrave Macmillan; 1988.
- Morgan WJ, Preston P. Raymond Williams: Politics, Education, Letters. New York: St. Martin’s Press; 1993.
- Morgan WJ, Guilherme A, editors. Peace and War: Historical, Philosophical, and Anthropological Perspectives. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, Palgrave Macmillan; 2020.
- Orwell G. Essays, 65. London: Everyman’s Library; 2002.
- Sylvester Ch. War as Experience: Contributions from International Relations and Feminist Analysis. London and New York: Routledge; 2013.
- Thody Ph. Aldous Huxley: A Biographical Introduction. London: Studio Vista; 1973.
Supplementary files