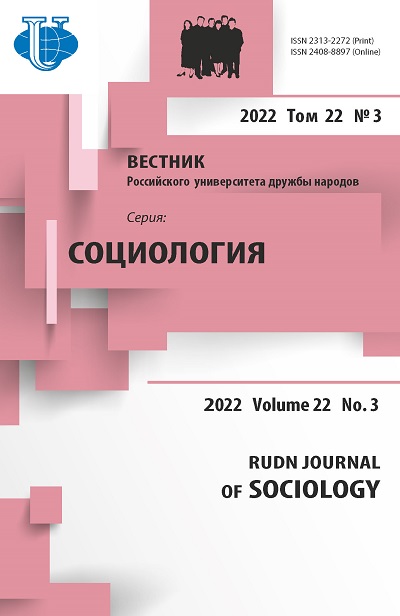Поле судебного перевода: организационные структуры и формы капитала
- Авторы: Масловская Е.В.1
-
Учреждения:
- Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 22, № 3 (2022)
- Страницы: 590-604
- Раздел: Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/32041
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-3-590-604
- ID: 32041
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена анализу поля судебного перевода в современной России. В фокусе внимания автора - бюро, специализирующиеся на переводе с языков народов постсоветских государств. Теоретической рамкой исследования выступает социологический подход к изучению деятельности переводчиков и концепция П. Бурдье, включая его анализ юридического поля. В настоящее время в литературе, посвященной деятельности судебных переводчиков, используются отдельные понятия социологии Бурдье, но в полной мере потенциал его общесоциологической теории и концепции юридического поля остается невостребованным. В качестве основного эмпирического метода выступают полуструктурированные интервью с судебными переводчиками, руководителями бюро переводов, следователями и адвокатами. Согласно результатам исследования, поле судебного перевода в современной России характеризуется слабой структурированностью, стратифицированностью институциональных акторов, разнообразием организационных и управленческих подходов. Реляционная и динамическая перспектива Бурдье позволила выявить процесс формирования и трансформации границ профессиональной группы судебных переводчиков в результате конкурентной борьбы держателей разных видов капитала. Раскрыта роль этнического капитала в функционировании бюро переводов. Сделан вывод, что особенности рекрутинга судебных переводчиков в значительной степени зависят от требований институциональных акторов юридического поля. Выделены факторы, определяющие различия в условиях работы судебных переводчиков: редкость языков, которыми они владеют, способность выстраивать отношения по обмену услугами с руководителем бюро, постоянные рабочие отношения с правоприменителями. Продемонстрированы преимущества концепции Бурдье для анализа структуры бюро переводов. Показано, как меняющееся соотношение символической цены статуса переводчика, его габитуса и формальной позиции в организации влияет на динамику развития бюро переводов и на расклад сил в поле судебного перевода. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что акторы юридического поля оказывают определяющее влияние на позиционную борьбу в поле судебного перевода.
Ключевые слова
Полный текст
Потребность в социологическом анализе поля судебного перевода обусловлена необходимостью понимания того, как интерпретируются и реализуются различными группами акторов нормы законодательства, регулирующие участие переводчика в уголовном судопроизводстве, каковы условия работы переводчиков, какие факторы влияют на их профессиональное поведение. Кроме того, изучение профессиональной деятельности переводчиков важно для понимания того, как в России связаны миграционная политика, реалии культурного многообразия и специфика правоприменительных практик.
Понятие этнического капитала применялось для анализа трансформаций сообществ мигрантов, в частности, в США [29], но не использовалось для изучения особенностей рекрутинга судебных переводчиков, траекторий их карьерного пути, складывающихся между переводчиками формальных и неформальных отношений, а также особенностей функционирования бюро переводов. Возможно, одна из причин — высокий уровень институционализации профессии судебного переводчика в западных странах, для которых характерно наличие стандартизированной инфраструктуры подготовки, аккредитации или сертификации переводчиков. Опыт многих стран свидетельствует о том, что подобная система способствует внедрению единых правил, препятствует сегментированию рынка услуг по переводу и распространению неформальных практик.
Российская специфика заключается в отсутствии единой государственной службы по оказанию услуг по судебному переводу, а также в том, что рынок переводческих услуг децентрализован и коммерциализирован. Если в 1990-е годы официальные переводческие службы существовали только в структуре государственных учреждений, то в последнее время большинство организаций, предоставляющих широкий спектр переводческих услуг, — это компании малого и среднего бизнеса. Критерием различения бюро переводов является не только тип юридического лица, но и набор языков, с которых осуществляется перевод. В частности, отдельный сегмент поля переводов образуют бюро, объединяющие носителей языков народов постсоветских государств. В статье исследуется, как различные формы капитала преломляются в функционировании бюро переводов, специализирующихся на переводе с языков народов бывших советских республик. Учитывая, что данное сообщество судебных переводчиков крайне неоднородно, выделены критерии стратификации данной профессиональной группы.
Комплексность роли судебного переводчика и проблемы, связанные с его присутствием и действиями, способствовали появлению противоположных взглядов на функции переводчика. В рамках ‘translation studies’ долгое время преобладала точка зрения, согласно которой судебному переводчику следует дословно воспроизводить сказанное с одного языка на другой, сохраняя нейтральность и оставаясь «невидимым» [8], т.е. предполагалось, что в ходе обучения и профессиональной практики формируются паттерны сервильности и невидимости, которые определяют переводческий габитус.
«Культурный поворот» в социальных науках, наметившийся с конца 1980-х годов, усилил интерес исследователей к исторически сложившимся условиям и контексту переводческой деятельности. Было выявлено неравенство участников коммуникации и продемонстрировано, что перевод не может быть нейтральным [7. C. 136]. Судебного переводчика начали рассматривать в качестве активного участника коммуникативного взаимодействия, посредника между культурами, который берет на себя функцию «адвокатирования» [27] или занимается «примирением» сторон [20]. Одной из главных задач переводчика была провозглашена поддержка задержанного или подсудимого как фигуры, уступающей стороне обвинения, которая обладает превосходящими властными ресурсами. Перевод стал соотноситься «с борьбой за деколонизацию и политические права, а переводчики оказались вовлечены в продвижение эмансипации маргинализированных и дискриминируемых групп» [28. C. 140].
Расширительное понимание роли переводчика в судопроизводстве представлено в работах авторов, считающих, что судебный переводчик может существенным образом влиять на «конструирование» уголовного дела, выступая экспертом в области лингвистики, культуры и даже права страны обвиняемого, а также представляя юристам гуманистически окрашенный образ обвиняемого [6; 13]. Эмпирические исследования показали, что переводчики все чаще рассматривают себя как культурных медиаторов или брокеров. В некоторых европейских странах термин «культурный медиатор» начали использовать как обобщающее понятие, а термины «переводчик» и «культурный медиатор» — как взаимозаменяемые. В ходе дискуссии о возможных последствиях данной тенденции ряд исследователей обратили внимание, что отождествление деятельности переводчика и культурного медиатора порождает амбивалентность и неопределенность в понимании роли и функций переводчика и может отрицательно сказаться на развитии профессионального поля перевода [14; 24].
В рамках социологического поворота сместился акцент в понимании перевода — как практики, осуществляемой в определенном социальном контексте. Авторы социологически ориентированных исследований сфокусировались на изучении института подготовки судебных переводчиков и профессиональных ассоциаций, самопрезентации переводчиков, условий их работы, различий в представлении о функциях и роли переводчика в юридическом контексте [15; 18; 21; 23]. В некоторых работах использовались отдельные понятия социологической теории П. Бурдье, но не его подход к анализу формирования профессиональных групп. Вместе с тем недостаточно учитывались такие конституирующие взаимодействие юристов и переводчиков характеристики, как асимметричность властных отношений, слабые ресурсные позиции переводчика, различающиеся цели и интересы данных групп акторов.
Разработанные Бурдье общесоциологические понятия (поле, габитус, капитал и символическое доминирование) привносят аналитическую самобытность в объяснение того, почему одни переводчики поддерживают правоприменителя и выступают на стороне следствия, другие стремятся помочь обвиняемому, а третьи — «угодить» обеим сторонам, следуя собственным карьерным или финансовым интересам. Вместо того, чтобы презюмировать существование переводчиков как профессиональной группы, реляционная и динамическая перспектива Бурдье обращает наше внимание на оспариваемый процесс ее формирования. Данный подход помогает раскрыть, как конкурентная борьба между держателями различающихся видов капитала сосредотачивается на локализации и значении границ профессиональных групп, способствуя их формированию и трансформации. Осмысление Бурдье позиционной борьбы, символического капитала и ‘illusio’ как основанной на интересе «вовлеченности в игру» [2. C. 400] позволяет объяснить стратегические действия отдельных переводчиков, отстаивающих свою профессиональную автономию. Наконец, взгляд Бурдье на природу символического доминирования современного бюрократического государства проливает свет на центральную роль, которую правоприменительные органы играют в формировании позиционной борьбы в поле перевода.
Релевантной для социологического изучения взаимодействия правоприменителей и судебных переводчиков является и концепция юридического поля Бурдье [2. C. 75–128], оказавшая значительное влияние на социологию права [12]. Данная концепция раскрывает специфику взаимодействия между акторами, обладающими разными интересами и ресурсами. В частности, согласно Бурдье формирование юридического поля предполагает установление границы между носителями юридического капитала и не-юристами. В рамках логики функционирования юридического поля последние могут выступать только клиентами специалистов, обладающих необходимой компетенцией, или инструментально использоваться ими.
Концепция Бурдье лучше применима для анализа таких текучих и аморфных организационных единиц, как бюро переводов, по сравнению с подходом, сторонники которого рассматривают организации «как базовые единицы социальной структуры, аналогичные отдельным организмам» [11. C. 9]. Опираясь на теорию Бурдье, можно рассмотреть бюро переводов не столько как совокупность сотрудников, возглавляемых руководителем, сколько как структуру — соотношение позиций и диспозиций акторов. Соответственно, отношения, которые складываются внутри бюро, могут быть концептуализированы сквозь призму концепции Бурдье, поскольку она «позволяет включить управленческие практики в социальную сферу и понять стратегии социальных субъектов в соответствующей сфере (принятие, сопротивление), особенно через властные отношения и символическое доминирование… в организациях» [26. C. 15].
Для вступления в бюро переводов потенциальному сотруднику необходимо обладать определенной конфигурацией характеристик — видов специфического капитала. В отличие от исследователей, сфокусированных на экономическом, социальном и человеческом капитале, Бурдье демонстрирует важность таких форм капитала, как культурный и символический. В сегменте поля судебного перевода с языков народов постсоветских стран значим и этнический капитал — как совокупность материальных и символических ресурсов, доступ к которым облегчает принадлежность к определенной этнической группе [17. C. 357–359]. Использование концепции Бурдье для понимания этнического капитала позволяет понять, как мигранты в ответ на требования принимающего государства «инвестируют» свой этнический капитал и, в конечном итоге, выступают как акторы, выстраивающие собственные стратегии и эффективно использующие имеющиеся у них ресурсы [16. C. 264–265]. Один из источников влияния в бюро переводов — символический капитал, включая признание переводчика со стороны сотрудников правоохранительных и судебных органов. Борьба вокруг признания руководителем бюро символического капитала сотрудников нередко является одним из важнейших драйверов организационной динамики.
Выявление структуры организации предполагает определение ключевых фигур/групп и оценку видов капитала, которым они обладают и который выступает ставкой в их взаимодействии. При этом важно различать формальные позиции, которые занимают акторы, от объема и структуры форм капитала, которым обладает каждый из них. Габитус — порождающий принцип, сформировавшийся из упорядоченной импровизации [1. C. 111] — позволяет раскрыть гомологичность и взаимосвязь между формальной позицией актора (как выражением объема и видов капитала) и его позиционированием внутри организации (как набором семантических и культурно обусловленных заявлений и действий). Габитус как система диспозиций, обусловленная социальным происхождением и последующими жизненными траекториями, определяет «пространство возможностей» в конкретной сфере деятельности и структурирует восприятие некоторых из этих возможных позиций как более подходящих или желательных, чем другие.
Упущением традиционной перспективы изучения организаций является игнорирование внутриорганизационных конфликтов. С позиций концепции Бурдье разногласия и конфликты — следствие осознания растущего несоответствия между габитусом сотрудника и его положением в организации. «Специфическая эффективность габитуса может быть ясно видна во всех ситуациях… когда диспозиции агента, поднимающиеся или опускающиеся в социальной структуре… расходятся с позицией, которую занимает агент» [9. C. 214]. Поскольку любое бюро переводов встроено в сеть отношений с организациями юридического поля и в более широкий комплекс полей, результат борьбы внутри бюро определяется не только внутренней организационной структурой, но и символическим капиталом акторов, приобретенным за пределами организации. Результаты конфликтов могут принимать вид стратегических действий, приводящих к изменению динамики развития организации.
Таким образом, в качестве теоретической рамки исследования выступает композиция социологического подхода к изучению деятельности переводчиков, теории Бурдье и его концепции юридического поля. Исследование проведено с опорой на качественную методологию — полуструктурированные интервью с переводчиками, руководителями бюро, следователями и адвокатами в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — в 2019–2020 годы. Были использованы материалы сайтов бюро переводов и некоммерческих организаций, оказывающих социальную и правовую помощь мигрантам.
Поле судебного перевода в современной России: общая характеристика
С позиций социологии профессий судебный перевод может быть отнесен к «новым профессиям» [22], которые еще не связаны четко определенной профессиональной траекторией с конкретными правилами доступа, признанным уровнем социального престижа и рассчитываемыми шансами на получение дохода. В силу слабо институционализированных отношений обмена между инвестициями и социальным признанием, новые профессии, в том числе профессия судебного переводчика, порождают краткосрочные биографические стратегии прекарного характера. Судебные переводчики, действующие на пересечении различающихся профессиональных логик — переводческой и юридической, выступают как представители «гибридной» профессии [10; 22]. В терминологии Бурдье пространство судебного перевода можно охарактеризовать как зону структурной неопределенности.
Слабость поля судебного перевода в современной России конституирована государством, поскольку, согласно законодательству, работа переводчика не требует наличия специальных навыков и компетенций, а предполагает лишь «свободное владение языком», т.е. границы этого поля изначально размыты, и их установление, тем более поддержание, требует значительных усилий индивидуальных и институциональных акторов. Все более активную позицию в складывающемся поле судебного перевода занимают юристы, в том числе получившие дополнительное лингвистическое образование. Привлекая сторонников в новом руководстве Союза переводчиков России (СПР), заинтересованного в укреплении статуса организации в качестве ведущего институционального актора, юристы предлагают содействие в реализации планов по развитию, стандартизации и сертификации отраслевых направлений перевода, а руководители СПР выражают намерение добиваться легитимации своей монополии и сферы полномочий в пределах рынка переводческих услуг, в том числе посредством более высоких профессиональных стандартов.
Однако каким бы слабо структурированным ни было поле перевода, оно является стратифицированным. В целом бюро переводов различаются по юридическому статусу, стилю менеджмента, особенностям рекрутинга сотрудников, набору языков, диапазону сфер, в которых осуществляется деятельность, и специфике сетевых отношений за пределами поля перевода. В крупных переводческих кампаниях, занимающих топовые позиции в поле перевода, сотрудники работают с широким спектром иностранных языков, в устном и письменном форматах и заняты практически во всех сферах — от международных конференций до суда и медицинских учреждений, а основным критерием подбора сотрудников выступает наличие инкорпорированной формы культурного капитала. Бюро, специализирующиеся на переводе с языков народов бывших советских республик, образуют низовой сегмент поля: перевод в судах и отделениях полиции является одним из основных направлений их деятельности, а сотрудники рекрутируются, прежде всего, из диаспор.
Борьба за границы поля, ведущаяся отдельными группами акторов, и возникающая в результате этого стратификация, вынуждает тех, кто претендует на занятие доминирующих позиций, усиливать требования к стандартам деятельности судебного переводчика. Инициативная рабочая группа из юристов-преподавателей (один — одновременно руководитель переводческой компании) и председателя правления СПР разработала проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием Единого государственного реестра судебных переводчиков» и «Положение о судебном переводчике» [5]. Акцент в документах сделан на правовом регулировании официального перевода в ходе следственных действий и судебного процесса посредством устранения пробела в процессуальном законодательстве, которое не определяет процесс подбора переводчика судебными и правоохранительными органами и способы оценки его компетентности. Данные документы представляют интерес, поскольку позволяют увидеть, как акторы юридического поля на уровне законодательства и посредством участия в профессиональной ассоциации переводчиков оказывают существенное влияние на конституирование пространства дифференцированных позиций в поле перевода, т.е. вносят в поле перевода то, что Бурдье называл «принципом видения и деления» [3. C. 37].
Переводчики, специализирующиеся на делах с участием мигрантов, неоднозначно оценивают шансы реализации подобных устремлений в контексте ситуации на рынке услуг по судебному переводу. Те из них, кто работают исключительно в судах, согласны с необходимостью «сертификации переводчиков или выдачи ордера, как у адвокатов», но задаются вопросом: «а кто будет на дознании, в полиции и на следствии работать, ведь тогда 99 % всех переводчиков отсеется? А пока все, кто есть на этом рынке, как-то находят себе место». При этом «если придется еще куда-то ходить, сдавать экзамены, платить деньги, никого не останется на рынке, никто не захочет — слишком много мороки».
Привнесение юридической рамки, предполагающей лишь ужесточение правил оценки работы переводчиков, кардинально не изменит ситуацию, а скорее всего лишь заставит участников изобретать новые способы обхода правил и норм. Как показывают исследования [4], институциональная основа власти правоприменителей и асимметричность властных отношений в юридическом поле определяют особенности взаимодействия судебных переводчиков и юристов. Следователи демонстрируют слабую заинтересованность во взаимодействии с переводчиками, обладающими высоким уровнем культурного капитала, в большинстве случаев предпочитая переводчиков со слабыми ресурсными позициями, не способных противостоять контролю и манипулированию. Даже выражая поддержку идеалу профессионального контроля за качеством услуг и выработки профессиональной этики, переводчики-мигранты отступают перед сложившимися в поле судебного перевода социальными практиками, большей частью неформальными, т.е. недостаточно ограничиться введением единого реестра судебных переводчиков и усилением контроля за качеством их работы. Необходимо изменить те структурные особенности взаимодействия юристов и судебных переводчиков, которые способствуют воспроизводству специфической стратификации судебных переводчиков и востребованности правоприменительными органами переводчиков разной квалификации.
Судебные переводчики между нормативной неопределенностью и требованиями акторов юридического поля
Особенностью ситуации в современной России является практически полное отсутствие подготовки переводчиков с языков народов постсоветских стран (за исключением отдельных вузов, например, Московского государственного лингвистического университета). Кроме того, в России нет системы аккредитации или сертифицирования судебных переводчиков, как и официально закрепленного требования сдавать квалификационные экзамены на право осуществлять перевод в судебном процессе или на досудебной стадии расследования преступлений. Однако опыт функционирования института судебных переводчиков во многих странах подтверждает существенную разницу между переводчиками, получившими специализированную подготовку, и теми, кто обладал важным, но явно недостаточным ресурсом — знанием требуемого языка как родного [19]. В интервью информанты подчеркивали важность не только лингвистической подготовки, но и владения юридической терминологией и знания правовых процедур: «мало быть филологом, важно знать процедуры и юридические термины, лексика здесь специализированная».
Следующая проблема связана с отсутствием единого реестра судебных переводчиков, поэтому поиск переводчика нередко выполняется с использованием личных или профессиональных связей сотрудников правоохранительных, иногда и судебных органов. Поскольку основная масса мигрантов сконцентрирована в крупных городах, во многих российских регионах возникла проблема поиска переводчика: «недавно азербайджанца арестовали в Чувашии, и вот нет там переводчиков с азербайджанского,… с немецкого есть, французского, английского, пожалуйста… пришлось им ехать в Москву, но за какие деньги они нашли того, кто согласился с ними работать и ехать туда, не знаю».
Юристы сталкиваются с информационной неопределенностью, для снижения которой могли бы обратиться к документам, подтверждающим квалификацию потенциального переводчика. Еще несколько лет назад в суде нередко появлялись люди не только без специализированного, но и вообще без высшего образования: «еще недавно в суде легко было обмануть, очень много дел с узбеками, много разных людей приходит [в качестве переводчиков], секретари в суде открывают удостоверение и даже не спрашивают, есть ли какое-то образование, не проверяют, не требуют показать диплом». В московских судах «в последние года три внимательнее начали проверять документы, иногда требуют и диплом показать, хотя опять же доверяют документам, а ведь все это можно подделать при желании». В целом компетентность переводчика и качество выполненного им письменного перевода оценивается судьей или следователем в каждом конкретном деле, и валидность их оценки ограничивается лишь рамками дела.
Поскольку квалификация переводчика для допуска его в процесс, как правило, оценивается сугубо формально, случаются ситуации, выявляющие недостаток или отсутствие компетенции переводчика. В частности, не все переводчики в равной степени владеют навыками устного и письменного перевода — часть переводчиков занимается только устным переводом, отказываясь от письменного. Таким коллегам информанты не доверяют, поскольку, «если он понимает значение всех слов, знает русский язык, почему не может перевести на свой родной язык… значит не знает, нет высшего образования… удивительно каких только людей нет [среди переводчиков], и ведь судья не интересуется, кто он, что из себя представляет». В одних случаях требуется другой переводчик для письменного перевода, в других случаях неправильный перевод приводит к тому, что обвиняемый через адвоката добивается пересмотра приговора или передачи дела на доследование в связи с выявленной некомпетентностью переводчика.
Ответом на подобные случаи стало использование правоприменителями своего рода рецензирования — следователи обращаются к тем переводчикам, квалификации которых доверяют, с просьбой посмотреть и оценить перевод документов, выполненный другими коллегами. Судьи «смотрят, кто аккуратно, вовремя выполняет письменные переводы, к тем и обращаются с просьбой проверить». Переводчики рассматривают такие просьбы как подтверждение своего профессионального статуса, но отдают себе отчет, что в некоторых случаях подобное обращение может быть вызвано стремлением судьи или следователя перенести на переводчика ответственность за ошибки юристов.
В условиях отсутствия системы аккредитации как основы для закрепления профессионального статуса за судебным переводчиком роль профессиональных фильтров, казалось бы, могут выполнять бюро переводов. Однако они выстраивают свою деятельность в соответствии с рыночной логикой максимизации прибыли: бюро как провайдер услуг ориентируется на запрос клиентов — правоохранительных и судебных органов — и старается соответствовать их ожиданиям и потребностям. Особенности рекрутинга переводчиков в значительной степени определяются набором требований со стороны институциональных акторов юридического поля. Так, для работы с органами полиции и следствия востребован не столько обладатель высокого уровня культурного капитала и компетенций профессионального переводчика, сколько тот, кто готов пренебречь репутацией профессионала, действуя в интересах сотрудников правоохранительных органов. Обычно это мигрант без инкорпорированной формы культурного капитала, но способный конвертировать свой этнический капитал и социальный капитал внутри диаспоры в ресурс, позволяющий войти в поле перевода.
Соответственно, уровень требований к сотруднику бюро переводов не включает наличие диплома о лингвистическом или филологическом образовании — это может быть диплом по технической или сельскохозяйственной специальности, подлинность которого никто не проверяет. В бюро, постоянно работающих с полицией и дознанием, требования к квалификации сотрудников невысокие: «вообще неважно какое образование и есть ли оно, главное — носитель языка».
В судах перевод носит публичный характер, необходимо переводить большой объем документов, что предполагает более высокие требования к переводчикам. Руководители бюро, работающие преимущественно с судебными инстанциями, подчеркивали, что дорожат репутацией и берут на работу только проверенных людей, о которых собирают информацию внутри диаспор. В целом при подборе сотрудников руководители бюро руководствуются двумя основными принципами: во-первых, чем более редкий язык необходим, тем меньше требований предъявляется к переводчику; во-вторых, поиск сотрудников осуществляется, как правило, через знакомых, друзей, членов диаспоры, рекомендация или протекция которых играет определяющую роль.
Переводчики, которые работают с органами дознания и полиции, практически не пересекаются с теми, кто выполняет работу по переводу в судах. Эти группы могут не иметь практически ничего общего, кроме этнического капитала и факта участия в борьбе за навязывание противоположных определений того, что есть судебный перевод. Помимо работы с правоохранительными органами или в судах, в ходе исследования были выделены следующие критерии стратификации судебных переводчиков: наличие российского гражданства; регистрация и фактическое многолетнее проживание в российских городах; документальное подтверждение лингвистического или педагогического образования; опыт работы в государственных структурах в родной стране; большой стаж работы переводчиком, в том числе судебным, в принимающей стране; владение в равной степени как устным, так и письменным переводом.
Особенности внутриорганизационных отношений в бюро переводов
Деятельность бюро, специализирующихся на переводе с языков народов бывших советских республик, едва ли может быть отнесена к «этнической экономике», которая включает практически любой бизнес под этническим «зонтиком», но это и не «анклавная» экономика, которая требует локализации в пределах этнически идентифицируемого сообщества с минимальным уровнем институциональной завершенности. Тем не менее, этнический капитал — один из основных ресурсов при поступлении на работу в такие бюро переводов. Кроме того, такие бюро, особенно на ранних стадиях функционирования, нуждаются в особых отношениях с диаспорами, где ищут потенциальных сотрудников, собирают и проверяют информацию о них. Отношения внутри бюро регулируются «ограниченной солидарностью» (boundary solidarity) [25. C. 1324–25] и «обязательным доверием» (enforceable trust) — как механизмами, которые необходимы для укрепления взаимоподдержки и эффективного контроля за отклоняющимся поведением.
Руководитель бюро выступает как «двойной агент», посредством которого в поле перевода проникает экономическая логика. Он совмещает в своем лице экономические диспозиции и этнический капитал, что благоприятствует отношениям взаимного доверия, которые обычно выходят за рамки договорных денежных обязательств и основаны на социальной норме реципрокности. Материальные и нематериальные выгоды, характерные для данного типа организаций, в меньшей степени проявляются на общем рынке труда, где принадлежность к одной этнической группе не является определяющей характеристикой отношений собственник-работник, а реципрокный обмен — обязательной нормой.
Как правило, первоначально переводчики работают по заявкам, которые направляются в бюро переводов судами, следственными органами или полицией. Затем они либо продолжают работать по официальным заявкам, либо получают заказы напрямую, поддерживая рабочие отношения с сотрудниками правоприменительных органов. Это зависит не только от креденциального ресурса, уровня квалификации и социальной компетентности, но и от того, насколько переводчик готов соответствовать требованиям правоохранительных органов или суда.
Условия работы судебных переводчиков могут существенно различаться в зависимости от стажа работы, редкости языков, которыми они владеют, заинтересованности сотрудников правоохранительных органов или суда в конкретном переводчике, а также способности выстраивать отношения по обмену услугами с руководителем бюро. Например, переводчик может договориться с руководителем, что он получает деньги наличными за все, кроме перевода обвинительного заключения, а «это самый большой документ… Это не оформлено, это джентльменское соглашение. Если я его нарушу, думаю, в следующий раз она мне не даст такое дело. Конечно, это выгодно, прежде всего, мне, но она так делает, чтобы сохранить меня в качестве сотрудника… Сейчас много фирм, между ними конкуренция, если я перебегу в другую, она вообще все потеряет, у нее практически не останется переводчика с …языка».
Время от времени внутри бюро переводов происходят конфликты между руководителем и сотрудниками. Конкретные поводы могут различаться, но одна из основных причин — отстаивание переводчиком своей профессиональной автономии. По мере укрепления профессионального статуса и обретения большей уверенности в постоянном получении заказов со стороны правоприменителей переводчик начинает осознавать дисбаланс между своим символическим капиталом и позицией в бюро. В частности, некоторые переводчики выражают недовольство тем, что руководитель не обращает должного внимания на их достижения: «следователь рассказал ему, как я помогла в очень сложном деле, а он ничего не сказал, не отметил мой успех, не говоря уже о повышении зарплаты». Другие переводчики начинают отстаивать свое право на особые условия работы — возможность самостоятельно определять, какие заявки принимать, а от каких отказываться, оставлять ли вознаграждение, например, за устный перевод, в полном объеме себе, отдавая «в контору только за письменный перевод».
В подобной ситуации руководитель бюро сначала пытается воздействовать на сотрудника увещеваниями, одновременно апеллируя к его чувству солидарности и приверженности интересам организации: «на вас равняются все наши переводчики, а если вы будете так себя вести, то будете мне дисциплину разрушать». С обеих сторон предпринимаются попытки получить поддержку тех членов диаспоры, которые могут оказать влияние/давление на другую сторону. В зависимости от позиции переводчика в профессиональной структуре, его ценности как сотрудника, навыков вести такого рода переговоры и умения актуализировать социальный капитал внутри диаспоры, руководитель бюро может пойти на компромисс. Если в результате переговоров сотруднику не удается добиться изменения своего статуса, он следует одной из стратегий: переход на работу в другое бюро, как правило, на более выгодных условиях, или создание собственного бюро, на работу в которое он переманивает часть сотрудников. В любом случае каждый сценарий приводит к кардинальным изменениям внутри организации, а в случае создания нового бюро меняется соотношение сил и внутри поля судебного перевода.
Руководители бюро рассматривают подобное поведение сотрудников как разрыв договоренностей и используют различные способы неформального социального контроля. Согласно информантам, конфликты сопровождаются распространением негативной информации о бывшем сотруднике, в том числе рассылкой руководителем «разоблачительных» писем в другие бюро переводов и родственникам сотрудников. Информанты приводили примеры того, как руководитель обращался в правоохранительные органы с обвинениями в адрес бывшего сотрудника по поводу наличия поддельных документов (паспорта, патента или разрешения на регистрацию), хотя когда-то именно он и «делал» эти документы. Подобная ситуация характерна для тех бюро, которые взаимодействуют с органами дознания и полиции. В результате проверок, задержаний и обысков лиц, обвиненных бывшими начальниками, правоприменители обнаруживали среди переводчиков нелегальных мигрантов или лиц, занимавшихся изготовлением поддельных документов. Таким образом, зависимость акторов данного сегмента поля судебного перевода от правоохранительных органов лишь усиливалась.
В целом характер взаимодействия между судьей, полицейским/следователем и судебным переводчиком отражает структуру отношений между юридическим полем и полем перевода, которые можно определить как символическое доминирование. Хотя судебные переводчики не обладают институциональной властью, при соответствующем уровне культурного капитала они предстают экспертами в области лингвистики и культуры, т.е. могут оказывать существенное влияние на ход интеракции, используя вербальные и невербальные средства для координации и уравновешивания властных отношений во взаимодействии юристов и их «клиентов»-мигрантов. Однако использование переводчиком потенциальной возможности влиять на ход интеракции и конструирование дела зависит от целого ряда факторов, в том числе особенностей представляемой им организационной структуры — бюро переводов.
Об авторах
Елена Витальевна Масловская
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: ev.maslovskaia@socinst.ru
доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии, руководитель Центра социолого-правовых исследований
ул. 7-я Красноармейская, 25/14, Санкт-Петербург, 190005, РоссияСписок литературы
- Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001 / Bourdieu P. Praktichesky smysl [Practical Sense]. Saint Petersburg; 2001. (In Russ.).
- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2005
- Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
- Масловская Е.В. Судебные переводчики в расследовании уголовных дел: типы профессионального поведения и неформальные практики // Социологические исследования. 2021. № 2.
- Проект регулирования института судебного перевода в России // URL: https://www.alba-translating. ru/ru/ru/articles/court-interpreting-and-translation.html.
- Ahmad M. Interpreting communities: Lawyering across language difference. UCLA Law Review. 2007; 54.
- Bassnett S. The Translation turn in cultural studies. Bassnett S., Lefevere A. (Eds.). Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Clevedon; 1998.
- Berk-Seligson S. The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process. Chicago; 1990.
- Bourdieu P. The Social Structures of the Economy. Cambridge; 2005.
- Colley H., Guery F. Understanding new hybrid professions: Bourdieu, illusio and the case of public service interpreters. Cambridge Journal of Education. 2015; 45 (1).
- Davis G. Firms and environments. Smelser N., Swedberg R. (Eds.). Handbook of Economic Sociology. Princeton; 2005.
- Dezalay Y., Madsen M. The force of law and lawyers: Pierre Bourdieu and reflexive sociology of law. Annual Review of Law and Social Science. 2012; 8.
- Gibb R., Good A. Interpretation, translation and intercultural communication in refugee status determination procedures in the UK and France. Language and Intercultural Communication. 2014; 14 (3).
- Hale S. Controversies over the role of the court interpreter. Valero-Garcés C., Martin A. (Eds.). Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and Dilemmas. Amsterdam; 2008.
- Inghilleri M. Habitus, field and discourse: Interpreting as a socially situated activity. Target. 2003; 15 (2).
- Kim J. Migration-facilitating capital: A Bourdieusian theory of international migration. Sociological Theory. 2018; 36 (3).
- Kim J. Ethnic capital, migration and citizenship: A Bourdieusian perspective. Ethnic and Racial Studies. 2019; 42 (3).
- Lee J. Conflicting views on court interpreting examined through surveys of legal professionals and court interpreters. Interpreting. 2009; 11 (1).
- Liu X., Hale S. Achieving accuracy in a bilingual courtroom: The effectiveness of specialized legal interpreter training. Interpreter and Translator Trainer. 2018; 12 (3).
- Merlini, R., Favaron R. Community interpreting: Reconciliation through power management. Interpreters’ Newsletter. 2003; 12.
- Morris R. Images of the court interpreter: Professional identity, role definition and self-image. Translation and Interpreting Studies. 2010; 5 (1).
- Noordegraaf M. From “pure” to “hybrid” professionalism: Present-day professionalism in ambiguous public domains. Administration and Society. 2007; 39 (6).
- Norström E., Fioretos I., Gustafsson K. Working conditions of community interpreters in Sweden: Opportunities and shortcomings. Interpreting. 2012; 14 (2).
- Pöchhacker F. Interpreting as mediation. Valero-Garcés C., Martin A. (Eds.). Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and Dilemmas. Amsterdam; 2008.
- Portes A., Sensenbrenner J. Embeddedness and immigration: Notes on the social determinants of economic action. American Journal of Sociology. 1993; 98 (6).
- Tatli A., Özbilgin M., Karatas-Özkan M. (Eds.). Pierre Bourdieu, Organization and Management. New York; 2015.
- Wadensjö C. Interpreting as Interaction. New York; 1998.
- Wolf M. The sociology of translation and its “activist turn”. Translation and Interpreting Studies. 2012; 7 (2).
- Zhou M., Mingang L. Community transformation and the formation of ethnic capital: Immigrant Chinese communities in the United States. Journal of Chinese Overseas. 2005; 1 (2).
Дополнительные файлы