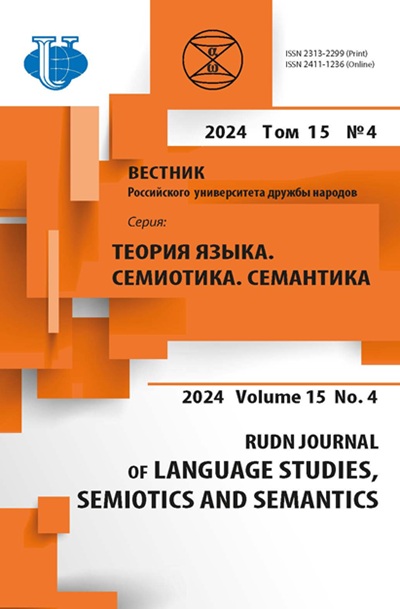Моделирование дискурсивной реальности глобального кризиса: опыт медийной репрезентации пандемии COVID-19
- Авторы: Хабаров А.А.1
-
Учреждения:
- Московский государственный лингвистический университет
- Выпуск: Том 15, № 4 (2024)
- Страницы: 1169-1191
- Раздел: ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/43616
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2024-15-4-1169-1191
- EDN: https://elibrary.ru/UQQILZ
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследование посвящено изучению когнитивных механизмов, коммуникативных методик и средств моделирования дискурсивной реальности глобального кризиса в языковом сознании носителей английского и китайского языков в проекции на специфику репрезентации пандемии COVID-19 в официальных и оппозиционных институтах массмедиа. Лингвистический анализ сосредоточен на поликодовых средствах коммуникации: вербальных единицах, связанных с элементами лингвокультурной семиотики. В ходе исследования автор выдвигает гипотезу от том, что лингвокогнитивная модель глобального кризиса формируется путем концептуализации в языковом сознании массового адресата противоположных идеологических установок в условиях контрастной дискурсивной динамики. Верификация гипотезы исследования базируется на результатах лингвистического анализа эмпирического материала на китайском и английском языках с акцентом на квантитативный анализ контрастных корпусов текстов. В фокусе внимания автора также находится описание ключевых нарративов периода пандемии как в ракурсе лингвистики, так и с позиций лингвосемиотики, включая восприятие образов. Полученные выводы свидетельствуют о том, что технология дискурсивного моделирования глобальных кризисов является комплексным процессом синхронизированного применения совокупности коммуникативных методик, поликодовых средств и мультимодальных каналов реализации дискурсивного воздействия в прямой и скрытой формах с целью реконцептуализации образов восприятия действительности.
Полный текст
Введение
В декабре 2019 г. население планеты Земля столкнулось с одним из самых серьезных в новейшей истории глобальных кризисов, который спровоцировала пандемия коронавируса SARS-Cov-2 (коронавирус острого тяжелого респираторного синдрома-2). Последствиями массового распространения новой коронавирусной инфекции стали существенные демографические потери, нарушение производственных и логистических цепочек между странами и регионами, паралич экономической активности, введение правовых ограничений и трансформация этических норм. Серия локдаунов пандемийного периода трансформировала ценностные ориентиры общества, нарушила культурные традиции и правила, вызвав новые риски и угрозы в политической, экономической, социальной, культурной, экологической, научно-технической и других ключевых сферах жизни современного общества. В силу своих масштабов и географии распространения глобальные кризисы развиваются по другим законам как с точки зрения социально-политических характеристик, так и позиций вербализации и лингвистического оформления идей, постулатов и ключевых понятий, которые проектируются на социум. Таким образом, лингвистические особенности в моделях кризисов разных сфер жизни общества (политических, экономических, военных и пандемийного в том числе) можно рассматривать с позиций дискурс-анализа, семиотики, семантики и лингвопрагматики.
Моделирование дискурсивной реальности глобального кризиса, как показал опыт пандемии коронавируса SARS-Cov-2, происходит не только на уровне государственных и медицинских институтов, а в большей мере на уровне социума. Международное взаимодействие в современном цифровом обществе строится в формате глобального медиатекста, построенного на основе вербально-невербальных гипертекстовых и трансмедийных технологий с привлечением возможностей различных семиотических систем. Вслед за Н.А. Ахреновой мы будем рассматривать проблемы моделирования дискурсивной реальности глобального кризиса, спровоцированного эпидемией COVID-19, опираясь на метод комплексного анализа дискурса пандемии [1], развивая при этом идею о контрастной идеологической конфликтогенности разнородных дискурсивных практик.
Понятие «дискурсивная реальность» до определенного времени было, в первую очередь, единицей терминосферы философии и психологии. В философии под дискурсивной реальностью понималась «реальность мнений и знаний о мире, сформированная у человека воздействием на него конкретного дискурса, трансформирующаяся в реальность поступков, совершаемых на основе этих знаний и становящихся фактами. Она может состоять из дискурсивных и недискурсивных (т.е. внешних по отношению к данному дискурсу) компонентов, но воспринимается людьми как объективная, независимая от индивидуального сознания, реальность. <…>. Наиболее очевидная сфера обнаружения дискурсивной реальности — процесс коммуникативного взаимодействия отправителя и получателя сообщения, которое должно способствовать реализации цели отправителя и изменению состояния получателя» [2. С. 30]. Анализируя дискурс интернет-коммуникации, Т.А. Гребенщикова указывала: «Поскольку в психологическом плане интернет — это в первую очередь человеческий феномен, интерес представляет описание дискурсивной реальности сети как феномена, конституируемого активностью и переживаниями интернет-пользователей» [3. С. 93]. Ей также удалось выделить основные характеристики дискурсивной реальности интернета: 1) вариативность дискурсивного отображения событий, задающих способы говорения о мире и трансформирующих его картину; 2) коммуникативная контекстность, связанная с принятыми нормами, намерениями, речевыми интенциями говорящих и другими факторами; 3) интерактивность и мультимодальность, повышающие оказываемое эмоциональное воздействие и доверие к получаемой информации [3]. Полагаем, что введение в лингвистический научный оборот понятия дискурсивная реальность и ее моделирование на основе лингвистических характеристик глобального пандемийного кризиса определяет новизну данного исследования.
Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем гипотезу о том, что лингвокогнитивная модель глобального пандемийного кризиса явления формируется путем концептуализации в языковом сознании массового адресата совокупности противопоставленных друг другу идеологических установок, функционирующих в условиях контрастной дискурсивной динамики. Хронология медийного освещения кризисных ситуаций на фоне эпидемии коронавируса позволяет реконструировать этапы создания в психосфере людей альтернативных видов дискурсивной реальности, обеспечивающих перманентную разновекторность и конфликтогенность всемирного информационного пространства.
Цель исследования заключается в анализе вербальных и невербальных средств моделирования глобального кризиса для построения модели его дискурсивной реальности. Лингвистический анализ спроецирован на мультимодальные каналы коммуникации, варианты поликодовых текстов, интегрированных в глобальном медиатексте с опорой на трансмедийные технологии передачи данных.
Актуальность работы продиктована необходимостью выявления общих параметров моделирования дискурсивной реальности глобального кризиса с целью определения прямых (аргументативных, персуазивных) и скрытых (манипулятивных) способов воздействия на массового адресата при помощи современных телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет.
Источником материала исследования послужили базы данных Оксфордского онлайн-словаря английского языка (“Oxford English Dictionary”), раздел “BuzzWords” («модные слова») словаря “Macmillan”, статьи Китайско-английского словаря пандемии коронавируса (汉英新冠词典), выборка статей журнала «Экономист» (“The Economist”) по рассматриваемой теме, глоссарии Портала мультиязычного перевода основных понятий и выражений (重要概念范畴表述外译发布平台). Верификация гипотезы исследования будет строиться на результатах анализа эмпирического материала, основным источником которого послужили идеологически контрастные корпусы текстов массмедиа на китайском языке. Первый корпус включает в себя тексты программных выступлений Си Цзиньпина за период пребывания в должности Председателя Китайской Народной Республики с 10 ноября 2012 г. по 3 марта 2022 г. Объем корпуса № 1 составляет 1881897 знаков (без пробелов), которые были сегментированы на 910167 токенов.[1] Противопоставляемый ему корпус включает в себя тексты, отражающие коммуникативную деятельность в китайскоязычном сегменте глобальной сети представителей несистемной оппозиции, чья точка зрения диссонирует с официальной позицией партийно-политического руководства КНР. Объем корпуса № 2 исчисляется 2648998 знаками (без пробелов), сегментированными на 1621243 токенизированные лексические единицы.[2] Компиляция корпуса осуществлялась на базе контента популярных в Китае медиаплатформ и социальных сетей «Вичат» (微信), «Доубань» (豆瓣), «Тик-Ток» (抖音), «Чжиху» (知乎), микроблоговой платформы «Sina Weibo» (微博) и др.
Как упоминалось выше, основной метод исследования — это метод дискурс-анализа. Кроме того, в работе применялись методы квантитативного, семантико-структурного, прагматического и контекстуального анализа примеров на китайском и английском языках. Отбор материала основывался на методе сплошной выборки с целью дальнейшей систематизации и объективного сравнения.
Эффективность воздействия мультимодального медиадискурса как ключевого формата программирования сознания обусловлена апелляцией к базовым инстинктам человека, возбуждением эмоциональных реакций, провоцированием состояний аффекта и сопереживания и определяется действенностью техник аргументации, внушения (суггестии) и имплицитного влияния на подсознание. Дискурсивная репрезентация невербальной составляющей медиатекста совокупно обусловлена его креолизацией, поликодовостью и мультимодальностью как имманентными свойствами любой семиотической системы. Характер функционирования идеологически маркированных знаков, жестов и элементов культурной символики в современной массовой коммуникации говорит о том, что креолизованные тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей» [4], являются действенным инструментом манипулирования массами [5]. Вариативность жанрово-стилевой палитры медиатекстов повышает их интертекстуальную валентность за счет использования разнородных изображений (иконических образов, карикатур, мемов), средств орфографии, пунктуации, варьирования шрифтов и других инструментов многоканальной визуализации. Востребованность поликодового контента при подготовке общественного мнения к восприятию заранее заданной медийной повестки подтверждается, в частности, форматом заголовков на титульных страницах, а также слоганами, штампами и клише в выпусках крупнейших новостных таблоидов, популярных журналов, газет и публицистических произведений.
Профилирование идеологических установок в современных СМИ достигается интеграцией фасцинативных, суггестивных, персуазивных и манипулятивных форм и методов дискурсивного воздействия, выбором актуальных вербальных и невербальных средств, которые ассоциативно связаны с предварительно сформированной в сознании объекта когнитивной матрицей. Использование речевых тактик и стратегий аргументации, убеждения либо введения в заблуждение определяется частотой и характером функционирования в речевом узусе вербальных маркеров, демонстрирующих насаждение той или иной идеологической установки. На концептуально-аксиологическом начале идеологий массового управления, например, идеологии борьбы с пандемией, конструируется новая дискурсивной реальность с присущими ей коммуникативными ситуациями, сценариями и паттернами. Так, по данным Оксфордского словаря английского языка, в период с 2017 г. по 2023 г. количество случаев употребления слова «коронавирус» экспоненциально возросло с октября-декабря 2019 г., когда его частотность составляла 0,033 единиц на один миллион словоупотреблений (ipm), достигнув в апреле-июле 2020 г. пика показателя частотности 1100 ед./млн, с последующим понижением до 550 ед./млн в июле-сентябре 2020 г. (рис. 1).
Рис. 1. Количество словоупотреблений лексической единицы «коронавирус» в письменном английском языке в период с октября- декабря 2017 г. по январь—март 2023 г. (по данным корпуса глобальных англоязычных онлайн- источников новостей)
Источник: составлено А.А. Хабаровым.
Fig. 1. Number of occurrences of the lexical unit “coronavirus” in written English in the period from October-December 2017 to January-March 2023 (according to the corpus of global English- language online news sources)
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov. [3].
В начале 2023 г. количество запросов сократилось, что говорит об определенной стабилизации и снижении интереса к этой теме. Имеющиеся данные позволяют провести ретроспективный анализ языкового материала, собранного за период с 2020 по 2022 гг., а также сформировавшихся в этот период тенденций, которые сигнализируют об укоренении в массовом сознании дискурсивной реальности глобального пандемийного кризиса.
Модель дискурсивной реальности глобального кризиса
Исследование показало, что конструирование дискурсивной реальности глобального кризиса в мировых СМИ происходит с привлечением вербальных и невербальных средств универсального характера, где ключевая роль отводится креолизованному и/или поликодовому мультимодальному тексту. На рис. 2 представлена обобщенная схема лингвопрагматической модели дискурсивной реальности глобального пандемийного кризиса.
Рис. 2. Лингвопрагматическая модель дискурсивной реальности глобального кризиса
Источник: составлено А.А. Хабаровым.
Fig. 2. Linguopragmatic model of the discursive reality of the global crisis
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov.
Конструирование дискурсивной реальности происходит на всех уровнях языка с учетом ряда экстралингвистических факторов, определяющих формат и особенности коммуникации в создавшейся ситуации, таких как соблюдение правил общения (этикета), которые способствуют установлению четких границ поведения коммуникантов, формированию новых социальных норм и, как результат, возможности более эффективного контроля над поведением масс. При анализе примеров карантинного этикета периода коронавируса выделяются его следующие особенности:
Появление ряда приветственных жестов универсальных для представителей всех культур: elbow bump/fist bump (fist pound, knuckles, knuckle knock etc.) 肘撞拳撞拳擊指关节转向节敲击– и т.д.
Унификация понятия личного пространства, которое до пандемии варьировалось от культуры к культуре, а во время пандемии стало минимум 1,5 метра для всех.
Ношение масок и перчаток, характерное ранее для представителей восточных культур, стало повсеместным требованием в период с марта 2020 г. по конец 2021 г.
Значимой тенденцией в этикете периода пандемии стало нарушение прав отдельных категорий граждан, а именно представителей поколения бейби-бумеров, которым на тот момент было 65+ лет. Обратим внимание на то, что в западном обществе стала наблюдаться тенденция категоричного разделения на «своих» и «чужих», что подчеркивается типовыми неологизмами (см. рис. 3):
Рис. 3. Новая лексика по группам
Источник: составлено А.А. Хабаровым.
Fig. 3. New vocabulary by groups
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov.
Н.А. Ахренова отмечает, что появление новых этикетных формул в ковидный период обусловлено переключением деловой и личной коммуникации в онлайн-формат, предполагающий использование таких облачных платформ, как «Zoom.us», а работа в подобных программах, утроенных в стиле западной культуры, зачастую предполагает редукцию отчества в русскоязычных именах, автоматический ввод обращений и пр. [6]. В свете вышесказанного исследователь указывает на вхождение в английский лексикон таких слов, как coronallennial, которое относится к детям, родившимся через девять месяцев после пандемии, а также coronababies — детей, родившиеся в пандемию, отмечая при этом фиксацию в интернет-дискурсе неологизмов с продуктивным корнем zoom:
- бленд zoomeral (zoom+funeral) — похороны в Zoom;
- сложные слова, образованные путем сложения двух и более основ, например: zoombombing — проникновение в zoom-конференцию участников, позволяющих себе оскорбительное поведение и высказывания по отношению к организатору и участникам;
- zoom town — город, в который переезжают люди, работающие в удаленном режиме, zoom mom — мать, которая проводит много времени, работая в Zoom;
- zoom party — вечеринка в зуме, upperwear (неологизм) — одежда, которую видно в камеру компьютера;
- эвфемизмы, которые употребляются для прикрытия пристрастия к потреблению алкоголя, например, on-nomi либо virtual happy hour — потребление коктейлей в Zoom[4].
Это показывает, что, помимо присущего языку свойства лингвокреативности, в эпоху кризиса появляются продуктивные лексические матрицы и аффиксы, которые содержат в своей основе концептуальную суть происходящего, способствуя созданию дискурсивной реальности путем формирования определенного вокабуляра, в данном случае, пандемийного. В английском языке продуктивными корнями стали лексемы zoom, corona; частотным суффиксом — exit, который традиционно участвует в словообразовании, когда речь заходит о нестандартных ситуациях и кризисах, ср.: Brexit и Megexit. К продуктивным префиксам относится iso-, являющейся частью слова isolation, ставшего знаковым в изучаемый период, например: iso-banking — банковские операции, производящиеся удаленно на самоизоляции; iso-beard — борода, которая отросла у мужчин за время пандемии, а до этого времени они ее не носили и т.д.
В китайском языке вербальным маркером пандемийного кризиса стала лексема 新冠 — «корона (вирус)». Квантитативный анализ авторских корпусов текстов на китайском языке, построенных по принципу «официальные/оппозиционные тексты» и вобравших в себя материалы по тематике основных событий пандемийного периода (декабрь 2019 — март 2022 гг.), показал, что среди коллокаций с вербальным маркером 新冠 — «корона (вирус)» по критерию правдоподобия (likelihood) в корпусе № 1 («официальном») присутствует 85 единиц, а в корпусе № 2 («оппозиционном») — 178 единиц. По критерию семантико-синтаксической целостности нами была выявлена параллельная представленность 11 коллокатов и лакунарность 241 коллокатов, в том числе в корпусе № 1–74 единицы (87 %), в корпусе № 2–167 единиц (93 %).[5] Учитывая лимиты объема публикации, мы выборочно проиллюстрируем ниже контрастную коммуникативную динамику ряда комбинаторных сочетаний, актуальных для обоснования гипотезы исследования (табл. 1):
Таблица 1 / Table 1
Репрезентативная выборка компоннетов параллельных коллокаций с вербальным маркером «коронавирус» (新冠) в идеологически полярных корпусах /
Representative sample of parallel collocation units with the verbal marker coronavirus (新冠) in ideologically polar corpora
№ | Вербальный маркер / Verbal marker | Корпус № 1 / Сorpus 1 | Корпус № 2 / Сorpus 2 | |
китайский язык / Chinese | русский язык / Russian | |||
1. | 肺炎 | пневмония | 1694,451 | 1760,499 |
2. | 疫情 | пандемия | 1289,109 | 2147,370 |
3. | 抗击 | наносить контрудар; противостоять | 301,195 | 108,808 |
4. | 防控 | профилактика и контроль | 253,290 | 111,865 |
5. | 疫苗 | вакцина | 37,341 | 400,646 |
6. | 肆虐 | свирепствовать, зверствовать | 44,462 | 24,824 |
7. | 应对 | противодействовать; давать отпор | 23,574 | 20,925 |
8. | 流行 | распространяться, течь | 69,699 | 49,521 |
9. | 溯源 | искать источник; первопричина | 15,716 | 168,213 |
10 | 病毒 | вирус | 124,232 | 1274,441 |
11 | 武汉市 | (город) Ухань | 17,615 | 53,422 |
Источник: составлено А.А. Хабаровым / Source: compiled by Artyom A. Khabarov
Представленные в выборке коллокаты демонстрируют тождественную семантику на фоне прагматических, экспрессивных и смысловых расхождений, наблюдаемых в общем контексте их функционирования. Контекстуально-прагматический анализ дискурса официальной власти показывает прямую ассоциативную связь специальной терминологии с нарративом борьбы с пандемией, транслируемым официальными китайскими СМИ в синхронные временные интервалы с публикациями в оппозиционных источниках. Приведем примеры узуального употребления ряда параметрически контрастных единиц в программных выступлениях партийно-политического руководства Китая (маркеры № 4, 5, 9, 10, 11):
- 坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。‘Решительно выиграть общенациональную битву по сдерживанию распространения коронавирусной эпидемии’.
- 疫苗临床试验和上市使用。‘Клиническое испытание и применение вакцины’.
- 加强病毒溯源和传播机理研究。‘Усилить исследования происхождения и механизма передачи вируса’.
- “四抗”, 第一是抗病毒; 第二是抗休克; 第三是抗低氧血症; 第四是抗继发感染。‘«Четыре направления борьбы»: комбинированное лечение вируса, шока, гипоксемии и вторичного заражения’.
- 以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断。‘Распространение коронавирусной эпидемии в стране, где главным полем битвы стал город Ухань, в основном остановлено’. 6
Смыслообразующий посыл дискурса официальной власти направлен в позитивное русло благодаря созидательно-конструктивным нарративам, закрепляющим в сознании массового адресата концептуальный формат пандемийного кризиса, в котором доминирует установка на коллективную борьбу с инфекцией, взаимопомощь, научный подход и иные тождественные шаблоны действий. Выделенные в примерах вербальные маркеры закрепляют в сознании целевой аудитории семантические и эмоциональные коннотации положительной направленности к «своему» (сдерживать/лечить, г. Ухань) и отрицательной к «чужим» (вирус, эпидемия). Отметим, что помимо метафорической модели концептуализации борьбы с ковидом как войны с врагом на поле боя, в китайском медиадискурсе выделяются также импликации, в которых коронавирус олицетворяется как живое существо, стихийное бедствие и чувство страха [7], как растения и их формы, враг, замкнутое пространство, медицинская утварь и пр. [8].
Особое место среди лексики кризисного этапа занимает терминология, которая до этого этапа либо была неизвестна широкому кругу граждан, либо не существовала вообще. Так, в период 2020–2021 гг. в активное речевое употребление через средства массовой информации вошли такие термины как: Covid hotspots, Droplet transmission, antibody therapy, side effect, morbidity, Intubation, airborne disease, death toll, Index patient.
В корпусах китайского языка можно найти следующие термины, вошедшие в языковую практику жителей Китая в 2020–2021 гг. (табл. 2).
Таблица 2 / Table 2
Терминология, вошедшая в языковую практику в Китае в 2020–2021 гг. /
Terminology that came into active use in China in 2020–2021
№ | Термин / Term | Корпус № 1 / Сorpus 1 | Корпус № 2 / Сorpus 2 | |
китайский язык / Chinese | русский язык / Russian | |||
1. | mRNA | мРНК- (вакцина) | 0 | 30,482 |
2. | 奥秘克戎 | омикрон | 0 | 29,416 |
3. | 德尔塔 | дельта | 0 | 28,472 |
4. | 阳性 | положительный результат (теста) | 0 | 22,042 |
5. | 毒株 | штамм | 64,200 | 0 |
6. | 基因组 | геном | 59,134 | 0 |
7. | 决战 | решающий бой | 39,298 | 0 |
8. | 冲击 | атака, удар | 27,863 | 0 |
9. | 洪涝 | наводнение, потоп | 27,769 |
|
10. | 战线 | фронт | 18,299 | 0 |
11. | 攻坚 | сокрушительный удар | 18,192 | 0 |
12. | 感染 | заражение | 0 | 239,042 |
13. | 感染者 | зараженный | 0 | 50,069 |
14. | 病毒感染 | заразность вируса (контагиозность) | 0 | 43,903 |
15. | 死亡率 | коэффициент смертности | 0 | 32,772 |
16. | 公共卫生 | общественная гигиена | 41,332 | 0 |
17. | 分离 | разделение (сепарация) | 52,074 | 0 |
18. | 清零 | (политика) «нулевой терпимости» | 34,462 | 0 |
19. | 联防联控 | коллективная профилактика и контроль | 22,647 | 0 |
Источник: составлено А.А. Хабаровым / Source: compiled by Artyom A. Khabarov
Китайско-английский специализированный словарь терминов и определений в области пандемии коронавируса (汉英新冠词典), содержащий 7683 словарных статей, отмечает высокочастотный характер функционирования в мировых СМИ новых ассоциированных с коронавирусом лексических единиц, заимствованных из специальных терминологических областей, к примеру:
- 方舱医院 ‘мобильный госпиталь’ (mobile/cabin hospital);
- 保持社交距离 ‘держать социальную дистанцию’ (to maintain social distancing);
- 呼吸衰竭 ‘дыхательная недостаточность’ (respiratory failure);
- 咽拭子 ‘мазок из носоглотки’ (throat swab).
Нарративным трендов 2020 г. также стало появление неологизмов по типу: - 大流行 ‘пандемический, широко распространяющийся’ (pandemic)[7];
- 无接触配送 ‘бесконтактная доставка’ (contactless delivery);
- 在家工作 ‘работа на дому’ (work from home, WFH);
- 封锁 ‘локдаун, строгие санитарно-эпидемиологические ограничения’ (lockdown);
- 直播带货 ‘маркетинговый стриминг’ (онлайн-трансляция с целью продажи товаров)» (influencer marketing) и др.
С точки зрения изучения лексикона и риторических приемов, для эпохи любого кризиса характерным остается преобладание эмоционально окрашенной лексики. Англоязычный и русскоязычный сегменты СМИ достаточно хорошо изучены с позиций эмотивности, результаты этих исследований отражены в ряде публикаций Е.Ю. Андреевой [9], М.В. Белякова [10], А.Д. Бобр, Н.А. Ахреновой [11]; В.И. Карасика [12] и др., однако китайское медиапространство во времена пандемии COVID-19 не изучалось с точки зрения эмотивности. Опираясь на корпусный подход к исследованию, в одном из текстов-источников корпуса под заголовком «В других странах коронавирус — это природный вирус, а в Китае — это политический вирус» (“新冠在别的国家是生物病毒,在我国是政治病毒”) проявляется идеологическая полярность способа синхронизированной репрезентации пандемийного кризиса, контрастирующего с официальными комментариями правительства КНР:
1 月1日—8日 这一周,西安因疫情封城已达17天,<…>而西安当局已于6日率先宣布“社会面清零基本实现”,但封城管控措施还在层层加码,当地防疫乱象频频曝出,遍地激起沸腾的民怨。‘В течение недели с 1 по 8 января (2022 г.), на момент наступления 17 дня изоляции г. Сиань по причине пандемии, 6 января, правительство г. Сиань в первую очередь объявило о выполнении базовых требований курса «изоляции общественного пространства (городов, районов) и устранения коронавируса», а также приступило к наращиванию степени изоляции города во всех сферах жизнедеятельности, что привело к повсеместному хаосу и неразберихе в условиях антипандемийных ограничений, повсюду наблюдалось кипящее негодование людей’ [8].
Градус напряжения оппозиционной риторики отражает установку на нагнетание негативного фона за счет эмоционально–экспрессивной лексики (乱象 ‘хаос’, 沸腾的民怨 ‘кипящее негодование’), описывающей реализуемые властями карантинные меры, в том числе с опорой на актуальную терминологию (疫情 ‘пандемия’, 封城清零 ‘политика «нулевой терпимости» (изоляция городов и устранение коронавирусной инфекции)’, 管控措施 ‘меры управления и контроля’, 防疫 ‘антипандемийные меры’).
2 就在西安封城日记仍在续写时,天津因Omicron新冠变体的出现也宣布封城,或许,在新冠疫情爆发距今的两年后,高强度的封城模式所带来的伤害,已超过病毒本身。‘Как раз в то время, когда летопись изоляции г. Сиань все еще продолжала писаться,
г. Тяньцзинь также объявил о закрытии города в связи с появлением нового штамма «Омикрон». Возможно, что спустя два года после вспышки эпидемии коронавируса общий ущерб, который нанесла концепция жесткой изоляции городов, превзошел вред от самого вируса’. 9
Состояние истерии и отрицания магнифицируется оценочными суждениями автора (поста в социальной сети), которые не подкрепляются фактами, но создают стереотипную ассоциацию между понятиями ‘омикрон — меры изоляции — вред (ущерб)’. Квантитативный анализ корпусного материала позволил проследить вербально-ассоциативные связи, формирующие интертекстуальное взаимодействие разнородных акторов дискурса и информационных ресурсов. В частности, среди текстов-источников корпуса № 2 выявлена дискурсивная репрезентация штамма омикрон в анонимном интервью под названием «Как мы победим омикрон в 2022 году? — С помощью китайского языка» (“2022年,我们将如何战胜奥秘克戎?用中文”), где перечисляется весь спектр мер правительственного контроля в формате сатирического высмеивания:
3 面对奥密克戎这个新问题, 我们 <…>需要拿出新水平、达到新境界,通过新举措、新发展,形成新突破。<…> 赋予绿码、黄码、红码、灰码、场所码、健康码、行程码。由此,我们便可战胜奥密克戎。‘Столкнувшись с новой проблемой — штаммом омикрон, нам нужно выйти на новый уровень, выйти на новый рубеж, совершить новые прорывы с помощью новых мер и разработок. (Мы должны) присвоить зеленые коды, желтые коды, красные коды, серые коды, коды локаций, коды здоровья и коды маршрутов. Исходя из всего этого, мы можем победить омикрон’[10].
Используя стилистические приемы повтора, параллелизма и иронии, а также аллюзию к литературным антиутопиям, где язык узурпируется диктатурой правящих кругов, автор текста (представитель оппозиционных кругов) высмеивает политические лозунги из программных документов, демонстрируя недоверие к власти и недовольство мерами по ограничению прав и свобод граждан под эгидой антиковидной кампании. Очевидно, что перечисление различных видов цветовых кодов для подтверждения статуса либо состояния гражданина является чувствительной темой для определенных категорий массмедиа. Следует отметить, что лакунарность конкретных дискурсообразующих единиц (онимов, терминов, реалий) в корпусе «неофициальных» СМИ не может быть основанием для смысловой интерпретации релевантных результатов выборки и не предполагает отсутствие данных единиц. Однако факт непредставленности лексических комбинаций, имеющих признаки семантико-синтаксической целостности, сигнализирует о снижении их потенциала дискурсивной транзакции в функции языковой идентификации определенных предметов и явлений действительности.
Моделирование в СМИ состояния пандемийного кризиса обращено на массового адресата, что предполагает обязательное задействование интертекстуальных связей. В частности, помимо аллюзий, фразеологизмов, цитат, в активный речевой репертуар входят такие средства, как:
- каламбур, ср.: — What is opposite of anti-biotics? — Uncle-biotics;
- пародия, основанная на прецедентных, культурно маркированных текстах: All we need is gloves — All we need is love (The Beatles); Covido, ergo zoom — Cogito, ergo sum (Рене Декарт);
- игра слов, основанная на омонимии и антонимии, например: I’m a social vegan. I avoid meet. Positive (adj.) The most negative word of 2020. Any ideas for games to play during self-imposed social distancing? (Other than Solitaire).
Такое использование интертекста прагматически обосновано рядом факторов. Во-первых, благодаря аллюзиям и паремиям возникает апелляция к общим для целевой аудитории и автора/спикера ценностям с целью повышения доверия и достижения цели коммуникации. Пародия, каламбур и игра слов призваны, помимо своей объединяющей функции, исполнить роль юмористических элементов, разряжающих напряженную стрессовую ситуацию, сложившуюся в обществе и достичь эффекта отсроченной кульминации кризиса. Таким образом, юмор является одним из мощных воздействующих механизмов [13], который позволяет направить вектор общественной мысли в нужное идеологическое «русло» и скорректировать динамику поведения масс.
Мы считаем, что в дискурсивной реальности глобального кризиса ведущая роль отводится невербальной составляющей, что ярко проявляется в условиях цифровизации общественной жизни. Э. Кассирер утверждал, что именно символическая, знаковая составляющая является средством, раскрывающим саму сущность человеческого сознания [14].Бурное развитие культуры использования гаджетов в наши дни предопределило переход трафика обмена данными в измерение визуальной коммуникации, при которой современный человек воспринимает не более 10–15 % информации в виде вербального сообщения, а ключевые 85–90 % — в виде невербального.
Логично, что в период эпидемии COVID-19 в европейских массмедиа и социальных сетях в целом, и в англоязычном сегменте в частности, активно распространялись такие виды поликодовых текстов, как агитационные плакаты, карикатуры, демотиваторы и другие виды разного рода мемов. Так, в США преобладали постеры-аллюзии на сюжеты агитплакатов времен Второй мировой войны, а также изображения, пропагандирующие традиционные семейные ценности.
Рис. 4. Примеры агитационных плакатов разных периодов
Источник: из архива А.А. Хабарова.
Fig. 4. Examples of propaganda posters from different periods
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov.
Заметим, что в таких плакатах прослеживается определенная вербальная избыточность. Наряду с краткой императивной конструкцией («STAY HOME!») присутствует развернутая синтаксическая конструкция «HELP SLOW THE SPREAD OF CORONAVIRUS».
Другим распространенным семиотическим явлением в массмедийной коммуникации стали предупреждающие знаки-символы, которые, помимо иконического компонента, содержали вербальную составляющую [15; 16]. Фоном для этих знаков выбран желтый цвет, демонстрирующий временность мер, указанных на знаках. Мы солидарны с точкой зрения Н.А. Ахреновой о том, что «Демотиваторы и агитационные плакаты эпохи пандемии, созданные в США, носят глобальный характер и имеют все мирную узнаваемость, что еще раз доказывает: именно англосаксонская популярная культура Северной Америки и английский язык являются глобальными «диктаторами» мировых трендов времени пандемии COVID-19» [17. С. 9]. Фоном этих знаков выбран желтый цвет, демонстрирующих временность мер, указанных на знаках (рис. 5).
Политическая карикатура также стала компонентом дискурсивной реальности пандемийного кризиса и демонстрировала, в частности, отклонение руководства англоязычных стран от правил, установленных на государственном уровне:
Рис. 5. Примеры знаков- символов массмедийной коммуникации
Источник: из архива А.А. Хабарова.
Fig. 5. Examples of signs and symbols of mass media communication
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov.
Fig. 6. Примеры англосаксонской политической карикатуры о COVID-19
Источник: из архива А.А. Хабарова
Fig. 6. Examples of Anglo- Saxon political cartoons about Covid
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov.
В китайском сегменте глобальной сети превалировал жанр агитационного плаката, отражающий смысловые доминанты официального дискурса партийно-политического руководства КНР. Иные поликодовые жанры представлены не были, что определяется культурной составляющей китайского общества, где существует жесткая модерация контента, директивное общение в строго регламентированном формате коммуникации власти и общества:
Рис. 7. Примеры китайского агитационного плаката о COVID-19
Источник: из архива А.А. Хабарова.
Fig. 7. Examples of Chinese propaganda posters about Covid
Source: compiled by the Artyom A. Khabarov.
На волне мощных пропагандистских акций, инициированных властями КНР, вызов, брошенный эпидемией SARS-Cov-2, был воспринят как война, и китайское общество закономерно поддержало этот посыл. Так идея борьбы становится лейтмотивом плакатов ковидной эпохи. Ключевыми фигурами любой войны и борьбы являются воины, которыми в Китае стали герои пандемии — врачи и волонтеры. Этот тезис подтверждается большим количеством плакатов, в которых в качестве сферы-источника метафоры выступает сам человек или части его тела, например, сжатая в кулак рука, наносящая удар. Этим способом актуализирована метафора «сопротивления», «ответного удара», «непрерывной борьбы». Сомкнутые руки людей разных профессий, очевидно, символизируют единство и сплоченность китайской нации. Вербальная составляющая (致敬防疫人员‘Поблагодарим персонал, борющийся с пандемией!’; 致敬英雄 ‘Скажем спасибо героям!’; 武汉加油 ‘Вперед, Ухань!’; 众志成城 ‘Сила в единстве!’; 抗击疫情 ‘Дадим отпор пандемии’; 百毒退散‘Прогоним прочь сто зараз!’) дополняет изображение и подчеркивает важную миссию врачей и всех, кто поднялся на борьбу с вирусом. В подобных агитационных материалах манифестуются типовые идеологические оппозиции («жизнь — смерть», «добро — зло», «свет — тьма», «единение — разобщение»), восходящие к архетипам сознания, что предопределяет их высокий дискурсивный потенциал.
Заключение
Дедуктивный подход к изучению опыта репрезентации пандемии COVID-19 в зарубежных (англоязычных и китайских) массмедиа с целью построения на его основе модели дискурсивной реальности пандемийного кризиса позволил заключить, что технология моделирования глобальных кризисов представляет собой комплексный процесс применения коммуникативных методов, поликодовых средств и мультимодальных каналов реализации дискурсивной динамики. Поэтапное конструирование в СМИ лингвокогнитивной модели пандемийного кризиса строилось на почве архетипов языкового сознания целевой аудитории (этнических и социальных групп), а также с учетом ранее заложенного пресуппозиционного знания как когнитивной базы восприятия идеологизированной информации. Начиная с этапа предиктивного программирования масс, в медиапространстве разворачивается как прямая пропаганда, так и скрытое навязывание представлений, идеалов, ценностей и норм новых социально значимых концептов, что неизбежно провоцирует когнитивный диссонанс. Статистика употребления антонимичных лексических единиц в контрастных текстах, функционирующих в рамках репрезентации пандемийных сценариев в китайских и англоязычных массмедиа, свидетельствует о процессах изменения образов восприятия действительности в рамках идеологического антагонизма, что подтверждает заявленную гипотезу исследования.
Контрастная конфликтогенность массовой коммуникации обеспечивается применением полярных идейно-нравственных установок и ценностных ориентиров, вербальные и невербальные формы овнешнения выявлены в ходе лингвистического анализа медиатекстов разного типа. Альтернативные модели дискурсивной реальности строятся по принципу балансирования и поддержания борьбы между оппозитными установками на определенные виды деятельности в парадигме «свой-чужой», что за ковидное время выразилось в дихотомиях «вызов (война) — избегание (уход)», «добровольная — насильственная (вакцинация)», «вынужденное согласие с карантином/изоляцией — ущемление прав и свобод» и пр.
Сопутствующие эпидемическим обстоятельствам стрессогенные факторы (неопределенность, информационный вакуум, психическое неравновесие, материальная необеспеченность, ущемление прав и свобод и др.) способствовали активации у массового адресата аффективной (эмоциональной) стороны мышления в ущерб рациональной, превалированию идеологически полярной оценочности и инстинктивного поведения. Ознаменовав собой новый этап наступившей цифровой эры, глобальный кризис пандемии COVID-19, с одной стороны, привнес в жизнь нашей цивилизации тренды на гуманизацию социальных отношений, взаимопомощь и консолидацию усилий на фронте борьбы с коронавирусом как с общим врагом, с другой, ускорил институционализацию в медийном поле установочных нарративов, нацеленных на идейно-политическую стратификацию общества, формирование единообразного коллективного сознания и групповых стереотипов.
1 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023623409 Российская Федерация. «Программные речи Си Цзиньпина (2012–2022 гг.)» на основе выборки эмпирического материала с сайта «Электронный банк основных речей Си Цзиньпина» : № 2023621622 : заявл. 25.05.2023 : опубл. 11.10.2023 / А.А. Хабаров, В.Г. Шешин, В.А. Сплендер [и др.].
2 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023623460 Российская Федерация. «Интерпретация государственной политики Китая» на основе выборки эмпирического материала с сайта «Китай цифровой эпохи»: № 202362161: заявл. 25.05.2023: опубл. 16.10.2023 / А.А. Хабаров, В.Г. Шешин, В.А. Сплендер [и др.].
3 OED. [Electronic resource]. URL: https:// coronavirus, n. meanings, etymology and more | Oxford English Dictionary (oed.com)/ (Accessed 09.02.2024).
4 OED. [Electronic resource]. URL: https:// coronavirus, n. meanings, etymology and more | Oxford English Dictionary (oed.com)/ (Accessed 09.02.2024).
5 В подсчетах по критерию параллельной представленности сопоставляемых коллокативных единиц учитывается погрешность в объеме корпусов, отражаемая в коэффициенте правдоподобия, коэффициенте средней частоты, а также обобщается тематическая вариативность текстового материала.
6 重要概念范畴表述外译发布平台。 [Electronic resource]. URL: https:// 抗击新冠肺炎疫情中俄对照词汇 (pmtkcde.org.cn)/ (Accessed 09.02.2024).
7 По данным Оксфордского словаря, употребляемость данного слова выросла в 2020 г. на 57000 %.
8 中国数字时代 (封城)。[Electronic resource]. URL: https://【CDT周报】第51期:新冠在别的国家是生物病毒,在我国是政治病毒 (chinadigitaltimes.net) (Accessed 04.02.2024).
9 Там же.
10 中国数字时代(奥秘克戎)。[Electronic resource]. URL: https:// 【404文库】贰條|用中文战胜奥密克戎 (chinadigitaltimes.net) / (Accessed 09.02.2024).
Об авторах
Артем Александрович Хабаров
Московский государственный лингвистический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: lancelot567@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6459-4966
SPIN-код: 9868-3521
доктор филологических наук, профессор кафедры китайского языка переводческого факультета
119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 38, стр. 1Список литературы
- Ахренова Н.А. Дискурс пандемии / Н.А. Ахренова // Тезисы докладов 50-й Международной научной филологической конференции имени Людмилы Алексеевны Вербицкой: Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 15-23 марта 2022 года. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2022. С. 328-329.
- Петряков Л.Д. Дискурсивная реальность как объект философского анализа: онтологический и гносеологический аспекты; дисс д-ра философ наук. Иваново, 2014. 350 с.
- Гребенщикова Т.А., Кубрак Т.А., Павлова Н.Д. Дискурсивная реальность интернета // Вестник Московского государственного областного университета. Серия Психологические науки. 2020 № 1 С. 92-100.
- Сорокин Ю.А., Тарасов, Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М. : Высшая школа, 1990. С. 180-186.
- Vashunina, I.V., Il’ina V.A. Text creolization as manipulative strategy tactics // Bulletin of the Moscow State Regional University. 2020. Vol. 4. https:// doi: 10.18384/2224-0209-2020-4-1036.
- Ахренова Н.А. Особенности репрезентации концепта COVID-19 // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2021. № 4. С. 108-121.
- Калинин О.И. Дискурсивная метафора коронавируса в СМИ КНР // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2020. № 8(837). С. 26-37.
- 陈菘霖。新冠疫情医疗词彙之多面向叙事-语言、事件与时间。2022年7月. 第101卷第2期213页。July 2022, 101(2), 213-143. https://doi.org/10.29499/CrCL.202207_101(2).0010
- Андреева Е.Ю. Лексические и синтаксические средства эмотивности в первую волну пандемии: дискурс-анализ медиа // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2023. Вып. 3(63). С. 9-23. https://doi.org/10.47388/2072-3490/lunn2023-63-3-9-23.
- Беляков М.В. Отражение тематики коронавируса в дипломатическом дискурсе (на примере выступлений С.В. Лаврова и выступлений на Генассамблее ООН) // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Дискурсивные практики в современном мире». М. : Изд-во МГОУ, 2021.С. 88-96.
- Бобр А.Д., Ахренова Н.А. Лингвоконфликтогенез в социолингвистическом дискурсе на фоне пандемии COVID-19 // Военно-гуманитарный альманах: По материалам XVI Международной научной конференции по актуальным проблемам теории языка и коммуникации, Москва, 24 июня 2022 г. М. : Военный университет, 2022. С. 90-97.
- Карасик В.И. Эпидемия в зеркале медийного дискурса: факты, оценки, позиции // Политическая лингвистика. 2020 № 2(80). С. 25-34.
- Ахренова Н.А., Зарипов Р.И. Лингвопрагматические характеристики современного поликодового мультимодального медиатекста в контексте информационно-психологического воздействия // Медиалингвистика, 2023. № 10(4). С. 428-449. https:// doi.org/10.21638/spbu22.2023.401
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1: Язык. М.; СПб. : Университетская книга, 2002.
- Эбзеева Ю.Н., Дугалич Н.М. Семиотика медицинского дискурса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2024. Т. 15. № 3. C. 802-820. https:// doi.org/10.22363/2313-2299-2024-15-3-802-820
- Дубинина М.Н. Визуальная метафора в плакатах периода пандемии в Китае // Иностранные языки в высшей школе. 2021. № 1(56). С. 15-23. https:// doi.org/10.37724/ RSU.2021.56.1.002. EDN: ORTTGQ
- Ахренова Н.А. Невербальная презентация концепта COVID-19 в интернет-пространстве // Иностранные языки в высшей школе. 2021.№ 1(56). С. 5-14.https://doi.org/10.37724/RSU.2021.56.1.001.
Дополнительные файлы
Источник: составлено А.А. Хабаровым.
Источник: составлено А.А. Хабаровым.
Источник: из архива А.А. Хабарова