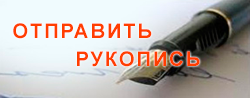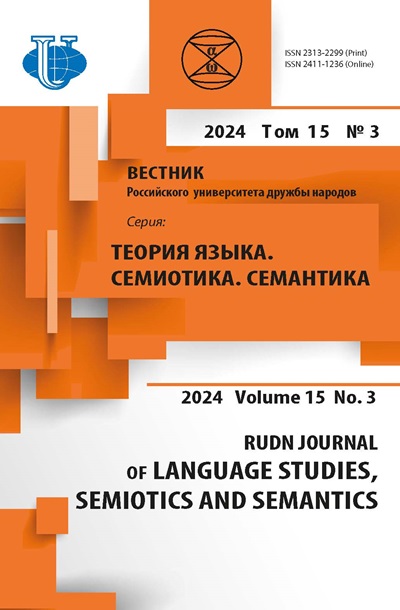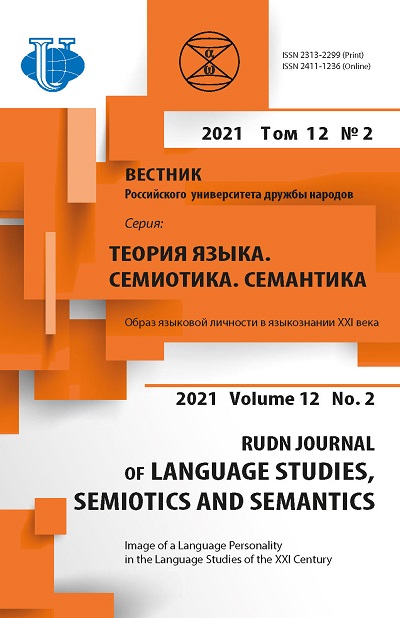Национальная языковая личность и семиотика текста в переводе
- Авторы: Дроздова Диес Т.1
-
Учреждения:
- Университет Комплутенсе
- Выпуск: Том 12, № 2 (2021): Образ языковой личности в языкознании XXI века
- Страницы: 316-338
- Раздел: ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/26750
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-2-316-338
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предлагаемая статья посвящается восьмидесятипятилетнему юбилею Юрия Николаевича Караулова (1935-2016), основоположника научной школы «Русская языковая личность», и рассматривает, на примере работы автора данной статьи над переводом новеллы Вадима Месяца «Ветер с конфетной фабрики», проблематику восприятия и когнитивно-семантической интерпретации испанской языковой личностью художественного текста, созданного русской языковой личностью-писателем для русской языковой личности-читателя. В результате проведенного анализа, в котором также призводится сранительное сопоставление языкового сознания русских и испанцев на примере статьи «Родина» двуязычного словаря «Ассоциативных норм испанского и русского языков», автор заключает, что принадлежность рецептора к отличной культурной и лингвистической семиосфере влияет на восприятие и интерпретацию таких компонентов текстуальности вторичного субъекта информации (то есть коммуникативно реконструированного в переводе произведения-оригинала), как: ситуативность, интертекстуальность, информационная насыщенность; и что между тем прагматическая установка художественного произведения в целом не ускользает в результате когнитивно-герменевтической деятельности от понимания воспринимающего текст в переводе.
Полный текст
Потребность обратиться к таким разрабатываемым последователями Юрия Николаевича Караулова исследовательским направлениям, как: когнитивные и концептуальные структуры языкового сознания, языковая компетентность автора художественного произведения, этнокультурная специфика русской и нерусской языковой личности (картина мира, ментальность и национальный характер), культурологические аспекты и семантика переводного текста в восприятии нерусской языковой личности [1—11], возникла у автора данной статьи в связи с осуществленной в 2006 году работой над переводом на испанский язык [13] новеллы Вадима Месяца «Ветер с конфетной фабрики» [12], опубликованной в 1993 году издательством «Былина» и переизданной в 2005 году в издательстве «Эксмо».
Работа над переводом, требующая, прежде всего, декодирования семиотики культуры текста-источника, имела своим следствием необходимость произвести в отношении русского и испанского языков сопоставительный анализ соответствующих образов национального сознания, а также составляющих картины мира. Данным концепциям, уже в области сравнительной лингвистики, посвящены несколько фундаментальных для испанской русис-тики трудов, написанных Юрием Николаевичем Карауловым совместно с Doctor Honoris Causa Российской Академии Наук Марией Санчес Пуиг, основоположником испанской славистики [2; 5; 6].
Переводчик располагала еще одним инструментом исследования речемыслительной деятельности русской языковой личности, а именно: авторским текстом-результатом. Следует отметить, что текст новеллы «Ветер с конфетной фабрики» представляет собой интереснейший пример функционального воздействия индивидуальной ассоциативно-вербальной сети, одновременно проявившей себя в качестве неотъемлемой составляющей, субстрата, коллективной (совокупной, по выражению Ю.Н. Караулова) языковой способности русской языковой личности [1].
Прежде чем перейти к разбору с указанных позиций текста этого произведения, приведем содержание статей «Родина/Patria» (концепта, являющегося главной темой данного произведения), представленных в двуязычном словаре «Ассоциативных норм испанского и русского языков» [5], а также наши к ним комментарии, которые невозможно было не иметь в виду при работе над переводом.
В двуязычном словаре «Ассоциативных норм испанского и русского языков» представлены итоги анкетирования носителей русского и испанского языков на основе списка стимулов, включающего 108 слов.
Анкетирование для русскоговорящих было проведено в 1993 году, то есть в период выхода «Ветра с конфетной фабрики» в свет, а для испаноговорящих информантов — в 1997—1998 гг. (как уже указывалось, в Испании книга была опубликована в 2006 году). Возраст опрашиваемых, в обоих случаях, составлял 19—20 лет.
Обратимся к статье «Родина» [5. С. 144] Прямого русского словаря:
Родина (592+123+9+85): мать 221; моя 56; Россия 41; страна 23; дом 20; отчизна 17; земля 13; отечество 12; одна 8; зовет 6; город, любовь, мать зовет, Москва, природа 5; край, патриотизм, родная 4; большая, великая, жизнь, любить, наша, уродина, чужбина 3; близкое, в опасности, гордость, деревня, защита, Курск, любимая, мать ваша, место, патриот, Русь, счастье 2; адрес, арена, армия, береза, березы; березы; поля, трава, нищета; богатая, Владивосток, Вся власть Советам!, где я родился, где я живу, горы, далекая, ДДТ, долг, дорога, дорогая, душа, единственная, ее мать, жалко, ждать, жить, здесь, знает, и душа, Израиль, КПСС; край, где родились; красивая природа, красота, Ленин, люди, малая, маленькая, матушка, мать вашу, Медвенка, место жительства; место, где родился; мой дом, моя земля, моя страна; моя, Россия; навсегда, нет понятия такого, нечто, обидно, она одна, опять; отечество, место рождения; отсутствует; отчизна, долг; отчизна, мать; памятник, партия, песня, планета; поля, реки; пропили, Рига, Россия-матушка; Россия, Курск; РФ, самая лучшая, своя, святое, село, сердце, сила, СССР, стихотворение, столица; счастье, боль; там, где-то; тяга, у меня она есть, Украина, хорошая, хорошо, широка, Штирлиц, это свято 1.
Думаем, что мы не ошибемся, выделяя на основе лексико-семантических компонентов данной статьи следующие когнитивные составляющие русского национального сознания, ассоциирующиеся с понятием «Родина». К важнейшей из них относится сема безусловных, почти биологических уз принадлежности к родине в сочетании с ее сакрализацией (мать, Россия-матушка). Причем это чувство неотъемлемой принадлежности носит интимный (дом, счастье), относящийся к внутреннему миропониманию, характер (моя). Индивид признаем в качестве единственно приемлемой для него родины — Россию (одна, единственная, навсегда). Однако, логическим следствием такой жизненной позиции является не только любовь, великая, гордость, патриотизм, патриот, отчизна, отечество, долг, тяга, душа, памятник, стихотворение, песня, Русь, святое, это свято, у меня она есть, но и (вспомним: «Родина-мать зовет!») Родина — в опасности, мать зовет, защита, армия. Это морально-этическое восприятия концепции. Политико-идеологическим компонентом является: Родина — вся страна, то есть, имея в виду возраст опрашиваемых, вся территория СССР.
При этом родин как бы две: одна воспринимаемая в своей исторической традиции и преемственности, и другая — только советская. С одной стороны, это — Русь, Россия-матушка, а с другой, это — СССР, Вся власть Советам!, партия, КПСС, Ленин, знает.
Кроме того, Родина и большая, причем ее символом является Москва, столица (в испанской статье ассоциаций, приводимой далее, это — флаг, герб, гимн), и маленькая/малая: край, где родились, место, где родился. Это — Владивосток, Медвенка, Рига, Курск. Это и город, и деревня, село. Это и почва, то есть корни человека: земля. Эта земля — прекрасна: красивая природа, красота, березы, поля, трава, горы, реки. Однако в плане «обустройства», перед нами только одно «за»: богатая, в сравнении с несколькими «против»: уродина, нищета, ДДТ, пропили.
Заметны, малочисленные, и голоса тех, кто сомневается в сакральности этого понятия: место рождения, место жительства, нет понятия такого, нечто, опять, отсутствует, планета, или же прямо его отвергает: там, где-то, Израиль.
Усматриваются также «зашифрованное» присутствие таких компонентов национального сознания, как «Россия-мученица» (жалко, боль, обидно) и «вера/надежда на лучшее будущее» в сочетании с фреймом «пассивность русского характера» (ждать).
Теперь процитируем, в нашем переводе, статью “Patria/Родина” Прямого испанского словаря [5. С. 143]:
Patria (573+187+20+141) — Испания 94; страна 56; нация 36; флаг 30; дом 24; ничто 20; земля 13; очаг 10; любовь 8; Государство 7; г...но, чувство 6; девушка, фашизм, мир/планета, существительное, глупость, 5; армия, глупость, честь, ложь/вранье, национализм, гордость, народ 4; отвращение, ложь/неправда, национальный, отсутствует/нет, любимая 3; сердце, защита, герб, сущность, неважное, неподчинение, мать, мой дом, военная служба, нет, не существует, ни о чем мне не говорит, ненависть, король, единство, и король 2; ?, ???, абстрактно, нечто большое, любимая, желто-красное1, ностальгия, нехватка, архаичный, архаизм, флажок, хорошо, надоедливо, лицо, закрыто, понятие, установившиеся понятие, космополитичная, искусственное построение, что такое?, что такое, нелепость, долг, внутри, кого?, диктатура, достоинство, там, где нахожусь, там, где мы родились, где я родился, сомнительная, р. Дуэро, Испания, флаг, эта, государство, национальное сознание; оправдание, иностранная/чужая, фальшивая, семья, фашистская, счастье, счастливая, людское братство, граница, Галисия, идиотизм, Гонзало, война, факт, лживое понятие; гимн, другие; ограниченная идея, идеал, церковь, иллюзия, иллюзорно, безразличие, несуществующее, выдумка, ... твою мать, нецензурное выражение, самая лучшая, надгробная доска, далекое, язык, сумасшествие, самое лучшее, сражаться?, сражаться, место, место рождения, родина-мать, карта, г...но, лучшая, миллионы, моя страна, многоцветная, дешевый национализм, ничто?, ни границ, детство, ребенок, это слово мне непонятно, не существует/нет, это все мы; это еще не все, мне незнакомо, у меня нет, наше, никогда, забывание, темнота, страна рождения, пустое славословие, для того, кто ее желает иметь, пария; прошлое, настоящее и будущее; мир/мирное, КПСС, малая/маленькая, человек, принадлежность, мало, власть, политика, владение, происхождения, собственность, непорочная/чистая, корень, основа существования; неприятие, расизм; ответственность, красный, надежность, чувствовать, общее чувство, чувствовать гордость, существовать/быть, всегда, солдат, земля/почва, все, все, глупое политическое понятие, дурак, традиция, твоя страна, тяжелый крест для народов, одна из любимых любым человеком вещей, глупость, единственная, выдумка, утопия, пустота; согласен/все так, но это не Испания, а жизнь; насилие и свобода, я, ботинки 1.
В случае образа сознания испанскоговорящей личности, при совпадении основных моральных ценностей, ассоциирующихся с понятием «Родина», и при абсолютной национальной самоидентификации отвечающих с Испанией, отмечается, в сравнении с русским национальным сознанием, присутствие бóльшего чувства не столько коллективизма, сколько, скорее, сообщества: нация, народ, лицо, людское братство, миллионы, это все мы, все (в русской статье только один раз появляется люди).
Также обращает на себя внимание более критичное (и более распространенное) отношение к данному понятию, которое рассматривает его как некую фигуру, лишенную реального содержания, навязанный концепт: Государство, флаг, ничто, глупость, искусственное построение, архаизм, фальшивая, лживое понятие, безразличие, несуществующее, герб, дешевый национализм, выдумка, пустота, оправдание, глупое политическое понятие, тяжелый крест для народов; согласен/все так, но это не Испания, а жизнь; насилие и свобода; я и т.п. Есть несколько упоминаний (средний возраст опрашиваемых в 1997/98 году — двадцать лет, Франко умер в 1975 г.) о недавнем прошлом (коллективная память): диктатура. И только одно упоминание чувства преемственности: прошлое, настоящее и будущее.
В целом, в случае испанского менталитета, общее восприятие понятия «Родина» можно, пожалуй, определить как «ни о чем мне не говорит, абстрактно, идея». Другими словами, индивидуум считает себя в праве самостоятельно решить для себя, принимает ли он это понятие1 в качестве одной из своих жизненных установок, моральных основополагающих принципов, столпов своего мировосприятия.
Отметим также и следующую особенность реакций испаноговорящих: в силу восприятия концепта «Родина» как абстракции (идея, согласен/все так, но это не Испания, а жизнь), практически все выражения, составляющие реакции, относятся к понятийно-абстрактной лексике. При этом родная земля не характеризуется ни в плане абстрактном (ср. русск.: береза, то есть символ России; красивая природа, красота), ни в плане отражения ее физического облика (ср. русск.: березы, поля, трава, горы, реки). Единственный случай прямой топонимической номинации (р. Дуэро) представляет собой, как нам кажется, случай символического представления Испании, так как эта река протекает по территории, ассоциирующейся со Старой Кастильей, колыбелью испанской государственности. Конкретизируется только сегодняшний день, но исключительно в смысле индивидуального и «заземленного» жизневосприятия: девушка, Гонзало (личное имя).
Отметим также, что в данном случае отсутствует какое бы то ни было упоминание о «большой Испании» и, тем более, о главном городе-столице. Это связано, вероятно, с тем, что для испанца главный — это его родной город или населенный пункт, поэтому для него, если и существует Родина, то исключительно в качестве малой/маленькой: Галисия. Отсутствует также лексико-семантическое выражение культурно-семиотической оппозиции центр — периферия, город — деревня. Нет ни малейшего упоминания об удобстве или приглядности организации материальной жизни, быта.
В целом представляется уместным, сравнивая статьи реакций, выделить своеобразную доминанту испанского самосознания и видения мира. Это — индивидуализм и независимость суждений.
В случае русского самосознания в семантическом гештальте поля «Родина» присутствуют как бы две ипостаси — возвышенно-символическая и конкретно-бытийная: мать, отчизна, отечество, одна, любовь, Москва, патриотизм, великая, жизнь, гордость, патриот, Русь, счастье, береза, долг, чужбина, душа, единственная, красота, навсегда, памятник, стихотворение, песня — город, деревня, край, березы, поля, трава, горы, реки, уродина, нищета, жалко, ДДТ, ждать, обидно, пропили, боль.
Другими словами, как представляется из приведенных цитат, русский человек существует как бы в двух измерениях: идеально возвышенном и реальном. Причем второе, то есть реальное, обособленно от первого, идеально-возвышенного, и занимает весьма второстепенное место в оценочно-семантической структуре понятия «Родина».
С позиций анализа текста подтверждением данного соображения может, как нам думается, служить тот факт, что при упоминании компонентов данного ассоциативного поля, предполагающих отражение материальной, физической, реальности (березы, поля, трава, горы, реки), не употребляются соответствующие качественные прилагательные.
Кроме того, с точки зрения анализа русской языковой личности, отраженные в упомянутых реакциях носителей русского языка пресуппозиционные и прецендентные связи [6] можно в целом определить как речемыслительные стандарты, или элементы «ритуализированного дискурса» [3]. К ним, вероятно, относятся следующие:
Родина-мать: Родина-мать зовет; наша Родина; великая родина; любимая родина; святое чувство Родины; Родина — это свято; гордость за родину; у меня она есть; далекая родина; наша родина — самая большая страна в мире; Родина-мать в опасности; защищать родину; наш долг защищать родину; Родина слышит, Родина знает;
Россия-матушка: Русь-матушка; родной край — чужбина; далекая родина — горькая чужбина; за Россию обидно; Россию пропили;
СССР: наша Родина — Советский Союз; Вся власть Советам!; Партия — наш рулевой; Ленин — наше знамя; советский/русский патриот; «у советских собственная гордость»; наша социалистическая родина — самая лучшая; «достаю из широких штанин...»; «... и жить — хорошо»; «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек/ я другой такой страны не знаю, где так вольно жил бы человек»;
Москва, столица: столица нашей родины — Москва; сердце нашей родины — Москва; «дорогая моя столица, золотая моя Москва»;
Штирлиц: неизвестные/славные/скромные герои Родины; рыцари без страха и упрека / наши славные чекисты; и им подобные2.
***
Обратимся теперь непосредственно к предмету настоящей статьи, а именно: к анализу этнокультурной, в широком понимании, специфики текста «Ветра в конфетной фабрики» и ее восприятию и декодированию испанской языковой личностью в переведенном тексте новеллы.
Анализируя ассоциативно-вербальную сеть текста новеллы с точки зрения выраженных в нем, свойственных русской культуре, элементов картины мира/знаний о мире, заключающихся в «терминологически окрашенных (строго научных или повседневно-бытовых) понятиях; в идиоматических выражениях, и шире, — в тропах, образах, игре слов; в генерализованных высказываниях, то есть сентенциях и афоризмах; в сопровождающих речевое поведение характерных для данной культуры жестах; в даваемых сжатых, почти символически-знаковым образом обозначениях (описаниях) типовых для данной культуры ситуаций, в типовых культурно-бытовых фреймах» [1. С. 90], а также явлений, относящихся к уровню прагматическому (пресуппозиция, прецедентные тексты, оценка), мы постоянно сталкивались с языковым выражением национальных «мест памяти», то есть тех образов, понятий, представлений, названий, фактов, вещей, слов и «мест» из отечественной истории, давней и не очень давней, которые живут в сознании, в спонтанной памяти (фонд экстралингвистических сведений/апперцепционная база) среднестатистического носителя русского языка, и актуализируются с разными целями в производимых им текстах [1. С. 145—151].
Главной темой «Ветра в конфетной фабрике» является тема России, ее настоящее и будущее, которое зависит от способности или желания россиян извлечь для себя выводы из уроков прошлого, как совсем недавнего (советский период), так и более отдаленного. При этом В. Месяц делает четкое и недвусмысленное различие между понятиями «Россия» и «СССР».
Актуальный момент новеллы приходится на первую половину 1992 года. Главное, по мнению автора, событие в жизни России, роспуск Советского Союза, уже произошло. России и ее народу предстоит сделать выбор, который уже не может быть ни единым, ни единогласным, ни единственно «правильным», ни обязательным для всех к выполнению, так как люди этой страны, вероятно впервые в своей истории, могут реально осуществить свое право на свободу личного выбора. И от того, как они воспринят «ветер, дующий с конфетной фабрики»: в ключе «это сладкое слово свобода» или в ключе «сладкие воспоминания о советском прошлом», зависит их будущее и будущее России.
Интенционно-прагматическая установка новеллы маркируется в тексте как оригинала, так и, соответственно, перевода, лексико-семантическим кодовым знаком «действовать», определяющим все составляющие текстуальности произведения.
Развитие ассоциирующихся с главной темой произведения когнитивно-семиотических блоков (тем), основывающееся на прямом воспроизведении типовых для русско-советской культуры ситуаций и на референционной аллюзии к типовым культурно-бытовым фреймам, базируется на обращении к семиотическим концептам русской культуры, в том числе национального сознания. Это концепты: Родина, Россия — мученица, Москва — третий Рим, Москва — периферия, власть — воля-стихия, правда/истина, можно — нельзя, правильно — неправильно, пассивность русского характера, враг и др.
Таким образом, текстоформирующим фактором новеллы становится эксплицитное и имплицитное обращение к составляющим семиосферы русской культуры. Особую важность в этой связи имеет интертекстуальный компонент новеллы: в данном отношении ее текст следует рассматривать как гипертекст национальной культуры. Данный компонент находят свое выражение как на уровне функционирования индивидуальной ассоциативно-вербальной сети (идиолекта) автора, базирующейся на речемыслительных стандартах совокупной русской языковой личности, так и на уровне структурно-композиционном.
Личный выбор в России 1992-го года сводился, по мнению автора, к следующему: продолжать поклоняться привычным «идолам/фетишам» и, «не обращая ни на что внимание, пройти мимо» возможности хоть что-то изменить3; молниеносно изменить «свои взгляды и позиции» и «исправить» материалы собственных биографий, с тем чтобы сохранить или добиться высокого общественного положения; проявить «свой естественный облик» и начать без стеснения, так как «стесняться уже будет некого и нечего», «рвать, хватать и делать фиги»; эмигрировать «в страны ближнего или дальнего зарубежья»; разрушить, стихийно разнести «советскую цивилизацию», даже не попытавшись извлечь из ее существования необходимые «уроки истории», или, в случае «тех, кто рискнул остановиться, принюхаться, понять в чем дело» начать, наконец, действовать, изменять и создавать4, даже если при этом личность будет руководствоваться «откровенно романтическими и несомненно пошлыми целями» «поиска своего личного Эдема»5.
Тема свободного личного выбора собственного, то есть индивидуального, пути, являясь, в сущности, основой авторской концепции произведения6, развивается на протяжении всей новеллы и получает свое формальное выражение в последней, четвертой, части, озаглавленной «Исход», что со всей определенностью ассоциируется с известным библейским сказанием, которое в данном случае интерпретируется как призыв признать право индивида отказаться, в поисках желанной для себя жизни, от вбираемых с детства истин7, «каким бы незыблемым это ни считалось долгие века» и действовать, «даже сознавая бессмысленность и несбыточность своих начинаний» и даже осознавая, что упражнение в Свободе связано с риском: неизвестностью и непредсказуемостью результатов8.
Еще раз отметив, что текст новеллы представляет собой любопытнейший образец функционально-прагматического воздействия индивидуально-авторского дискурса, базирующегося на речемыслительных стандартах обобщенной русской языковой личности, сформировавшейся, кроме того, во вполне определенный, советский, период, укажем, переходя непосредственно к предмету нашего анализа, что лексико-семантическая ткань произведения не только пропитана, но методологически-формально зиждется на стилистическом приеме образования троп и игры слов. Однако с той особенностью, что в качестве опорных синтаксемных моделей текстообразования выступают пропагандистские клише советской и коммунистической идеологии или же перифразы и парафразы, основанные на цитации литературных произведений программы обязательной общеобразовательной средней школы указанного периода.
Приведем только два примера из 3-ей главы книги: (1) «...он призывает водителя гнать машину как можно скорее, который раз в отечественной истории выкрикивает: «эх, какой русский...», хотя, при всем этом, вовсе не уверен, что он, Лямкин, — подлинно русский человек» [10. С. 74]; и (2) «Он бродил унылым чужаком по всепоглощающему празднику нашей жизни, решив, что попросту не любит этого народа, случайно проникал в глухие, подернутые паутиной, столичные углы; посещал близлежащее полузаброшенное кладбище с могилой философа Чацкого, прокричавшего в финале его любимой книги — «Карету мне, карету!», и вновь и вновь повторял себе извечное — всмотритесь в эти лица. А что ему еще оставалось делать? Танцевать самбу? Бить в африканские барабаны? Мечтать о звезде Марс, кроваво-красной, как и рубиновые звезды над горой Кремль? Быть может, ему, как и его предшественнику, нужно было уехать за рубеж, уйти в подполье, наедине со своей истиной; быть может, он должен был отдаться борьбе за свободу всего человечества, приобретя достаточное количество знаний из журнала «Вокруг света», но однажды, как ни странно, все решилось само собой...» [10. С. 64].
Характеризуя новеллу В. Месяца в целом с точки зрения отражения в ней языковой компетенции автора, а также такой составляющей когнитивного уровня структуры языковой личности, как апелляция к прецедентным текстам, укажем, что, по нашему мнению, апелляция, в первую очередь, к «Горю от ума» и некоторым другим произведениям русской литературы (в частности, к «Мёртвым душам») выполняет, в случае «Ветра с конфетной фабрики», не только функцию отсылки к известным «местам памяти», но имеет структурный, текстоформирующий, характер.
Начнем с того, что само название «Ветер с конфетной фабрики», а также многие тематико-семантические узлы новеллы прецедентно и пресуппозиционно соотносятся, прежде всего, с «Горем от ума».
Так, у русскоговорящего читателя при прочтении этой книги, посвященной судьбе России и переживаемым страной драматическим коллизиям, могущим привести не только к социальному расколу, но, может быть, и к исчезновению державы и великому исходу ее народов, не может не возникнуть ассоциация с «И дым Отечества нам сладок и приятен!», помимо, конечно, естественно напрашивающейся когнитивно-вербальной ассоциации с «ветром перемен».
При этом концептуальная и стилистическая трактовка образа «ветер с конфетной фабрики — ветер перемен», наводящая читателя на мысль о не просто изменениях, но о радикальных, революционных, преобразованиях, ассоциируется с поэмой А. Блока «Двенадцать»9.
В свою очередь, кроме прямой номинации упомянутой комедии и цитирования известных строф («где оскорбленному есть чувству уголок» и пр.), присутствует индивидуально-авторская апелляция к персонажу Чацкого (Глава 2.4. и прочие), имеющая, однако, своим следствием абсолютно непривычную интепретацию данного образа и создание нового образного ряда «обличителей язв общества».
Речь идет о героях советского времени, самим своим существованием обличающих «век минувший»: приспособленцах всех мастей и оттенков, политических перевертышах, лубочных ура-патриотах, «мужчинах в ярких мохеровых шарфах и женщинах, не снимающих норковых шапок в драмтеатре» [12. С. 111] — носителях и знатоках советской морали, «умных философах Чацких»10.
При этом «лишним человеком», то есть личностью, отвергаемой социумом, в данном случае советским, вследствие своего неподпадания под привычные и общие для большинства граждан стандарты устройства быта и существования «в нашей с вами одинаковой, поровну разделенной на всех и на каждого, все еще остающейся социалистической, жизни» [12. С. 77], выступает случайно обласканный Фортуной и КПСС, один из двух главных героев произведения — Виктор Лямкин [12. С. 78], в чьей фамилии без труда угадывается гоголевский Ляпкин, а совокупная интерпретация обоих компонентов имени наводит на мысль об авторской сентенции о торжестве посредственности.
В то же самое время, за описанием социума, то есть толпы, легиона обывателей, его готовности поверить во что угодно, в любую глупость, его тупости, возрастающей в ритме крещендо, легко угадывается не только известная сцена «Горя от ума», но и пьесы А.Н. Островского11.
Кроме того, следует также отметить, что, помимо характерного для повествования сатирического тона, сюжетное развитие всей новеллы в целом, молниеносно проносящее12, в том числе средствами железнодорожного транспорта, читателя «по городам и весям» России в целях всестороннего описания положения страны и разнообразнейших слоев ее населения, недвусмысленно ассоциируется с «Путешествием из Петербурга в Москву», с «Кому на Руси жить хорошо?» и с «Мёртвыми душами».
Это молниеносное, калейдоскопно развивающееся, движение дискурса, попеременно фокусирующееся на без труда узнаваемых типажах и персонажах советской действительности, имеет своим следствием эффект отражения в зеркале, панорамного обзора, своеобразного документального кинематографа.
При этом трагически звучащее авторское, многократно предваряющее рассуждения повествователя, «всмотритесь в эти лица, всмотритесь» воскрешает в памяти и сознании читателя-обозревателя не только фамусовское «Ба! Знакомые все лица!», но и многочисленные сцены «Ревизора». А путешествие современного Чичикова-Лямкина по России призвано в книге дать ответ на вопрос «Куда же несешься ты, Россия, птица-поезд».
В равной степени представляется очевидным, что «город Ы», — словоупотребление, использованное В. Месяцем в качестве образа-символа любого населенного пункта русской глубинки, то есть малой родины, в которой «родился, будет жить и, вероятно, умрет» каждый второй россиян, но из которой по известной культурной и социальной традиции молодежь стремится вырваться, устремившись в Москву, — навеян «Васюками» Ильфа и Петрова.
Судите сами [12. С. 32. 2-ая глава, «Школьники»]: «Впрочем, не стоит расстраиваться, что ваш родной городишко не будут изучать по букварю школьники всех прогрессивных стран мира (...); тем более не за горами то время, когда и ваш город сравняется со Столицей величием и красотой — такое время обязательно нагрянет, если вы еще не читали, то наверняка об этом догадываетесь: предчувствие близкого чуда и свершения буквально растворено в воздухе. Вот-вот нагрянут великие времена, и над каждым городком, над каждой железнодорожной станцией и полустанком загорятся такие же яркие, как в Москве, рубиновые звезды — праздник тепла и света, очаровательная электрификация всей страны зальет своими лучами самые темные уголки обрусевшего пространства; вся страна целиком и полностью станет одной огромной Столицей...».
Кроме того, развитие темы «провинция — Москва», являющейся одним из краеугольных фреймов русской культуры и представленной сюжетной оппозицией «городок Ы-Столица», ассоциируется, во многих случаях неизбежно, с «Тремя сестрами».
Также показателен и включенный в сюжетную линию произведения, повествующую о детстве собирательного героя-образа, символизирующего «молодое поколение строителей коммунизма», в качестве рассказа о реальном эпизоде жизни его школьной учительницы, подробнейший пересказ, выполненный в сатирическом ключе (Гл. II), содержания музыкальной кинокомедии «Волга-Волга». Этот пассаж играет важную роль в уяснении авторской концепции системы («фабрики») воспитания с детства верности советскому строю, основанной на апелляции к искренним чувствам любви к родине и долга.
В целом же национальный менталитет и общественное сознание (в этом смысле «Ветер с конфетной фабрики» можно с полным основанием охарактеризовать, перефразируя известное выражение, как энциклопедию русско-советской жизни/видения мира, стилистической тон которой представляет собой своеобразное сочетание сатиры и высокой трагедии) отражены в новелле в виде когнитивно-семиотических блоков (т.e. тем), как последовательно развиваемых на протяжении всей книги, так и, хотя и присутствующих, но выступающих в дискурсе спонтанно-эпизодически, «штрихами».
Приведем несколько примеров тематического развития в «Ветре с конфетной фабрики» присущих национальному менталитету фреймов/концептов, зафиксированных в процитированной вначале статье «Родина» и получающих в новелле В. Месяца вполне определенное, прагматически направленное, интепретационное выражение.
Начнем наш анализ с рассмотрения присутствующего в национальном сознании соотношения «власть» и «стихия/воля».
Эта когнитивно-семантическая и когерентно-тематическая линия разрабатывается в новелле достаточно подробно, с нюансами.
Так, соотношение «власть» и «Россия» рассматривается, с одной стороны, как фрейм «русскому народу крепкая рука нужна, порядок», ассоциирующийся с фигурой главы государства. С другой стороны, данное соотношение включает в себя понятие критического отношения к представителям власти (вероятно потому, что центральная власть — далеко, а местная — на виду, и грешки ее (и тут вспоминается Городничий), ввиду близости, известны): «эх, хорошего мы выбрали президента» [12. С. 13] versus «он умудрился устроить скандал в одном из предместий столицы, обозвав тамошнее начальство (видимо по заслугам) дерьмовыми свиньями» [12. С. 15].
При этом присутствует определенный нюанс, который также ассоциируется с тематикой «Ревизора» и его «борзыми щенками»: «Разумеется он мало помнил о деталях этого дела, но, тем не менее, прекрасно понимал, что теперь ему необходимо заехать в Елисеевский магазин за поллитрой отборного коньяка, шоколадом и прочей, приличествующей случаю, бутафорией. (…) Штраух манерно предлагал, взамен неразглашения его поступков, достать тамошнему майору японские часы с калькулятором» [12. С. 16].
В то же самое время стихийно-вольная наклонность русской души оценивается дуально: «Прекрасная недовоплощенность, произвольность суждений, действий, учений, правил, возможность ценить и любить что попало, тосковать, завидовать, метаться, ненавидеть Отчизну или донельзя превозносить ее, веками иметь самую свинскую в мире государственность и, тем не менее, оставаться более свободными, чем прочие представители человечества; не знать сословий, чинов, классов; выбирать себе в кумиры самые нелепые авторитеты или позволять себе жить вообще без царя в голове; привычка к непоследовательности и беспорядку, неотесанность, дилетантство, бульканье и мерцание, простор без конца и края, на котором просто нечем заняться, кроме как радостно или злобно сходить с ума, — в общем милый сердцу каждого гражданина и пьяницы хаос, доведенный в течение последнего столетия до идеала, подарил нам, наконец, случай вздохнуть свободно.
Теперь все равно уже никто не знает, каким образом жить дальше, а когда уже нечего терять, можно делать что заблагорассудится» [12. С. 134].
Тема настоящего/простого русского человека формулируется у В. Месяца своеобразно: он видит это качество лишь в жителе российской глубинки, предполагая, вероятно, его бóльшую близость к «натуре», почве, то есть к естественному состоянию россиянина, вследствие отдаленности от больших городов: «оказавшись в маленьком заснеженном пригороде, я проникся трогательным чувством единства с его природой и добросердечными жителями (...). Провинциальный уклад жизни всегда возвращал мои амбиции на место, и, подружившись с официантками железнодорожного ресторана и продавцами елочных игрушек, я уже не мог понять зачем и куда нам нужно теперь возвращаться» [12. С. 16].
Тема и линия «левши» — природной, самородной, талантливости русского человека — также развивается в новелле: «Вера Кировна ... лепила фигуры и маски вовсе не в народном, традиционном, а совершенно своем, индивидуальном стиле» [12. С. 105].
Фрейм национального сознания «далекое-близкое» представлен в данном произведении в двух значениях. Во-первых, как «вера в лучшее будущее», имеющая своим источником, вероятно, религию: «Но если это место будет действительный Эдем и белая российская Индия...» [12. С. 28], и, во-вторых, оппозицией «романтический порыв — суровая действительность»: «Ведь жизнь течет медленно, незаметно, и ты обязательно привыкаешь к подобному положению вещей, тебя уже не смущают те или иные мелочи, неудобства, тем более когда у тебя есть мечта, высокая, безнадежная, такая несбыточная, что будто бы ее и нет. И хорошо, что нет, потому что иначе она мешала бы заниматься насущными делами повседневности» [12. С. 49].
Приведем лишь один пример отражения в книге речемыслительного стандарта (Родина в опасности, защита), зафиксированного в процитированной статье двуязычного словаря: это присутствующая в повествовании тема недоверия и боязни чужого, иностранного: «Придется обратиться к истории, хотя бы ненадолго. Обратились? Разумеется и здесь не обошлось без немцев» [12. С. 120].
Присутствует в новелле и «еврейский вопрос»: «Кроме этого достоинства, Евгений Самуилович обладал неиссякаемой энергией, которую он был готов направить куда угодно и как угодно, умением обозвать любого обидным психиатрическим термином, а также чем-то вроде американской мечты, заключающейся в стремлении иметь собственную прачечную где-то в пригороде Бостона» [12. С. 19].
Тема пьянства русского человека (зафиксированный в статье «Родина» речемыслительный стандарт «Россию пропили»), в сочетании с упреком в «пассивности», также находит свое отражение в тексте новеллы. При этом, по мнению повествователя, пьянство российского народа было и остается способом ухода, побега, от ужасов действительности: «Бытовое пьянство — такой традиционный недуг и защита от экзистенциального ужаса, обыкновенная чепуха и привычка, неожиданно и пошло лишили его страданий, осмысления, преображения» [12. С. 117]; «Вы ведь не дослужились до белой горячки, как какой-нибудь мой друг Иван Лапшин, контуженный всеми мировыми и гражданскими войнами и чуть не каждую ночь сваливающийся на пол с койки в милицейском общежитии? (...) он смотрит на нас с тобой черно-белыми славянскими глазами — и мы проникаемая (...) и нам жалко, что он до сих пор так сильно болен, когда у него такое доброе лицо» [12. С. 4].
Тема пассивности жизненной позиции13 развивается В. Месяцем в качестве контрапункта сформулированной уже в первом абзаце концептуальной установки новеллы, призывающей преодолеть рутину привычных схем, идеологических и поведенческих, и, как он выражается, «вырваться-таки из липких пут повседневности», принять активную жизненную позицию, сделать личный выбор и, вопреки укоренившейся традиции поиска «Кто виноват?», начать действовать. Так как более простой и более привычной (и давно отмеченной в русской литературе) альтернативой является «пролежать на диване, слушая раскаты органной музыки, чтобы произнести в конце концов: «Боже мой, Боже мой, сколько веков прошло и ничего не изменилось» [12. C. 108].
В данной связи следует указать, что интенционно-прагматическая установка (внутренняя структура) «Ветра с конфетной фабрики» имеет две состоящие, также глубинно, интимно, связанные с национальным сознанием, отраженным в поверхностной структуре произведения.
С одной стороны, это призыв «вырваться-таки из липких пут повседневности», из тисков «смертной тоски» пассивности и пленительного гипноза «конфетной фабрики — фабрики грез», символа советского строя, вырабатывающей фикцию в запланированных индустриальных масштабах, достаточных для того, чтобы обворожить не только советских граждан, но и граждан всей планеты14. С другой стороны, это призыв, маркируемый в тексте произведения лексико-семантическим кодовым знаком «действовать».
Авторское аргументирование необходимости принять активную жизненную позицию понятийно и композиционно-структурно связано с концептами «Россия — великая мучительница»15 и «Родина-мать в опасности / Родина-мать зовет», а сюжетно с уже упомянутым приемом калейдоскопно-фокусированного описания положения страны и ее населения, использованным авторами «Путешествия из Петербурга в Москву», «Кому на Руси жить хорошо?» и «Мёртвых душ».
Авторская концепция спасения России в критический для ее судьбы момент, проявляющаяся в композиционной структуре произведения, где первая и третья главы носят имена героев повествования «Андрей Лебедь» и «Виктор Лямкин», также самым интимным образом связана с определенным лингво-когнитивным компонентом русского самосознания, а именно: «Россия своим народом спасется». Причем призыв к единению народа России является одним из имлицитных лейтмотивов текста.
Так, в 4-й главе книги, озаглавленной «Исход» и являющейся развязкой и кульминацией всего повествования, родившийся в начале сороковых годов носитель русских традиций, патриот, «рыцарь и защитник, хоть какого-либо маломальски порядочного правопорядка», искренне верующий в чекистское «чистые руки и горячее сердце», многие десятилетия проработавший «старшим инспектором Прокуратуры по особо важным делам» Андрей Лебедь, чье имя также не является случайным, ввиду возникающих ассоциаций с апостолом Андреем Первозванным — покровителем России (а также с поэмой Александра Блока «Двенадцать»), и с лебедем — символом преданности выбранной раз и навсегда подруге, и не очень-то задумывающийся над сутью происходящего «профессиональный тунеядец» Виктор Лямкин, родившийся в конце пятидесятых годов, разными путями и по разным причинам пришедшие к осознанию необходимости действовать, активно участвовать в происходящих переменах, объединяются и создают «некоторое подобие боевой группы».
Эти Минин и Пожарский России девяностых годов выходят навстречу «сладкому ветру», предполагая, что он дует с «конфетной фабрики», так как до них доносится шум «производственного процесса» и «суровые голоса пролетариев».
И куда же они попадают, на ощупь преодолев, в поисках его источника, высокие стены и ночную тьму?
Они оказываются на хлебном заводе, где «первая богиня конфетного производства» Эльвира (это древнегерманское имя означает «защитница людей») и «подобные ей женщины», облаченные в «белые халаты», на заре, выпекают хлеб (вспомним: «хлеб — основа основ/основа жизни» и «только бы не война»).
И Андрей Лебедь, и Виктор Лямкин «наконец поняли суть вещей и вернулись с небес на землю», так как «именной хлебный завод стал для них обоих в ту ночь единственно возможной основой всех основ». И когда, перейдя Рубикон, они «покидали его со слезами на глазах, зная, что теперь сюда уже никогда не вернутся», «было утро; простор открывался бегущим героям». «Они шли по незнакомой, казалось бы полностью изменившейся за ночь, местности; беззаботно глядели на милицейские луноходы и сыто журчащие фургоны с хлебом». «На устах покорителей продолжала играть блаженная улыбка» [12. C. 141].
***
Также необходимо еще раз отметить, что элементы картины мира, то есть социально-когнитивные фреймы и «места истории» советской эпохи, заключающиеся, по выражению Ю.Н. Караулова [1], «в даваемых сжатых, почти символически-знаковым образом обозначениях (описаниях) типовых для данной культуры ситуаций, в типовых культурно-бытовых фреймах», представлены в «Ветре с конфетной фабрики» чрезвычайно полно. Упомянем лишь некоторые:
- Коллективизм, выражающийся в лозунге «участие коллектива/общественности», доведенный до абсурдного вмешательства государства во все, в том числе интимные, аспекты жизни граждан: «...соседи, милиция, дворник с топором в руках, ворвавшись в квартиру, застыли бы в немой сцене над беспечным молодым повесой (...). Ну а если бы Лямкин к тому же оказался с женщиной? (...) И вот они мирно спят перед всем честным миром, который вереницами заходит в их, столь любопытный каждому и каждой, дом — и дом этот уже не является, закрытой от чужих глаз, цитаделью и крепостью, а есть самый обыкновенный проходной двор, где собака задирает свою заднюю лапу возле какого-нибудь старинного стула, и торговка со станции метро присаживается в прихожей со своим мешком торговать семечками» [12. C. 71]; «Нельзя мендальничать с теми, кто презирает коллектив; нужно быть жестче; вы должны принимать решения и давать уроки жизни даже лучшим своим товарищам» [12. C. 53].
- Социальный феномен под названием «жилплощадь» и ассоциирующийся с ним фрейм «соседи»: «увы, ребята, хозяин еще не помер — подождите немного» [12. C. 73]; «теперь нужно дождаться, когда же, наконец, уснут братья, сестры, троюродный дядя, который тоже почему-то живет вместе с вами» [12. C. 34]; «увы, она, как всегда, не успела добежать и была остановлена соседями, которые по крикам из вашей квартиры догадались, что у вас что-то не ладно» [12. C. 34].
- Ритуал поклонения: «Михаил Штраух по профессии был специалистом по Антарктиде и даже умудрился в свое время написать какой-то трактат — то ли о ее границах, то ли о государственном устройстве. Трактат я лично не читал, но, листая его однажды, обнаружил несколько цитат из нашего, увы, уже ушедшего в отставку, первого Президента — думаю, это серьезная рекомендация» [12. C. 19].
- Синдром Павлика Морозова: «выбежишь на улицу и понесешься по ней как угорелый, стараясь, как можно скорее, забыть все увиденное, продолжая бормотать что-то о чувстве своего пионерского долга, о справедливой каре, которая постигнет всех врагов твоей Советской Родины — ибо страх быть подкупленным, завербованным в чужую разведку окажется гораздо сильнее твоего желания остаться там, в этом немыслимом дворце сладкоежек» [12. C. 61]. В новелле имеются и еще более прямые апелляции к текстам А. Гайдара.
Приведем также несколько примеров авторского когнитивно-прагматического использования ассоциативно-вербальных тезаурусных стандартов русской языковой компетенции, которыми изобилует «Ветер с конфетной фабрики», классифицируя их в соответствии с критериями, предложенными Ю.H. Карауловым [1; 2]:
а) прецедентные тексты литературы, русской и нерусской: «здесь так хорошо, морозно и дымно, как в любом Рождественском сне; вечера на хуторе близ столицы могли бы продлиться и подольше, но ...» [12. C. 16];
б) использование автором прецедентных текстов национальной культуры при создании художественного образа: «Андрей Олегович, по непонятной мне причине, умел улыбаться как представитель совсем другой генерации, чьи прекрасные лица мы можем видеть на фотографиях и кинолентах послевоенных лет» [12. C. 18];
в) культурно-бытовые фреймы/ситуации: кооперативная литературы [12. C. 9]; встреча Нового Года: «Андрей Лебедь оказался поклонником группы «Битлз» и, запершись в кухне с моим товарищем Леонидом, он исполнил ее полный репертуар; я немного поплясал во дворе под гармонь с дворниками, поиграл с какими-то чудаками на площади перед станцией метро» [12. C. 17]; «итальянец Лука, занимающийся, как выяснилось, торговлей люстрами и другими электробытовыми приборами, вошел, потрясая бутылкой шампанского над головой и одаривая всех налево и направо сигаретами в красных пачках...» [12. C. 17]; «рестораторы почтительно расступились, а один из них даже поинтересовался, что новенького слышно про осажденный Бейрут» [12. C. 21];
г) устойчивые словосочетания и фразеологизмы: «Мы собирались взять штурмом один из первых открывшихся в Москве кооперативных ресторанов, этот оплот бездуховности и мещанства» [12. C. 19];
д) терминологически окрашенные понятия: бомж, секретарь партийной организации, нэпман, опергруппа;
е) название советских учреждений: Исполком, ЗАГС, КГБ, РАНО.
***
С точки зрения структурно-композиционной, упомянутые концепты русской культуры и рассмотренные когнитивно-семиотические блоки–темы «заявляются» в следующих, помимо заглавия, сильных позициях «Ветра с конфетной фабрики» (воспроизведенных, разумеется, в тексте перевода), а именно: первый абзац произведения, затем — пассаж из первой главы новеллы, в которой, как нам кажется, достаточно эксплицитно излагается авторская коммуникативная установка, и завершающий книгу последний абзац текста.
Процитируем первый абзац 1-й главы новеллы, озаглавленной «Андрей Лебедь»:
«Какое счастье, Андрюша, какое счастье: преодолели, свершили, смогли, вырвались-таки из липких пут повседневности, и пусть теперь осуждается как угодно, кем угодно, зачем угодно; все равно нам уже не вникнуть, не прислушаться, не повиниться — разве что кивать можно: киваю, обратите внимание, вновь киваю, соглашаюсь, благодарю, учитываю ... ибо не помочь нам похоже; не научить жить со всеми остальными веселой, дружной семьей; да и помогать не нужно — раз действительно свершилось, преодолелось, смоглось и пора идти за подарками, цветами-ромашками; куда вот только? В синий лес? в долины туманные?»
Обратимся теперь к отрезку, рассматриваемому нами в качестве эксплицитного выражения прагматической концепции всего произведения (подглавка 1.5):
«Можно тысячу раз спросить себя — зачем? Можно тысячу раз спросить — кто я такой? Тысячу раз объяснить, что все материки уже открыты, непокоренные народы завоеваны и истреблены, неприступные крепости и монастыри превращены в музеи, но эти объяснения лишь укрепят нас в отчаянной злобе. Все равно мировой порядок выдуман или открыт самими нами — неужели наш опыт и есть истина в последней инстанции? Но кто же тогда восхитит небеса своим невежеством и сумасбродством? Кто подтвердит, что в мире до сих пор еще возможно черт знает что, невероятное, незапланированное, дикое...
Мы ведь так окончательно скиснем, если не будем предполагать, даже в отдоленной перспективе, чего-то радикально нового. Надеется на полное избавление от душегубов и дураков, на построение Царства Божего на земле вопреки всем законам исторического развития, на возвращение собственной молодости, любимых людей. Кто сказал, что истинная вера — это лишь то, что устремлено к вечному, а тоска о многоэтажных странах, белых штанах и голливудских любовницах есть нечто второсортное? Не все ли равно, что нас ведет по жизни, если порой мечты о самых земных и обыкновенных вещах достигают уровня религиозного экстаза?».
И, наконец, завершающий текст новеллы — отрывок: «счастье — это самая трагичная, самая пронзительная и чистая вещь на свете, и любая песня о нем будет сметена смертью с нашей трудолюбивой земли, совершенно правомерно занимающейся только своими делами.
И поскольку все это именно так, то нам остается лишь ветер с кофетной фабрики, рвение, желание, мечта о далеких странах, несбыточных временах и свободных людях. Обо всем, что может вести вперед — о любви, карьере, мести, обольщении, завоевании, о покупке пачки папирос, знакомстве с Мерлин Монро или директором кондитерского комбината, посещении великой Столицы или разгадке тайны женского характера, о наследнике-сыне, о Третьем Риме, демократии, автократии, восхождении на монарший престол, об ананасах в шампанском и воскрешении из мертвых, о поцелуе французской дамы и обладании всеми женщинами на свете, о полной победе коммунистического труда и починке водопровода, об открытии новой звезды или острова в океане, об умении играть на дуде или прыгать со скал — обо всем, что еще может нас расшевелить, сдвинуть с места, заставить действовать, верить, спешить...» (Многоточие автора).
***
В рамках занимающей нас проблематики когнитивно-семантической интерпретации нерусской языковой личностью текста, созданного русской и для русской языковой личности, нам представляется правомерным признать факт изначальной ограниченности восприятия совокупной чужеродной семиосферы, воспроизвoдимой в тексте перевода, со стороны иноязычной языковой личности.
В известном смысле восприятие художественного текста в переводе можно свести к оппозиции «семиотика культуры текста-источника versus семантика переводного текста».
Само по себе обстоятельство невозможности полного декодирования художественного текста-источника информации не является экстраординарным, так как, даже для случая герменевтической деятельности, направленной на восприятие и понимание художественного произведения, созданного на родном языке рецептора, признается изначальная невозможность полной семантической и ассоциативной интепретации текста, даже при наличии у читателя достаточно широких фоновых знаний и общности исходной языковой компетенции.
Перевод, являясь актом межкультурной коммуникации, не в состоянии изменить сущности переводного текста: он, даже при идеальной, профессионально-корректной интепретации («правильный и полный» перевод) исходного текста со стороны переводчика, продолжает воплощать чужеродную и чуждую для воспринимающего текст в переводе семиосферу с присущим ей кодом.
Принадлежность рецептора к отличной культурной и лингвистической семиосфере неминуемо влияет на восприятие и интерпретацию таких компонентов текстуальности вторичного субъекта информации (то есть коммуникативно реконструированного в переводе произведения-оригинала), как: ситуативность, интертекстуальность и информационная насыщенность, а также на его коммуникативный потенциал. При этом, однако, прагматическая установка художественного произведения в целом, в результате когнитивно-герменевтической деятельности воспринимающего переводной текст, не ускользает от понимания читателя.
Этой деятельности нерусской языковой личности призван способствовать выступающий в качестве инструмента повышения информативности текста межкультурный посредник-переводчик, использующий приемы лингвистической интерпретации в рамках переводного текста и включающий восполняющие недостаток фоновых знаний у читателя культурологические комментарии. Таковых в нашем случае было сто тридцать два на 144 страницы текста новеллы «Ветер с конфетной фабрики».
1 Национальный флаг Испании — это трехполосное полотнище, верхняя и нижняя часть которого красного цвета, а средняя — желтого.
1 Кроме указанного, о свойственном испанскому сознанию восприятии мира, в котором активная роль принадлежит индивиду как действующему субъекту, см. [6] Санчес Пуиг, М.; Караулов, Ю.Н.
2 Данная особенность русской АВС — обязательное присутствие и многочисленность отсылок к прецедентным текстам — неоднократно отмечалачь исследователями русской и испанской АВС, см. [6—8].
3 «Можно тысячу раз спросить себя — зачем? Тысяч раз спросить — кто я такой? Тысячу раз объяснить, что все материки уже открыты, непокоренные народы завоеваны и истреблены, неприступные крепости и монастыри превращены в музеи, но эти объяснения лишь укрепят нас в отчаянной злобе. Все равно мировой порядок выдуман или открыт самими нами — неужели наш опыт и есть истина в последней инстанции?» [10. С. 27].
4 «Мы ведь так окончательно скиснем, если не будем предполагать, даже в отдаленной перспективе, чего-то радикально нового. Надеяться на полное избавление от душегубов и дураков, на построение царства Божьего на земле вопреки всем законам исторического развития, на возвращение собственной молодости, любимых людей ...» [10. С. 27].
5 «Кто сказал, что истинная вера это лишь то, что устремлено к вечному, а тоска о многоэтажных странах, белых штанах и голливудских любовницах есть нечто второстепенное?» [10. С. 27].
6 Человек имеет полное право жить в соответствии со своей собственной «перспективой», «рвением», «желанием», «мечтой» обо «всем, что может вести вперед — о любви, карьере, мести, обольщении, завоевании, о покупке пачки папирос, знакомстве с Мерлин Монро или директором кондитерского комбината, посещении великой Столицы или разгадке тайны женского характера, о наследнике-сыне, о Третьем Риме, демократии, автократии, восхождении на монарший престол, об ананасах в шампанском и воскрешении из мертвых, о поцелуе французской дамы и обладании всеми женщинами на свете, о полной победе коммунистического труда и починке водопровода, об открытии новой звезды или острова в океане, об умении играть на дуде или прыгать со скал — обо всем, что еще может нас расшевелить, сдвинуть с места, заставить действовать, верить, спешить ...» [10. С. 142].
7 «Я (...) стою здесь, перед вами, в вашем славном шахтерском городке, пытаясь вколотить хоть малую толику истин в ваши пустые головы» [10. С. 40], — говорит своим ученикам школьная учительница одного из героев книги.
8 «Свобода — на то и есть свобода, что наперед никто не знает, что она принесет с собой, то ли продолжение радости и любви, то ли совсем что-то никудышное и отвратительное» [10. С. 28].
9 «Действительно, прямо в них, в их измученные ночным трудом лица, как и прежде, дул ветер с конфетной фабрики. Он шел по верхам деревьев, телевизионных антенн, куполам старинных храмов; врывался в форточки проснувшихся москвичей, возметал сухую пыль на пустырях» [10. С. 142].
10 В данной связи следует, вероятно, вспомнить и Фамусова: «Куда как чудно создан свет! / Пофилософствуй — ум вскружится» (Действие II, Явление 1) и Скалозуба: «Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы; / Об них как истинный философ я сужу: / мне только бы досталось в генералы (Действие II, Явление 4).
11 «... потому что здесь, может быть, цельного человека убили, а если и не убили до сих пор, то непременно в самое ближайшее время убьют» и «... он даже рассказывает историю о том, как один молодой повеса задохся вместе со своей партнершей в автомобиле, в чужом гараже: отравился угарными газами — дворнику известно это наверняка, ибо повеса был друг его родного внука, а внук ему, пенсионеру, всегда искренне рассказывает подобные вещи» [10. С. 71 и С. 73].
12 Отметим это обстоятельство (быстро совершаемое действие или движение) в качестве еще одного подтверждения гармоничного совпадения структур индивидуально-авторской и обобщенной языковой компетенции РЯЛ. См. для сравнения [6] М. Санчес Пуиг; Ю.Н. Караулов «Образы языкового сознания испанцев и русских (Проблемы сравнительного анализа)».
13 «Абсолютная безинициативность этой молодежи просто поражала — ими был заполнен практически весь зал ожидания, но кроме того, как купить и пожирать пиццу эти люди не могли ничего придумать. (В карты не играют — не умеют, не интересуются; вина не пьют, это точно, предлагали — отказываются; никакой любви между ними тоже нет — могли бы на пары разбиться, друг другу в глаза смотреть. Нет, новое поколение и этого не выбирает)» [10. C. 22].
14 «Наша утраченная рабоче-крестьянская держава, представленная перечисленным многообразием, эти лакомые фетиши недавних лет, производимые когда-то руками наших тружеников из продуктов развивающихся, неприсоединившихся и социалистически-дружественных государств, воскресали в памяти и воображении, распускались диковинными цветами, рассыпались у ног героев сокровищами Соломона, манили к себе так же, как манят первооткрывателя золотые идолы и украшения диких островов» [10. C. 131].
15 «Кто-то оказался неправ, либо мы, по слепоте своей не увидевшие ни капли красоты и таланта в происходящем, либо сама трагедия, которая повторилась на почве родной отчизны уж который раз» [10. C. 112].
Об авторах
Татьяна Дроздова Диес
Университет Комплутенсе
Автор, ответственный за переписку.
Email: tania123d@hotmail.com
доктор филологии, доцент, отделение германо-славянской филологии, университет Комплутенсе (Мадрид); почетный доктор Донского государственного технического университета
28040, Испания, Мадрид, Avda. Complutense, университетский городок, 2Список литературы
- Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М.: РАН, 1999.
- Karaulov Yu.N., Sánchez Puig M. Gramática Asociativa de la Lengua Rusa. Madrid: Gram, 2000.
- Клочков В. «Евгений Онегин» как потенциальный источник ритуального дискурса для русского языкового сознания: опыт одного эксперимента // Rusística Española. 1999. № 8. С. 10-25.
- Sánchez Puig M. Guía de la cultura rusa. Centro de la Lingüística Aplicada Atenea. Madrid, 2003.
- Санчес Пуиг М., Караулов Ю.Н., Черкасова Г.А. Ассоциативные нормы испанского и русского языков. М., 2001.
- Санчес Пуиг М., Караулов Ю.Н. Образы языкового сознания испанцев и русских (Проблемы сравнительного анализа). Madrid: Eslavística Complutense, 2001.
- Санчес Пуиг М., Дроздова Диес Т. Дидактика культуроведения и вопросы национального языкового самосознания. Universidad de Granada: Mundo Eslavo, 2004. № 3. С. 123-130.
- Drosdov Díez T. La personalidad lingüística y el análisis del texto // Eslavística Complutense. 2003. № 3. C. 255-271.
- Drosdov Díez T. Lingüística del texto, semiótica de la cultura y semántica de la traducción // Eslavística Complutense. 2008. № 8. C. 35-60.
- Чулкина Н.Л., Денисенко В.Н. Юрий Николаевич Караулов. К 85-летнему юбилею // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2020. Т. 11. № 4. C. 790-794. doi: 10.22363/2313-2299-2020-11-4-790-794.
- Балясникова О.В., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Чулкина Н.Л. Языковое сознание: региональный аспект // Russian Journal of Linguistics. 2018. Т. 22. № 2. С. 232-250.
- Месяц В. Ветер с конфетной фабрики. М.: Былина, 1993.
- Mesiats V., Drosdov Díez T. El viento que sopla de la fábrica de bombones. Madrid: Ediciones Hispano Eslavas, 2006.