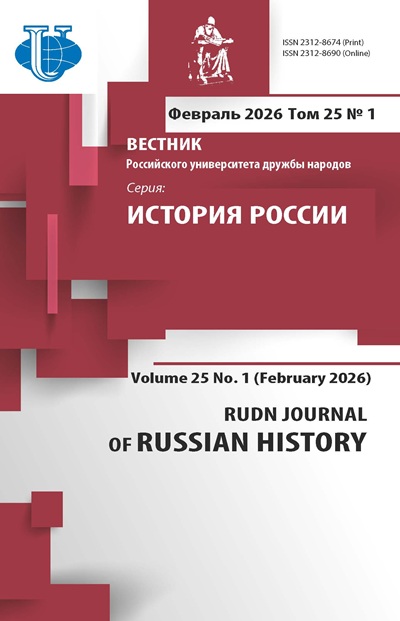Что нам делать с «мусульманской субъективностью»? Перспективы и «ловушки» исследовательского подхода в историографическом контексте
- Авторы: Бессмертная О.Ю.1
-
Учреждения:
- Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 22, № 2 (2023): Мусульманские субъективности в зеркале исторических источников
- Страницы: 174-187
- Раздел: МУСУЛЬМАНСКИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/34943
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2023-22-2-174-187
- EDN: https://elibrary.ru/MMYOEE
- ID: 34943
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В контексте близких историографических подходов рассматриваются проблемы, поставленные нарастающей волной исследований «истории мусульманской субъективности». Отмечая парадоксальную опасность реориентализации исламоведческих исследований, утраты историчности в них, автор настаивает на важности самого обозначения складывающегося подхода и предлагает в качестве более корректного термин «история субъективностей мусульман» (или «история мусульманских субъективностей»). Изучаются некоторые аспекты современных трактовок взаимодействия индивидуального и коллективного, социального, культурного в истории, роли агентности и субъектности исторических действующих лиц (акторов), соотношения исследований персон, то есть публичных идентичностей, и «техник себя» в исследованиях субъективности. Подчеркивается плодотворность опоры на микроисторические подходы при исследованиях субъективностей мусульман, в частности, в отечественной версии микроистории с характерным для нее вниманием к индивиду и усложнением видения исторического контекста.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Понятие «мусульманская субъективность» как обозначение предмета исследований и исследовательского поля формируется на наших глазах[1]. Стоит задуматься, какие перспективы сулит нам выбор такого исследовательского ракурса и какие эпистемологические опасности могут подстерегать исследователя на этом пути. Что стоит поставить во главу угла, чтобы «безопасно» и конструктивно исследовать субъективности мусульман (подчеркну здесь множественное число) – помимо самого общего, давнего, хотя и по-прежнему захватывающего вопроса о том, что значит быть мусульманином в ту или иную историческую эпоху в том или ином политическом пространстве? Чтобы предложить одну из возможных позиций внутри этого пространства исследовательских интересов, целесообразно поместить этот исследовательский ракурс в ближайший к нему историографический контекст. Разумеется, даже краткий обзор современных концепций субъективности (субъектности) невозможен в рамках статьи и не входит в задачи автора; здесь будут рассмотрены лишь некоторые аспекты тех исследований, в фокусе которых – обращение к индивиду в истории[2].
Словосочетание «мусульманская субъективность», вообще говоря, может показаться оксюмороном – сочетанием несочетаемого. Ведь «мусульманское» в такой фразе (точно так же, как если бы на его месте стояло слово «христианское», «буддийское», «китайское» и т. д.), как будто бы предполагает некоторый набор даже не только веровательных, но и культурных установок, тех или иных парадигм и моделей – поведенческих, этических, мыслительных, ментальных, – которые предзаданы индивиду, принадлежащему соответствующей культуре, относящему себя к ней. Остается ли здесь место «субъективности» и, вообще, субъекту – то есть индивиду, наделенному способностью к выбору и принятию решений (агентностью, agency), рефлексивностью, самостью (self)? «Оксюморонность» обсуждаемого словосочетания еще более заостряется тем, что «мусульманское» кажется в нем понятием внеисторичным (то есть лежащим вне конкретного исторического контекста и охватывающим всю историю всех мусульман с момента возникновения ислама или, по меньшей мере, мусульманского самосознания). Этим понятие «мусульманская субъективность» как обозначение предмета исследований отличается от ставших уже привычными в историографии словосочетаний «советская субъективность», «субъективность эпохи Ренессанса», «современная (модерная) субъективность» и т. п., когда обсуждается «сознательный опыт и его формы в различных культурах и в разные исторические эпохи» и подход к таким исследованиям принципиально историчен[3]. Иными словами, не возвращаемся ли мы, говоря о «мусульманской субъективности», к культурному детерминизму – в той или иной мере характерному, например, даже для истории ментальностей и исторической антропологии середины ХХ в., как и для классической антропологии per se, уже интересовавшимися самыми разными сторонами человеческой жизни?[4] Ведь такой детерминизм, казалось бы, как раз и был отвергнут в обращении историков к исследованиям субъективностей? Не возвращаемся ли мы, по сути дела, к подходам классического ориентализма – с его широкими обобщениями и эссенциализацией «Востока», «мусульманскости» в частности?
На практике отмеченная опасность внеисторического использования обсуждаемого исследовательского ракурса может преодолеваться, если исследователь обращается к «субъективности» отдельных индивидов, по неизбежности помещенных в конкретную историческую эпоху и ситуацию, и, что важно, если он стремится придать этому конкретному историческому контексту достаточное значение[5]. При таком взгляде «снизу», от индивида, когда мы позволяем именно конкретному персонажу – мусульманину определять, что такое вообще мусульманское, мы как будто бы уходим и от опасности создать (и «навязать» нашему персонажу) ориенталистское по духу, эссенциализированное и очерченное некоей предзаданной нормой пространство «мусульманского» (к этой проблеме здесь еще придется вернуться), будто бы оставляя определение этих границ самому персонажу. Однако даже в таком случае вопрос об оксюморонности обсуждаемого понятия – не риторический. Речь идет не только о важности акцента на – и презумпции! – множественности, историчности и подвижности «мусульманских субъективностей». В основе своей это вопрос, во-первых, о том, какую позицию среди многих историографических взглядов (не говоря о собственно философских, им предшествующих) на то, как вообще понимать субъективность, мы выбираем, вопрошая о субъективности «мусульманской»; во-вторых, о том, какими методами можно или нельзя к ней пробраться; в-третьих, вообще о том, что именно мы в итоге хотим узнать. За этим комплексом вопросов – разные взгляды на само соотношение индивидуального, с одной стороны, и коллективного, социального – с другой, в конечном же счете – вопрос о том, остается ли еще у человека-субъекта «уголок автономности» в мире структур и систем, институтов, дискурсов[6]. Обратимся к некоторым сопоставлениям из близлежащих историографических областей.
Исследования советской субъективности: что заимствовать?
Исследователь позднесоветского общества А. Пинский различает в историографии три ракурса изучения советской субъективности – направления, которое, по-видимому, и стало ближайшим прообразом понятия «мусульманская субъективность» в сфере исследований мусульманских обществ, чья история связана с российской. Один из ракурсов, непосредственно восходящий к пониманию субъективности, разработанному М. Фуко (при том, что современные исследования субъективностей, как правило, вообще так или иначе с ним связаны), направлен на то поле возможностей, которое создавалось дискурсами и практиками эпохи для конструирования гражданами своей идентичности и своей позиции по отношению к власти, причем субъект оказывается здесь лишь продуктом этих дискурсов и практик[7]. Иной подход А. Пинский видит в работах другого «пионера» исследований советской субъективности, Й. Хелльбека: основываясь на его определении субъективности как «способности мыслить и действовать, вытекающей из целостного представления [человека] о самом себе», А. Пинский связывает этот подход с более традиционным пониманием субъекта, восходящим к Канту, когда предполагается, что субъект (личность[8]) существует до дискурсов и действий. Эта формулировка Й. Хелльбека стала одним из предметов наиболее резкой критики в адрес его подхода, хотя, как увидим ниже, он не сводится к идее целостности субъекта, да и далеко не однозначно соотносится с ней[9]. Наконец, третий, наиболее широкий ракурс изучения субъективности охватывает то, как человек вообще воспринимает мир и себя среди других: сюда, как считает А. Пинский, можно отнести даже те исследования, которые не используют понятие «субъективность» эксплицитно[10].
Фактически такой взгляд – изучение мировосприятия человека вообще, его внутреннего мира, Weltanschauung (независимо от того, к какому из двух обозначенных выше пониманий субъективности, «фуколдианскому» или «кантовскому», явно или подспудно тяготеет тот или иной исследователь)[11] – беспредельно размывает понимание нашего предмета: и историки ментальностей обращались к изучению «человеческого измерения» в истории, однако это был весьма обобщенно понятый человек, представитель эпохи, цивилизации и т. п., например, «человек средневековья» или «люди ислама»[12]. При таком ракурсе угроза воспроизводства «больших нарративов», описывающих исторические процессы, и ориенталистских обобщений, подменяющих собою всю сложность вопросов о субъективности, реактуализируется, а заявка на новизну и актуальность исследовательского вопроса растворяется[13].
Поэтому в различиях этих подходов представляется особенно важным не столько характер их тематики и охвата, сколько степень внимания исследователя к активности и индивидности («особости») человека в конструировании себя и своего «я» внутри актуального для него дискурсивного и социального пространства, иными словами – в ответ этим дискурсам и практикам. Именно такой ракурс, как представляется, позволяет ставить вопрос о субъективности (то есть собственно субъектности) индивида как таковой – тот вопрос, который поставлен в начале этого обсуждения.
Как раз к таким индивидуальным усилиям по «пересозданию себя» обращается Й. Хелльбек в исследованиях «советской субъективности» по дневникам сталинского межвоенного периода[14]. Правда, нарисованная здесь картина советской субъективности парадоксальным образом оказывается весьма однородной и насквозь пронизанной спущенной сверху идеологией, точнее – эта картина представляет собой совокупность индивидуальных попыток апроприации и интериоризации этой идеологии. Ее чрезмерно обобщенный и одномерный характер, как и ограниченность сугубо дискурсивным измерением, не случайно стали объектом уже упомянутой критики[15]. Но сами методы анализа, использованные Хелльбеком, и вопросы, поставленные в его фокус – а именно «медленное чтение» дневников, выявляющее процесс конструирования себя человеком, вообще «взаимоотношения» человека с самим собой (даже если это отказ от какой-либо саморефлексии и/или отсутствие потребности в ней) – и уже сквозь эту призму осмысление отношений человека с обществом и властью, характера воздействия властных отношений на него – представляются структурообразующими для изучения субъективности, особенно, если дополнить это «медленное чтение» вниманием к нарративным разломам и зазорам в наших источниках (отсутствие которого также вызвало обоснованную критику в адрес Хелльбека[16]).
Разумеется, не в любом историческом источнике ответы на такие вопросы лежат на поверхности (подобно тому, как это происходит в изученных Хелльбеком дневниках), однако мы можем пытаться «разговорить» источник, стараясь хотя бы задать ему вопросы из этого спектра. Некоторые ученые, в том числе Хелльбек (впрочем, с оговорками), полагают, что такая «работа над собой» связана преимущественно с модерностью, с характерной для модерных обществ так называемой эмансипацией индивида от традиции и социальной группы. И это, казалось бы, должно было бы ограничить наши исследования в указанном ключе лишь модерными источниками (как бы хронологически и генетически мы ни определяли «модерность», когда речь идет о мусульманских обществах). Однако еще в середине 1980-х гг. появились работы, показывающие значимость «самоисследования» («the exploration of the self») у людей домодерной Европы, и затем с использованием сходных подходов те же вопросы были поставлены применительно и к мусульманским источникам личного происхождения[17]. Так что право на вопрос остается за нами независимо от того, как мы определяем характер изучаемого общества.
Проблема индивида в обществе
Вытекающий из сказанного вопрос об агентности и «самости» и тем более скрывающийся за ним вопрос о степени «автономности» индивида упирается в противостояние двух метафизических презумпций, впрочем, давно спустившихся из заоблачных высей в область эмпирических исследований. Речь идет, с одной стороны, о структуралистских и постструктуралистских подходах, декларировавших «смерть автора» (ранний Р. Барт) и «смерть человека» (ранний М. Фуко), что подразумевало, в частности, уже упоминавшуюся выше обусловленность саморепрезентаций и действий индивида дискурсами и техниками власти, его фактическую «безгласность» (отсюда и идея фрагментированности субъекта, предполагающая разнородность и разломы «я» индивида в зависимости от актуальных дискурсов и ситуаций). С другой стороны, речь идет о подходах, провозгласивших «возвращение субъекта».
Демонстрация исторической изменчивости, множественности и неоднородности субъективностей (как и понятий о том, что такое «субъект»), самих практик субъективации, то есть превращения индивида в субъекта – но как раз такого, который востребован отношениями власти, лежала уже в рамках первого подхода и принадлежит в особенности Фуко[18]. Так поставленные им вопросы в большой мере и повлекли за собой волну исследований субъективности. Однако сам Фуко в поздних работах (как и поздний Р. Барт) существенно усложнил трактовки складывания субъективности (субъектности), говоря о «„техниках себя“, формирующих и поддерживающих определенный тип самости»[19], и рассматривая их в сложном переплетении «внешних» по отношению к индивиду и «внутренних» практик субъективации, что, видимо, оставляло субъекту пространство свободы[20]. Так что даже у самых верных приверженцев Фуко остается немалое пространство выбора в том, какую степень агентности предоставить индивиду.
Важнейшее значение эта проблематика обрела, как известно, в пронизывающих современное изучение мусульманских сообществ постколониальных подходах, где «безгласность» и фрагментированность субъекта были переосмыслены в контексте колониального доминирования, лишавшего колонизированных собственного голоса, замещенного колониальными дискурсами, и сообщавшего трагическую гибридность их разламывающейся субъектности[21]. Однако здесь хотелось бы подчеркнуть иной, как кажется, даже более универсальный аспект.
О «возвращении субъекта» – в ответ на идеи о его «смерти» – заговорили в разных историографических контекстах. Среди них стоит выделить микроисторию и французский прагматический поворот22. Речь здесь шла и идет как раз о повороте к индивидуальному в истории, причем таком, который исходит из презумпций рациональности действующих лиц (акторов) в конкретных исторических ситуациях, из их способности к действию и выбору стратегии, что предполагает их агентность и активность (отсюда же – обращение к исследованиям практического опыта акторов и роли отдельных событий в истории). Следует подчеркнуть, что этот взгляд отнюдь не означает замыкания в индивидуальном (например, возвращения к «классической», «докритической», «чистой» биографии), но, наоборот, заостряет вопрос о роли социального и культурного, увиденного, однако, сквозь призму индивидуального, «снизу». Причем понимание самого социального контекста здесь существенно иное: он не рассматривается более как некая внутренне согласованная система, навязывающая индивиду правила поведения и думания, но видится во всей его фрагментарности, многоуровневости и подвижности: если это и система – то открытая, противоречивая, плюралистичная[23]. И хотя отнюдь не любое направление внутри подобных микроисторических подходов непосредственно сфокусировано на субъекте и субъективности, представляется, что они более приспособлены для их изучения, чем подходы, ставящие во главу угла те или иные гомогенные структуры, серийность, системы (включая дискурсы), открывают больше возможностей и перспектив как раз благодаря лежащим в их основе презумпциям. Значимость этих (казалось бы, достаточно давних) направлений в сегодняшней историографической ситуации была подчеркнута недавно рядом авторов (так что «субъект», если он и отлучался, в угоду «системам», из историографических мейнстримов с середины 2000-х гг., похоже, снова готов вернуться)[24]. А сочетание так понятых микроисторических подходов с постановкой вопроса и приемами исследований советской субъективности (по существу им близких, особенно в подчеркнутых выше ракурсах, но, как кажется, не всегда замечающих поставленные ими проблемы) представляется тем более плодотворным. Применительно же к любому руслу исламоведческих исследований, а исследований субъективности в особенности, презумпции таких подходов оказываются своего рода «охранной грамотой» от опасностей слишком широких ориенталистских обобщений, эссенциализации и экзотизации нашего «поля». Речь, попросту говоря, должна была бы идти не о том, например, как тот или иной индивид воспроизводит и воплощает ту или иную уже сложившуюся традицию в понимании своего «я», а о том, как он ее перерабатывает и переизобретает на скрещении с другими традициями и индивидуальными возможностями.
Исследования персон и субъективность
Одним из развивающихся в последние десятилетия исследовательских ракурсов, нацеленных на рассмотрение способов пересечения индивидуального – частного, интимного, с одной стороны, и социального – с другой, на поиски своего рода «промежуточного уровня» (middle course) между ними, стало изучение способов представления индивидами себя в обществе, выражающихся в их выборе для себя той или иной персоны, а также рассмотрение типов «персон», характерных для той или иной исторической ситуации, и процессов их складывания. Речь идет о публичной идентичности, предъявляемой индивидом в коллективе и обеспечивающей возможность его социального существования, поскольку это некие общественно признанные «шаблоны» идентичности (профессиональной, политической, игровой и т. п.), делающие индивида узнаваемым в обществе (без чего невозможно его социальное присутствие) и вместе с тем никогда не воспроизводимые им полностью и буквально, но сохраняющие индивидуальную специфику.
Широко известны исследования персон (persona studies), фокусирующиеся на современных особенностях представлений своего «я» в связи с деятельностью человека в сети, онлайн; вместе с тем сквозь эту призму здесь переосмысляются и способы биографического и автобиографического письма в отдаленном прошлом[25]. Параллельно заметную роль обращение к персонам приобрело в истории науки и производства знания, где изучается складывание типов научной персоны и субъективные взаимодействия отдельных конкретных ученых, включая востоковедов, с такими моделями и ролями (например, выбор или отказ от той или иной роли)[26]; подобный исследовательский ракурс, несколько более традиционный, чем первый, оказывается пока что наиболее востребованным и при обращении к изучению персон самих мусульман.
Инициаторы этого подхода, Л. Дастон и Х.О. Сибум, рассматривают персону именно как нечто среднее между индивидуальной биографией, с одной стороны, и социальным институтом и культурными категориями – с другой. Это – «культурная идентичность», которая обеспечивает индивиду такую физиогномику, которая одновременно формирует индивида в его телесных и ментальных проявлениях и делает его принятым и узнаваемым в коллективе[27]. Эту область также не миновал конфликт между противоположными «метафизическими» позициями исследователей относительно роли агентности индивида: одни ведут речь об индивидах, занятых самопредставлением, другие – о мощных и медленно меняющихся культурных институтах, которые управляют этими практиками. Наконец, третьи снова ищут промежуточное звено, где можно обнаружить взаимодействие обоих измерений, индивидуального и социального[28].
Хотя изучение всего этого комплекса индивидуальных стратегий формирования своего облика и самопредставления (self-fashioning, self-presentation) и социальных шаблонов и регистров, в пространстве которых эти стратегии вырабатываются, имеет весьма богатую предысторию (в антропологии, в психологических науках, в литературе и литературоведении, в культурных исследованиях), они особенно тесно связаны с концепциями перформанса и перформативности (восходящими к социологии Ирвина Гофмана)[29]. Отсюда как раз и следует, что «персона» – это именно способ представления себя другим, идентичность, предъявленная вовне, в конечном счете «маска», хотя и вовсе необязательно надетая ради обмана и сокрытия некоего «истинного лица», но обеспечивающая социальное «я» человека. Выбор и выработка такого облика в той или иной сфере социальной жизни – несомненный результат «работы с собой», «техник себя»; он не может не иметь и обратного воздействия на внутреннее «я» человека, трансформируя его (разумеется, если мы в принципе признаем существование субъективности, не растворяя ее в социальном). Но в уже выбранном и сложившемся облике-персоне аспекты этой внутренней работы вряд ли предъявляются напрямую и несомненно им не исчерпываются – на то это и персона. Так что персона – не субъективность, а скорее экран перед нею[30]. Можно сказать мягче: как показывают исследователи разных направлений, персона и самость («я») – это две стороны субъективности, однако несводимые друг к другу[31].
Между тем во флагманском исследовании, инициирующем и обосновывающем оригинальный подход к изучению «мусульманской субъективности», именно персоны изучаемого автора мемуаров, Абд ал-Маджида ал-Кадыри, предлагается рассматривать как фактически единственное измерение его субъективности,[32] и похоже, что отождествление субъективности и персон в некоторых исследованиях «мусульманской субъективности» набирает силу. Но, как отмечено выше, субъективность не сводима к перформативности. Так что важный «вызов» в изучении мусульманских субъективностей, как представляется, состоит в том, чтобы вглядеться в соотношение двух названных сторон субъективности, в сам процесс «работы с собой», приводящей к выработке индивидом и выбору той или иной персоны – так, как это делается в ряде названных выше исследований и, в частности, путем обнаружения нарративных зазоров в наших источниках, того, как автор источника «проговаривается» о себе[33]. Если в исследованиях субъективности и нужны персоны, то именно для того, чтобы попытаться проникнуть сквозь них к индивидуальным поискам и изобретениям таких обликов, к этим «техникам себя».
Выводы
Когда мы говорим: «мусульманская субъективность», мы оказываемся в двойной ловушке. С одной стороны, такая терминология крайне ограничивает пространство субъективности мусульманина (или мусульманки), будто предписывая ему иметь не какую-либо, а именно мусульманскую субъективность. С другой – она, наоборот, крайне размывает само пространство мусульманского, поскольку мы хотя бы во избежание первой ловушки (т. е. некоего априорного нормативного определения «мусульманскости») должны считать мусульманским все то, что таковым считает этот индивид или же попросту все то, что ему – этому конкретному мусульманину – вообще свойственно. Такой подход к определению «исламского» («ислам – это все то, что таковым считают мусульмане»), ведущий к утверждению множественности исламов (включая и множественность индивидуальных пониманий ислама), эпистемологически имеет целый ряд преимуществ, но вызывает и немало вопросов, в частности: до каких пределов этой свободы определения допустимо дойти, чтобы не утратить вообще какое-либо представление об исламском?[34] Эта проблематика в целом лежит далеко за пределами настоящего рассмотрения. Однако, каким бы ни был ответ на этот вопрос (его приходится оставить открытым), не корректнее ли заменить выражение «мусульманская субъективность», чреватое столь многими опасностями в обозначении исследовательского поля, – сейчас, пока этот термин еще не вполне закрепился в профессиональном обиходе, – словами во множественном числе: «субъективность мусульман» (или «мусульманские субъективности») и называть нашу область «историей субъективностей мусульман» (или «мусульманских субъективностей»[35])? Такая, казалось бы, незначительная перестановка мест этих слагаемых, как представляется, существенно изменит результат, позволяя исследователю избежать не только эссенциализации мусульманскости, но и своего рода ослепления сугубо исламским пространством культурных традиций, участвующих в процессах изобретения человеком – мусульманином – себя, замечая и такие компоненты, которые в каждом отдельном случае втягиваются в эти процессы извне. Это отнюдь не помешает нам, а лишь поможет задаться вопросом о том, каким образом индивид формирует себя как мусульманин – наверное, ключевым для нашего предмета.
Новым и продуктивным в таком подходе могло бы стать не столько само по себе обращение к мировосприятию и самопониманию мусульманина (что, как отмечено выше, уже давно вошло в практику культурно-исторических исследований), даже не выявление типов или моделей идеальных субъектов, сложившихся в том или ином мусульманском сообществе, сколько такой взгляд на отношения индивидуального и коллективного (институционального, культурного), который, с одной стороны, предполагает внимание к активности и самости отдельного человека в его переработке культурных воздействий и видит в нем актора, а с другой – исходит из неоднородности и многомерности социо-культурного контекста, который эти воздействия несет. Это позволит понять и то, «каков есть» – и каким может стать – человек – мусульманин – в каждой конкретной исторической ситуации, и особенности исторического контекста, такую ситуацию формирующего.
1 Помимо самого этого специального выпуска «Вестника РУДН. Серия: История России» привлекает внимание осуществляемый в настоящее время международный проект под руководством А.К. Бустанова. См., в частности, его недавнее исследование: Bustanov A. Introduction // Muslim Subjectivity in Soviet Russia: The Memoirs of ‘Abd al-Majid al-Qadiri / ed. by A. Bustanov, V. Usmanov. Brill, 2022. P. 1–83; В декабре 2022 г. той же группой в Амстердаме была проведена конференция «The Muslim Self: A Transregional History». См. также: Affect, Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empires. New Studies in Ottoman, Safavid, and Mughal Art and Culture / ed. by Kishwar Rizvi. Brill, 2018; Faraz Masood Sheikh. Forging Ideal Muslim Subjects. Discursive Practices, Subject Formation, & Muslim Ethics. London, 2020; Jung D. The Formation of Modern Muslim Subjectivities: Research Project and Analytical Strategy // Tidsskrift for Islamforskning 2017. Vol. 11. № 1. Р. 11–29; Muslim Subjectivities in Global Modernity: Islamic Traditions and the Construction of Modern Muslim Identities / ed. by Dietrich Jung, Kirstine Sinclair. Leiden; Boston, 2020; В Школе высших исследований по социальным наукам (EHESS) в Париже несколько лет идет семинар В. Фурнье (Vincent Fourniau) «Histoire du discours sur soi et des identités collectives en Asie centrale, XVIe – XXe siècles [История дискурсов о себе и коллективных идентичностей в Центральной Азии, XVI–XX вв.]. Даже по названиям в этом очень выборочном списке видно, что в этих трудах проблемы исследования субъективностей мусульман понимаются весьма по-разному.
2 За рамками статьи остаются, в частности, исследования субъективностей (мусульманских и не только), нацеленные на построение «сверху» широких антропологических и социологических срезов, например: Talal, A. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, 2003. С. 67–99. В постановке предлагаемых вопросов автор основывается на своем опыте исследований в области истории мусульман в поздней Российской империи, преимущественно тех, что писали на русском языке (а также мусульман, писавших на рубеже XIX–ХХ вв. на языке хауса в Западной Африке), как и на опыте ряда историографических дискуссий, в которых она участвовала. Однако представляется, что обсуждаемые здесь ключевые вопросы и подходы могут быть релевантны для названной проблематики независимо от конкретного исторического контекста, хотя, разумеется, они корректируются сообразно ему в каждом конкретном исследовании. Подробнее см. ниже.
3 Дастон Л., Галисон П. Объективность. М., 2018. С. 294.
4 См. работы периода критики культурного детерминизма, например: Kuper A. Culture: The Anthropologists’ Account. Cambridge, 1999; Amselle, J.-L. Tensions within culture // Social Dynamics, 1992, 18(1), 42–65; Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Harvard Univ. Press, 1988; о метаморфозах детерминистских подходов сквозь призму дисциплины «культурологии» в той ее версии, которая родилась в России в 1990-е гг. на бывших кафедрах марксистско-ленинской философии, см. Scherrer J. Kulturologie: Rußland auf der Suche nach einer zivilisatorischen Identität. Göttingen, 2003; Cм. также ниже о «прагматическом повороте» в истории.
5 Такой взгляд «снизу» характерен для труда А. Бустанова (Bustanov A. Introduction…), хотя представляется, что исторический контекст (в частности, переплетение разнородных нарративов, включая советские, в изучаемых мемуарах) остается здесь недооцененным.
6 Писарев А. Обзор российских интеллектуальных журналов // Новое литературное обозрение. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/135_nz_1_2021/article/23399/?sphrase_id=477390 (дата обращения: 27.11.2022); Кто приходит после субъекта? // Художественный журнал. 2020. № 115.
7 А. Пинский ссылается здесь на хорошо известный труд – Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkley, 1995 – и подчеркивает историографическую значимость акцента на фрагментации субъекта, усиленного под влиянием рецензии И. Халфина и Й. Хелльбека (Halfin I., Hellbeck J. Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin’s «Magnetic Mountain» and the State of Soviet Historical Studies // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1996. Vol. 44. № 3. P. 456–463). См.: Пинский А. Предисловие // После Сталина: Позднесоветская субъективность (1953–1985). СПб., 2018. С. 11–13. Речь в цитированных трудах идет о сталинской эпохе, но обсуждение концепций субъективности выходит за ее рамки.
8 О понятиях «личность» и «индивидуальность» см.: Плотников Н. От «индивидуальности» к «идентичности» (история понятий персональности в русской культуре) // Новое литературное обозрение. 2008. № 3 (91). С. 64–83.
9 Пинский А. Предисловие… С. 14. Это одна из относительно ранних формулировок Й. Хелльбека, к тому же указывающая лишь на представления субъекта о своей целостности («coherent sense of self»), а не на целостность субъекта как таковую (См.: Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // Russian Review. 2001. Vol. 60. № 3. P. 340). В книге (Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard Univ. Press, 2006), которая вышла позже ряда статей автора, опубликованных еще во второй половине 1990-х гг. и легших в основание дискуссий, он не использует эту формулировку, видимо, отказываясь от априорного акцента на «целостности», но подчеркивая сознательность участия человека в сотворении собственной жизни – даже при том, что такое сотворение предстает в его исследовании как апроприация советской идеологии и соответствующих дискурсов (или как раз в силу этого, поскольку сама советская идеология была нацелена на «пересоздание» человека): Хелльбек Й. Революция от первого лица: Дневники сталинской эпохи. М., 2021. С. 24–25. Й. Хелльбек подробно обсуждает соотношение своего подхода с подходами М. Фуко в: Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 218–219, 397–402.
10 Пинский А. Предисловие. С. 14–16. Пинский ссылается здесь на определение в: Naiman E. On Soviet Subjects and the Scholars who make them // Russian Review. 2001. Vol. 60. № 3. P. 313.
11 Так определяет «мусульманскую субъективность» и А. Бустанов: Bustanov A. Introduction… P. 1.
12 Например: Gardet L. Les hommes de l'islam, approche des mentalités, Paris, 1977. Неслучайно А. Пинский вынужден причислять к этому подходу чуть ли не любые культурологические исследования о позднесоветском времени: Пинский А. Предисловие... С. 15–16.
13 См. Зарецкий Ю. История субъективности и история автобиографии: важные обновления // Неприкосновенный запас. 2012. № 3.
14 Хелльбек Й. Революция от первого лица. См. также: Халфин И. Автобиография большевизма: Между спасением и падением. М., 2023.
15 См., в частности: Forum: «Анализ практик субъективации в раннесталинском обществе» // Ab Imperio. 2002. № 3; Здесь же особенно: Бойм С. Как сделана советская субъективность? // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 285–296; См. также: Gerasimov I. Becoming a Soviet Plebeian Subject: The Story of Mark Miller Narrated by Himself // Ab Imperio. 2017. № 1. P. 184–210.
16 Бойм С. Как сделана… С. 292.
17 Davis N.Z. Boundaries and the Sense of Self in Sixteenth Century France // Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought / ed. by T.C. Heller, M. Sosna, D.E. Wellbery. Stanford, 1986. P. 53–63. Cм. также другие, широко известные работы Н.З. Дэвис. См. работы Ю.П. Зарецкого, посвященные как домодерной Европе, так и Древней Руси: Зарецкий Ю.П. 1) Феномен средневековой автобиографии // История субъективности: Средневековая Европа. М., 2009; 2) «И о мне творю известие»: Русские средневековые автобиографические рассказы // История субъективности: Древняя Русь. М., 2010; О мусульманских домодерных мирах см.: Kafadar C. Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul and First Person Narratives in Ottoman Literature // Studia Islamica. 1989. № 69. Р. 121–150; Dreams and Visions in Islamic Societies / ed. by Ö. Felek, A.D. Knysh. New York, 2012. Здесь же особенно: Felek Ö. (Re)creating Image and Identity: Dreams and Visions as a Means of Muråd III’s Self-Fashioning. P. 249–272.
18 Как известно, Фуко был в немалой степени движим идеей развенчания концепции так называемого либерального субъекта (то есть наших представлений о том, что индивид, извечно наделенный целостным «я», всегда стремится к автономии и противостоит внешнему принуждению). Об устойчивости концепции либерального субъекта в традиционных исследованиях советской истории см.: Krylova A. The tenacious liberal subject in Soviet studies // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. № 1. P. 119–146.
19 Дастон Л., Галисон П. Объективность... С. 293.
20 О «техниках себя» и «искусствах существования» см. особенно: Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. Т. 2. C. 269–306; Табачникова С.В. Мишель Фуко: историк настоящего // Фуко М. Воля к истине… С. 428–440 (раздел «Установка-предел»).
21 Spivak G. Ch. Can the Subaltern Speak? Basingstoke, 1988; Bhabha H.K. The Location of Culture. London, 1994.
22 Как отмечает Франсуа Досс, французский прагматический поворот связан с американской аналитической философией. См.: Dosse F. 1) De la structure au sujet. L'humanisation des sciences humaines ? // Éditions sciences humaines. Hors-série (ancienne formule). Juin/Juillet 1998. № 21. URL: https://www.scienceshumaines.com/de-la-structure-au-sujet-l-humanisation-des-sciences-humaines_fr_11738.html; 2) L'empire du sens, l'humanisation des sciences humaines. Paris, 1995; То же на английском яз.: Empire of Meaning: The Humanization of the Social Sciences. Trans. Hassan Melehy. Minneapolis, 1999.
23 Когда говорят о микроистории, как правило, цитируют К. Гинзбурга, чьи работы хорошо известны в России. Не менее важен и ряд других авторов, инициировавших и обсуждавших прагматический поворот и микроисторию, в частности, и «возвращение субъекта»: Lepetit B. Histoires des pratiques, pratique de l’histoire // Les forms des l’expérience: Une autre histoire sociale. Paris, 1995. P. 9–22; Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing. 2nd ed. Malden, 2001. P. 97–119; Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей: Человек в истории. М., 1996. С. 110–127; 2) Возвращение к событию: пути историописания // Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. М., 2003. Кн. 1. С. 238–254; См. также названные выше работы Ф. Досса. В нашей стране одним из основоположников отечественной версии микроистории был Ю.Л. Бессмертный. Основанный им альманах «Казус: уникальное и индивидуальное в истории» объединил сторонников этого направления. В своих работах он заострил проблему соотношения индивидуального и социального (коллективного), как и соотношения «микро»и «макро-подходов» к изучению прошлого. В 2022 г. вышла антология избранных статей из первых выпусков «Казуса», включая две статьи, обосновывающие обращение к индивиду и индивидуальному, особенно: Бессмертный Ю.Л. Что за «Казус»? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: Антология. М., 2022. С. 54–77.
24 В частности: Акельев Е.В., Велижев М.Б. И снова «Казус»? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология. С. 18–27; Микроистория в России: The State of the Art / сост. Т. Атнашев, М. Велижев // Новое литературное обозрение. 2019. № 6 (160). С. 83–122; Леви Дж. Микроистория и глобальная история // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2019. Вып. 14. С. 359–378; В серии «Интеллектуальная история» издательства «Новое литературное обозрение» в 2021–2022 гг. вышел ряд книг в русле микроистории (в т.ч. классиков итальянской микроистории К. Гизбурга и Дж. Леви) и начата специальная подсерия «Микроистория». Сложившиеся в названных микроисторических направлениях взгляды на роль и агентность индивида в социуме распространены ныне и за пределами собственно микроистории в практике социо-культурных исследований. Подробнее см. об этом: Бессмертная О.Ю. Снова микроистория? // Новое литературное обозрение. 2019. № 6 (160). С. 96–101.
25 Центром таких исследований стал журнал, основанный Д. Маршаллом и К. Барбур в 2015 г., «Persona Studies». URL: https://ojs.deakin.edu.au/index.php/ps. См. также: Marshall D.P., Moore Ch., Barbour K. Persona Studies: An Introduction. Wiley-Blackwell, 2019. Независимо от этого направления, о способах представления себя мусульманами в сети и массмедиа см.: New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere / ed. by D.F. Eickelman, J.W. Anderson. Bloomington and Indianapolis, (1999) 2003; Muslim Networks from Hajj to Hip Hop / ed. by M. Cooke, B.B. Lawrence. The University of North Carolina Press, 2005.
26 См. например: Scholarly Personae in the History of Orientalism. Brill, 2019. C. 1870–1930.
27 Daston L, Sibum H.O. Introduction: Scientific Personae and Their Histories // Science in Context. 2003. Т. 16. № 1-2. Р. 1–8.
28 Paul H. Introduction: Scholarly Personae in the History of Orientalism, 1870–1930 // Scholarly Personae in the History of Orientalism. Brill, 2019. P. 1–16.
29 Подробнее о предыстории и интеллектуальном контексте исследований персон см.: Marshall P.D., Barbour K. Making intellectual room for Persona Studies: A new consciousness and a shifted perspective // Persona Studies. 2015. № 1.1. P. 1–12. См. также: Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000.
30 Как отмечают П.Д. Маршалл и К. Барбур, «„персона“ – по самому значению этого слова <…> предполагает, что существует нечто позади маски – другая персона, которая обнаруживает некоторую связь с измерениями, обычно называемыми частным или интимным». См.: Marshall P.D., Barbour K. Making intellectual room… P. 6.
31 Даже Джудит Батлер, автор перформативной теории субъекта, видящая в субъекте лишь наслоение персон, пишет: «несмотря на осуществляемый этим текстом демонтаж субъекта, за ним стоит человек <…> За этим текстом кто-то да есть (я на время оставлю в стороне проблему того, что этот кто-то дан в языке)». См.: Батлер Д. Гендерное беспокойство: Феминизм и подрыв идентичности. М., 2022 (впервые издана на английском в 1990 г.). С. 20.
32 Bustanov A. Introduction...
33 О сложных переплетениях субъектности и персоны, см., в частности: Trüper H. Dispersed Personae: Subject-Matters of Scholarly Biography in Nineteenth-Century Oriental Philology // Asiatische Studien. 2013. Vol. 67. Р. 1325–1360; Как показал еще И. Гоффман, механизмы выработки персон особенно выпукло проявляются на примере разного рода самозванцев и трикстеров. О дистанции между персонами и «я» индивида, как и об исследовательских способах «проникнуть» сквозь персоны к «техникам себя» в наиболее выпуклом, крайнем случае изобретения своих персон и «самости» см.: Бессмертная О.Ю. Мусульманская субъективность? Personae, self и «запросы жизни» в свидетельствах о себе мусульманина-самозванца (М.-Б. Хаджетлаше) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом (в печати).
34 О сторонниках и противниках «свободной» трактовки исламского см.: Thum R. What is Islamic History? // History and Theory. 2019. Vol. 57. P. 7–19. Автор стремится обосновать ее эмпирически, через взгляды самих мусульман.
35 Характерно множественное число в названии проекта Д. Юнга и его группы, воспроизведенном в цитированных выше трудах, в частности: Jung D., et al., Politics of Modern Muslim Subjectivities…
Об авторах
Ольга Юрьевна Бессмертная
Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: obessmertnaya@hse.ru
ORCID iD: 0000-0003-4588-1035
канд. культурологии, доцент, старший научный сотрудник Института классического Востока и античности, академический руководитель магистерской программы «Мусульманские миры в России (история и культура)»
105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, 21/4, стр. 3Список литературы
- Акельев Е.В., Велижев М.Б. И снова «Казус»? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология. М.: НЛО, 2022. С. 18–27.
- Батлер Д. Гендерное беспокойство: феминизм и подрыв идентичности. М.: V-A-C Press, 2022. 269 c.
- Бессмертная О.Ю. Мусульманская субъективность? Personae, self и «запросы жизни» в свидетельствах о себе мусульманина-самозванца (М.-Б. Хаджетлаше) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом (в печати).
- Бессмертная О.Ю. Снова микроистория? // Новое литературное обозрение. 2019. № 6 (160). С. 96–101.
- Бессмертный Ю.Л. Что за «Казус»? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: антология. М.: НЛО, 2022. С. 54–77.
- Бойм С. Как сделана советская субъективность? // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 285–296.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Кучково поле, 2000. 302 c.
- Дастон Л., Галисон П. Объективность. М.: НЛО, 2018. 581 c.
- Зарецкий Ю. История субъективности и история автобиографии: важные обновления // Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 369–393.
- Зарецкий Ю.П. «И о мне творю известие»: русские средневековые автобиографические рассказы // История субъективности: Древняя Русь. М.: Академический проект, 2010. С. 4–31.
- Зарецкий Ю.П. Феномен средневековой автобиографии // История субъективности: Средневековая Европа. М.: Академический проект, 2009. С. 9–52.
- Леви Дж. Микроистория и глобальная история // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2019. Вып. 14. С. 359–378.
- Микроистория в России: The State of the Art // Новое литературное обозрение. 2019. № 6 (160). С. 83–122.
- Пинский А. Предисловие // После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985). СПб.: Изд-во Европейского университета, 2018. С. 9–38.
- Писарев А. Обзор российских интеллектуальных журналов // Новое литературное обозрение. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/135_nz_1_2021/article/23399/?sphrase_id=477390 (дата обращения: 27.11.2022).
- Плотников Н. От «индивидуальности» к «идентичности» (история понятий персональности в русской культуре) // Новое литературное обозрение. 2008. № 3 (91). С. 64–83.
- Ревель Ж. Возвращение к событию: пути историописания // Homo Historicus: к 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. М.: Наука, 2003. Кн. 1. С. 238–254.
- Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей: человек в истории. М.: Наука, 1996. С. 110–127.
- Табачникова С.В. Мишель Фуко: историк настоящего // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. М.: Касталь, 1996. С. 396–443.
- Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. М.: Касталь, 1996. C. 269–306.
- Халфин И. Автобиография большевизма: между спасением и падением. М.: НЛО, 2023. 848 с.
- Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017. 416 c.
- Affect, Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empires. New Studies in Ottoman, Safavid, and Mughal Art and Culture / ed. by Kishwar Rizvi. Leiden: Brill, 2018. 222 p.
- Amselle J.-L. Tensions within culture // Social Dynamics. 1992. Vol. 18. No. 1. P. 42–65.
- Bhabha H.K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994. 444 p.
- Bustanov A. Introduction // Muslim Subjectivity in Soviet Russia: The Memoirs of ‘Abd al-Majid al-Qadiri / ed. by A. Bustanov, V. Usmanov. Brill, 2022. P. 1–83.
- Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. London: Harvard University Press, 1988. 381 p.
- Daston L., Sibum H.O. Introduction: Scientific Personae and Their Histories // Science in Context. 2003. Vol. 16. No. 1–2. Р. 1–8.
- Davis N.Z. Boundaries and the Sense of Self in Sixteenth Century France // Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought / ed. by T.C. Heller, M. Sosna, D.E. Wellbery. Stanford: Stanford University Press, 1986. P. 53–63.
- Dosse F. De la structure au sujet. L'humanisation des sciences humaines ? // Éditions sciences humaines. Hors-série (ancienne formule). Juin/Juillet 1998. № 21. URL: https://www.scienceshumaines.com/de-la-structure-au-sujet-l-humanisation-des-sciences-humaines_fr_11738.html (дата обращения: 27.11.2022).
- Dosse F. Empire of Meaning: The Humanization of the Social Sciences / trans. by Hassan Melehy. Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1999. 458 p.
- Dreams and Visions in Islamic Societies / ed. by Ö. Felek, A.D. Knysh. New York: State University, 2012. 334 p.
- Faraz Masood Sheikh. Forging Ideal Muslim Subjects. Discursive Practices, Subject Formation, & Muslim Ethics. London: Lexington Books, 2020. 198 p.
- Felek Ö. (Re)creating Image and Identity: Dreams and Visions as a Means of Muråd III’s Self-Fashioning. SUNY, 2012. P. 249–272.
- Gardet L. Les hommes de l'islam, approche des mentalités. Paris: Hachette, 1977. 415 p.
- Gerasimov I. Becoming a Soviet Plebeian Subject: The Story of Mark Miller Narrated by Himself // Ab Imperio. 2017. No. 1. P. 184–210.
- Halfin I., Hellbeck J. Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin’s “Magnetic Mountain” and the State of Soviet Historical Studies // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1996. Vol. 44. No. 3. P. 456–463.
- Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // Russian Review. 2001. Vol. 60. No. 3. P. 340–359.
- Jung D. The Formation of Modern Muslim Subjectivities: Research Project and Analytical Strategy // Tidsskrift for Islamforskning 2017. Vol. 11. No. 1. Р. 11–29.
- Kafadar C. Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul and First Person Narratives in Ottoman Literature // Studia Islamica. 1989. No. 69. Р. 121–150.
- Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkley: University of California Press, 1995. 639 p.
- Krylova A. The tenacious liberal subject in Soviet studies // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. No. 1. P. 119–146.
- Kuper A. Culture: The Anthropologists’ Account. Cambridge, Harvard University Press, 1999. 299 p.
- Lepetit B. Histoires des pratiques, pratique de l’histoire // Les forms des l’expérience: Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995. P. 9–22.
- Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing. Cambridge: Polity, 2001. P. 97–119.
- Marshall D.P., Moore Ch., Barbour K. Persona Studies: An Introduction. Wiley-Blackwell, 2019. 255 p.
- Marshall P.D., Barbour K. Making intellectual room for Persona Studies: A new consciousness and a shifted perspective // Persona Studies. 2015. No. 1. P. 1–12.
- Muslim Networks from Hajj to Hip Hop / ed. by M. Cooke, B.B. Lawrence. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. 344 p.
- Muslim Subjectivities in Global Modernity: Islamic Traditions and the Construction of Modern Muslim Identities / ed. by D. Jung, K. Sinclair. Leiden – Boston: Brill, 2020. 300 p.
- Naiman E. On Soviet Subjects and the Scholars who make them // Russian Review. 2001. Vol. 60. No. 3. P. 307–315.
- New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere / ed. by D.F. Eickelman, J.W. Anderson. Bloomington: Indiana University Press, 2003. 213 p.
- Paul H. Introduction: Scholarly Personae in the History of Orientalism, 1870–1930 // Scholarly Personae in the History of Orientalism. Brill, 2019. P. 1–16.
- Scherrer J. Kulturologie: Rußland auf der Suche nach einer zivilisatorischen Identität. Göttingen: Wallstein, 2003. 188 p.
- Spivak G.Ch. Can the Subaltern Speak? Marxism and the Interpretation of Culture. University of Illinois Press, 1988. P. 271–313.
- Talal A. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003. 285 p.
- Thum R. What is Islamic History? // History and Theory. 2019. Vol. 57. P. 7–19.
- Trüper H. Dispersed Personae: Subject-Matters of Scholarly Biography in Nineteenth-Century Oriental Philology // Asiatische Studien. 2013. Vol. 67. Р. 1325–1360.
Дополнительные файлы