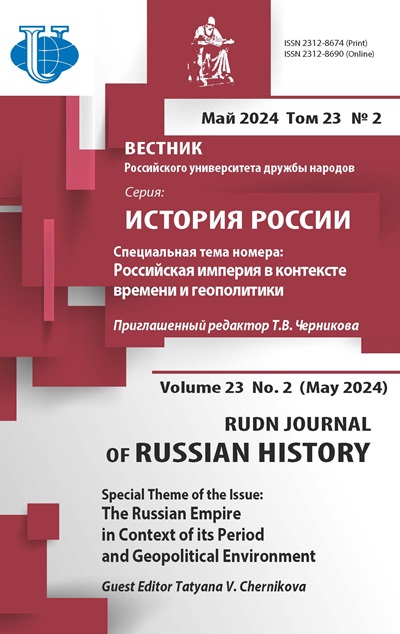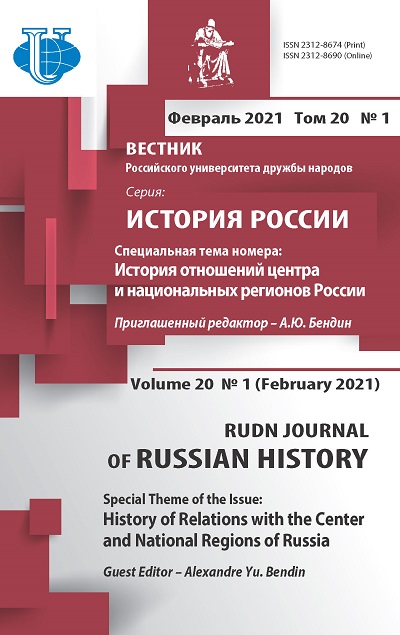Кочевники степного Предкавказья в период Великих реформ в России
- Авторы: Лиджиева И.В.1, Кидирниязов Д.С.2
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр Южный научный центр
- Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра
- Выпуск: Том 20, № 1 (2021): История отношений центра и национальных регионов России
- Страницы: 74-87
- Раздел: ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ ЦЕНТРА И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/25758
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2021-20-1-74-87
Цитировать
Полный текст
Аннотация
На основе анализа архивных документов и материалов периодической печати раскрывается влияние либеральных реформ Александра II на политику имперских органов по управлению кочевыми народами степного Предкавказья: калмыками, ногайцами и трухменами. Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в., по мнению авторов, оказали непосредственное влияние на формирование национальной интеллигенции, которая способствовала подъему национального движения на окраинах и последующей борьбе за самоопределение инородческого населения в период Великой российской революции 1917 г., что и обусловило актуальность рассматриваемой проблематики. Исследование построено на принципах научности и объективности. В качестве методов исследования использованы: реконструктивный, позволивший восстановить отдельные факты и события из жизни кочевников в конкретных социально-экономических и политико-правовых условиях; с помощью историко-генетического метода последовательно раскрыто влияние либеральных реформ на жизнедеятельность кочевых народов Ставропольской губернии. В ходе исследования авторы акцентируют внимание на мероприятиях местных властей, которые носили либеральный характер и проводились в контексте реформ Александра II. Авторы приходят к выводу, что степное Предкавказье - территория кочевания калмыков, ногайцев и трухмен, являясь национальной окраиной Российской империи, подпадавшей под особую систему управления, связанную с этническими и конфессиональными особенностями населения, не была вовлечена в орбиту либеральных реформ 60-70-х гг. XIX в. Между тем региональными органами исполнительной власти на местах санкционировался ряд мероприятий, в первую очередь направленных на удовлетворение потребностей имперской политики по инкорпорированию региона в общеимперское пространство и одновременно способствовавших позитивным изменениям в области просвещения, судоустройства и судопроизводства, в повседневной жизни кочевых народов Ставропольской губернии.
Полный текст
Введение
Начало второй половины XIX в. ознаменовалось в Российской империи проведением императором Александром II объективно назревших либеральных реформ, способствовавших кардинальному изменению во всех сферах общества. Как пишет А. Миллер, «…империи гетерогенны по определению»[1]. Имперская Россия XIX в. также характеризовалась неоднородностью в плане административно-территориального состава и управления ее отдельными территориями. Полиэтничность и поликонфессиональность российского общества, а также неоднородность экономического развития в значительной степени предопределили дифференцированный подход имперских властей к процессу внутреннего управления страной. В этом отношении интересен подход А. Миллера, который считает, что к концу XIX в. такие имперские периферии, как западные губернии, Сибирь и Поволжье, стали представляться как русская национальная территория, в то время как такие имперские окраины, как Кавказ и Средняя Азия, были исключены из нее и воспринимались как колониальные владения[2]. Не являясь сторонниками колониального подхода, в данном случае все-таки должны согласиться с А. Миллером. Так, степное Предкавказье оказалось исходя из рассматриваемого подхода на пограничье, географически, с одной стороны, Астраханская губерния, входившая в Поволжье, с другой стороны, Ставропольская губерния – Кавказ, что и обусловило специфичность не только сложившейся системы управления, но и подходов к формированию политики в отношении автохтонного населения.
Территория кочующих инородцев, административно-территориальная единица в составе Ставропольской губернии, по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., была равна 21 254,3 км2 и являлась местом кочевания калмыков, ногайцев и трухмен, численность которых составляла 47 780 человек, то есть 5,5 % от общего состава населения губернии. Как отмечает С.В. Фарфоровский, «по своим законам и обычаям, они живут особняком от окружающего их населения, будучи изолированы даже своим языком»[3]. В сословной структуре российского общества рассматриваемого периода указанные кочевые народы относились к инородцам; «…для них существовало особое законодательство, закрепляющее их правовое положение, так как предполагалось, что степень их гражданского развития была очень низкой»[4]. В первой половине XIX в. имперскими органами была создана нормативная правовая база, регулировавшая жизнедеятельность кочевых инородцев Ставропольской губернии, диспозиция которой допускала сохранение традиционных органов самоуправления с учетом этнических и религиозных особенностей народов. Так, 10 марта 1825 г. высочайше утверждены «Правила для управления калмыцкого народа»[5]; 6 февраля 1827 г. – «Учреждение для управления Кавказской области»,[6] куда входил «Устав для управления ногайцев и других магометан, кочующих в Кавказской области»[7]; 28 декабря 1835 г. – Положение об управлении калмыцким народом»[8]; 23 апреля 1847 г. – «Положение об управлении калмыцким народом»[9]. В этом отношении интересно положение калмыков Большедербетовского улуса, которые ни по языку, ни по своим религиозным верованиям не подходили к кочевым народам Ставропольской губернии. До 1860 г. Большедербетовский улус находился в административно-территориальном подчинении астраханского губернатора, а на основании указа императора Александра II от 13 марта 1860 г. он был передан под юрисдикцию ставропольского губернатора[10], что было вызвано отдаленностью улуса от губернского центра. Как отмечает К.Л. Васин, «политика самодержавия на Кавказе не могла быть тождественна политике Финляндии и Польше, в свою очередь политика по отношению к казахам не могла полностью совпадать с политикой по отношению к казанским татарам или калмыкам»[11].
Целью данного исследования является выявление влияния либеральных реформ Александра II на политику имперских органов по управлению кочевыми народами степного Предкавказья.
Указанная проблема не получила должного внимания в современной отечественной историографии, хотя отдельные аспекты развития кочевников степного Предкавказья, безусловно, рассматривались как дореволюционными исследователями, так и историками в советский и постсоветский периоды[12]. Между тем либеральные реформы 60–70-х гг. XIX в., на наш взгляд, оказали непосредственное влияние на формирование национальной интеллигенции, которая в ходе революционных событий начала XX в. привела к подъему национального движения на окраинах и борьбе за самоопределение инородческого населения в период Великой российской революции 1917 г., что и обусловило актуальность рассматриваемой проблематики.
В рамках данной статьи поставлена задача показать влияние либеральных реформ на жизнедеятельность кочевых народов Ставропольской губернии, а также восстановить отдельные факты и события из жизни кочевников в конкретных социально-экономических и политико-правовых условиях.
Просвещение на территории кочующих инородцев в 1860–70-е гг.
Если еще в первой половине XIX в. государство в своей региональной политике сохраняло традиционные элементы управления на национальных окраинах, то уже во второй половине, по мнению А. Миллера, ясно прослеживался «…переход от политики непрямого правления, основанной на признании широкой автономии традиционных элит окраин, к политике более централизованной, опирающейся на современную бюрократию»[13]. Способ хозяйствования автохтонного населения степного Предкавказья, уровень его инкорпорации в общероссийское политико-правовое и социально-экономическое пространство, а также концепты государственной политики на данной территории обусловили отсутствие учреждений социальной сферы в современном их понимании. Во многом это было продиктовано теми задачами, которые ставило правительство для первостепенного разрешения, к которым образование и медицинская помощь явно не относились. Прежде всего, на первоначальном этапе, то есть в конце XVIII – начале XIX в., государство интересовали задачи фискального характера для пополнения казны. Кроме того, преследовались цели стратегического плана, небезынтересен этот регион и в сырьевом отношении, так что социальные, в том числе образовательные, проблемы кочевников стояли далеко не на первом месте. В связи с этим к решению вопросов просвещения населения органы исполнительной власти в рамках имперской политики приступают только в начале второй половины XIX в., и к этому их подтолкнули проблемы дефицита квалифированных управленческих кадров, а также, на наш взгляд, на активизацию данного процесса повлияли и либеральные реформы императора Александра II. Так, в ходе либеральной школьной реформы 60-х гг. XIX в., имевшей в перспективе целью создание системы всеобщей школы, на территории кочевых инородцев Ставропольской губернии появляются первые образовательные учреждения.
Согласно представлению вице-губернатора Ставропольской губернии от 28 октября 1861 г. за № 6092, положительно был решен вопрос об открытии в Большедербетовском улусе калмыцкого училища на 10 мальчиков[14]. Данное указание было обусловлено, как отмечает Главный пристав в своем предписании, «недостатком в письменных и словесных переводчиках…»[15]. Между тем, согласно донесению попечителя улуса, открытие училища состоялось только 5 мая 1866 г. Священник села Ивановского Антип Сократов изъявил желание безвозмездно обучать семь набранных калмыцких мальчиков[16].
Первое училище для трухмен было открыто в 1861 г., которое имело два здания – на Зимней и на Летней ставке. Учебный год начинался на Зимней ставке, а оканчивался на Летней, потому что зимой все трухмены жили по близости Зимней ставки, а на лето перекочевывали в степи района второй ставки. Так продолжалось до 1889 г.[17]
Дальнейший анализ делопроизводственной документации по вопросу функционирования калмыцкого училища показывает, что его деятельность находилась под контролем не только попечителя улуса, но и губернатора. Так, например, в соответствии с предписанием губернатора от 8 октября 1867 г. все приходно-расходные операции по училищу должны были вноситься в особую шнуровую книгу; предстоящие расходы производились с утверждения губернатора, а также по требованию попечителя улуса представлять документы ему на ревизию[18].
В рапорте улусного попечителя Десятова Главному приставу кочующих народов от 10 января 1868 г. содержатся предложения по улучшению обеспечения учащихся и учителя, а именно: питание; одежда и обувь; отопление и освещение помещения; обслуживание, а также предусмотрено вознаграждение для учителя А. Сократова, обучавшего детей на безвозмездной основе. Практический опыт работы с калмыцкими детьми в течение года позволил Сократову сделать ряд предложений по повышению эффективности обучения, о чем сообщили Главному приставу кочующих народов. По его мнению, для получения результатов необходимо было объединить учеников калмыцкого и сельского училищ, ввести экзаменацию и поощрения за успехи в учебе, так как «между ними есть действительно способные мальчики, которые при прочих условиях могли бы развиваться…»[19].
В то же время со стороны губернских властей также наблюдался интерес к процессу обучения. Так, вице-губернатор в декабре 1868 г. предписывает Главному приставу кочующих народов представить сведения о том, «сколько именно со дня открытия в Большедербетовском улусном училище, то есть с 1862 г., было в нем учеников, сколько человек обучено русской грамоте, какую именно ученики принесли пользу между своими соплеменниками и особо ведомость, на что именно и на какие предметы расходовались ежегодно 470 руб., отпускаемые на содержание училища»[20].
Главный пристав кочующих народов Ставропольской губернии П.З. Ланко в своем письме губернатору отмечает: «недостаток письменных и словесных переводчиков по вверенному мне Управлению ощутителен»[21]. Решение кадрового вопроса инородческого управления, а прежде всего подготовку переводчиков и толмачей, государство переложило на органы местного самоуправления, «на все предприятия сии, деньги будут расходоваться из общественного народного капитала…»[22]. Так, общество караногайцев Ставропольской губернии приговором, составленным 25 сентября 1866 г., определило: «Устраиваемую ими при ставке Терекли школу для обучения ногайских мальчиков русской грамоте назвать именем Его Императорского Величества Государя Императора Александра Николаевича, в память чудесного избавления Его Величества от покушения злодея»[23].
По ходатайству Главного пристава кочующих народов и согласно приговорам Ачикулакского и Караногайского обществ ставропольский губернатор издал приказ об открытии на средства общественного капитала двух начальных инородческих училищ на 25 и 20 мальчиков соответственно. Эта новость была опубликована в газете «Ставропольские губернские ведомости» за июнь 1880 г., где также сообщалось: «С открытием последнего училища в каждом приставстве будет существовать по одному правильно организованному училищу, затем предположено учредить одно центральное двухклассное училище на 45 учеников, общее для всех кочующих народностей, которое будет иметь целью приготовление народных переводчиков, писарей и учителей для татарских школ»[24]. Появление светских школ для инородческих детей, безусловно, имело положительное значение. Еще в 1858 г. в отчете частного пристава трухменского народа на вопрос «Заботятся ли мурзы почетные и духовные об образовании своих детей и куда именно отдают их для науки?» следовал ответ: «Все образование детей заключается в изучении чтению и письму по-татарски, чему духовные и зажиточные из трухмен обучают их у себя в народе, но некоторые из отцов отдают для этой надобности детей своих также в караногайский народ, в особенности в зимнее время, когда оба эти народа сближаются друг с другом своими кочевьями»[25]. Следует отметить, что увеличение образовательных учреждений в 60–80-е гг. XIX в. имело стойкую положительную тенденцию в губернии, обусловленную не только такими объективными факторами, как развитие экономического состояния региона в целом, но и субъективными – политикой государства. Например, по данным И.В. Бентковского, количество сельских школ увеличилось до 52, а число учащихся возросло с 954 до 1 648[26].
В официальной части газеты «Кавказ» от 23 августа 1880 г. в разделе новостей опубликовано сообщение из Ставрополь-Кавказского от 1 августа о состоянии образования в среде инородческого населения, где констатировался следующий факт: «Распространение грамотности между кочующими инородцами, путем учреждения школ – дело весьма серьезное и важное, требующее большой осмотрительности. До сих пор успешное разрешение этого вопроса тормозили: неимение оседлости инородцев и происходящее от этого неудобство постоянной школы, недостаток учителей и вековое отвращение инородцев от русской грамоты…»[27]. Отсутствие педагогических кадров привело к преподаванию случайных лиц, например, из числа чиновников приставств. «Так, в школе, учрежденной при ставке пристава кочующих трухмен, учительское место было поручено одному из чиновников местного управления. Чиновник этот, занимая еще другое место, не имел возможности постоянно находиться при школе, а заглядывал в нее лишь только по временам, и то очень редко»[28]. Между тем, по утверждению современников, стремление кочевников к получению светского образования имело место. Так, С.В. Фарфоровский пишет: «Среди ногайцев во второй половине XIX в. наблюдалось стремление… дать своим детям и русское образование и некоторые из них даже просят давать им частные уроки»[29]. В «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа», издаваемом Управлением Кавказского учебного округа, за 1905 г. отмечается, что «в общем, среди калмыков заметная сильная жажда образования, которая и поддерживается местной администрацией. Калмыки учатся в Ставропольской гимназии и в духовном училище, и в высших учебных заведениях»[30].
Статистические сведения, представленные в таблице 1, отражают состояние грамотности инородцев, проживающих непосредственно на территории кочующих инородцев Ставропольской губернии, по материалам Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
Таблица 1. Численность грамотных инородцев по возрастам
Возрастные границы, лет | Общая численность, чел. | Из них грамотных, чел. (%) | ||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
10–19 | 5 134 | 3 974 | 527 (10,3) | 147 (3,7) |
20–29 | 5 395 | 4 123 | 606 (11,3) | 134 (3,3) |
30–39 | 4 133 | 2 697 | 452 (11) | 90 (3,3) |
40–49 | 2 823 | 1 851 | 296 (10,4) | 26 (1,4) |
50–59 | 1 911 | 1 306 | 128 (6,7) | 13 (1) |
60–69 | 1 054 | 711 | 78 (7,4) | 10 (1,4) |
70–79 | 323 | 245 | 13 (4) | 1 (0,4) |
80–89 | 66 | 46 | 3 (4,5) | – |
90–99 | 7 | 10 | – | – |
Источник: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого. Вып. 67. Ставропольская губерния. Тетрадь II (последняя). СПб., 1905.
Наибольший показатель грамотных приходится на возрастную группу от 10 до 19 лет у женщин (3,7 %) и от 20 до 29 лет у мужчин (11,3 %), т. е. у людей, рожденных в период с 1868–1887 гг. Наименьший – от 70 лет и старше, как у мужчин, так и у женщин. Таким образом люди, рожденные в период с 1868 по 1877 г., показали наибольший процент грамотности. На наш взгляд, представленные в таблице показатели свидетельствуют о том, что увеличение доли грамотных связано с мероприятиями в ходе либеральных реформ Александра II. В фондах Ставропольского историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве хранится небольшая коллекция фотографий «Школы Ставропольских кочевых инородцев (калмыки, ногайцы и трухмены)», посвященная инородческим школам Ставропольской губернии. Альбом включает всего 20 фотографий, из них 10 отображают образовательные учреждения Большедербетовского улуса, 5 – трухменские и 5 – ногайские[31]. Несмотря на то, что фотографии предположительно датируются началом XX в., так как были переданы музею Главным приставом кочующих народов Ставропольской губернии А.А. Польским, занимавшим эту должность в период с 1909–1913 гг., они отражают ситуацию в сфере просвещения калмыков, ногайцев и трухмен, ставшей следствием тех мероприятий, проводившихся в среде кочевых инородцев в 60–70-е гг. XIX в. и способствовавших формированию национальной интеллигенции. В 1917–1918 гг. в Ставрополе представителями кочевых инородцев, получивших образование во второй половине XIX в., издавалась газета «Ставропольский инородец», в заголовочной части которой указывалось: «Газета, освещающая жизнь, нужды и интересы ставропольских инородцев – трухмен, калмыков и ногайцев – и ставящая своей целью культурно-национальное и экономическое возрождение этих инородцев»[32].
Судопроизводство в среде инородцев в 1860–1870-е гг.
Система судоустройства и судопроизводства в среде кочевых инородцев Ставропольской губернии была детально проработана в нормативной правовой базе имперским законодателем. Так, в соответствии со статьей 117 «Учреждения Управления Ставропольской губернии» в судебном производстве по управлению кочевыми инородцами различают три рода дел. К первому роду принадлежат: 1. измена; 2. возмущение в народе; 3. побег за границу с злым умыслом; 4. подвод хищников заграничных. Ко второму роду принадлежат: 1. убийство; 2. разбой и насилие; 3. поджоги и изготовление фальшивой монеты; 4. кражи и угон лошадей другого рода. К третьему роду принадлежат дела исковые, к коим причисляются все предметы[33]. Между тем, согласно статье 66 «Устава для управления ногайцев и других магометан, кочующих в Кавказской области», уголовные дела разделяются на две степени. Следственные мероприятия и судопроизводство по делам первой степени производятся приставом с военным чиновником, тогда как дела второй степени рассматриваются приставом совместно с Головой и старшиной[34]. Статья 121 «Учреждения» гласит: «За преступления и проступки маловажные, за дурное поведение, грабеж и кражу до тридцати рублей и притом не менее трех раз кочевые инородцы подвергаются, по мирскому приговору, с ведома Головы и Старшины и с утверждения надлежайщаго полицейского начальства смотря по степени вины, исправлению или телесному наказанию, которое ни в каком случае не должно превышать ста ударов розгами». Таким образом, уголовные преступления находились в юрисдикции компетентных органов империи, а гражданские проступки в случае непревышения суммы иска 30 руб. – органами внутреннего управления инородцами. Так, например, С.В. Фарфоровский, изучая проблемы функционирования правовых институтов в среде кочевых народов Ставропольской губернии, писал: «Для разбора гражданских дел у трухмен есть гражданский третейский суд «маслахад». Истец, желающий разобрать дело по маслахаду, первоначально заявляет об этом трухменскому приставу; последний дает приказ на имя старшины того аула, где живет проситель. Истец и ответчик должны выбрать по равному числу «почетных стариков», которые и разбирают дело, склоняя обе стороны к примирению. Бракоразводные дела, раздел наследства и другие судятся по шариату. Дела эти должны представляться закавказскому муфтию на заключение. Суды маслахадный и шариатный – устные»[35].
Правовые нормы, вступившие в силу в 1827 г., затем получившие детализацию в «Учреждении» 1857 г., в начале второй половины XIX в. подверглись пересмотру на региональном уровне, причем его основанием послужил мирской приговор общества трухмен, составленный 16 июня 1859 г.[36]
Пристав Трухменского и Киргизского народов штабс-капитан Петр Николаевич Иванов 27 августа 1859 г. представил рапорт за № 783 Главному приставу кочующих народов, подполковнику Петру Михайловичу Иванову, в котором сообщает о желании общества трухмен «получить право разбора по степным обычаям такого рода гражданских исков и случаев воровства, в которых не представляется достаточных оснований для начала следствия». В свою очередь, Главный пристав направляет представление от 7 сентября 1859 г. за № 1445 ставропольскому гражданскому губернатору П.А. Брянчанинову со словами: «…представляя при сем сказанном приговор на благоусмотрение…»[37].
20 ноября 1859 г. П.А. Брянчанинов в своем письме предлагает Главному приставу П.М. Иванову выразить свое мнение по поводу приговора трухмен, ответив на вопрос: «Трухмян, в том ли что в кругу их замечена уклончивость от явки к разбирательству жалоб, которые на таковое передаются Приставом, или же трухмяне хотят расширить права свои, делая суд и расправу во всех жалобах и даже гражданских исках, по народным их обычаям, кроме дел уголовных?»[38].
Данная переписка продолжалась в течение всего следующего года и характеризовалась осознанием важности проблемы всех ее участников. Так, на наш взгляд, правовая система рассматривалась в качестве механизма, конструирующего управленческий опыт имперских органов власти на региональных окраинах. Наши предположения находят подтверждение в трудах современных исследователей права, где утверждается следующее: «Процесс накопления знаний о местном праве непостоянен. Это тактический инструмент – гибкий и манипулятивный, воздействие которого может быть взаимовыгодным (для колонизаторов и колонизируемых) или же отражать интересы одной из сторон»[39].
И только 24 августа 1860 г. частный пристав трухменского народа П.Н. Иванов направил Главному приставу подробный ответ, в коем выразил свое мнение о судоустройстве и судопроизводстве в среде кочевых магометан. Его предложения по поводу реформирования указанной сферы строились на том, что, прежде всего, правовые нормы существующего законодательства, регулирующего данный процесс, не соответствуют условиям жизни кочевых народов. «Закон действительно невозможно применить на деле»[40], – пишет П.Н. Иванов, сталкивающийся с этим в каждодневной своей практике на посту частного пристава. Далее им приводятся конкретные факты: «…На общественные низамы не собираются даже ста человек…»[41]. Для составления мирского приговора необходим кворум выборных должностных лиц органов местного самоуправления, чтобы решение схода было легитимным. Зачастую участники схода отправлялись на заработки на длительный срок в соседние села. В условиях кочевого способа хозяйствования населения, а также обширности территории их проживания соблюдение этого условия являлось практически невозможным. Во-вторых, обвиняемые в совершении противоправных действий, зачастую использовали вышеприведенный недостаток и склоняли отсутствующих выборных к принятию необходимого им решения.
Разработка проекта об изменении порядка суда над кочевыми магометанами приобрела либерально-демократический характер. На первом этапе для разработки проектного варианта правил частным приставам был разослан перечень следующих вопросов: «а) Число необходимых для каждого народа судей?; б) Порядок избрания и утверждения в должностях; в) Срок службы судей, их права и преимущества; г) Порядок утверждения произносимых судьями приговоров над однородцами; д) Род и степень исправительных наказаний коим инородцы по приговорам словесных судей подвергаться могут»[42].
Полученные ответы позволили сформировать первоначальный вариант проекта правил суда над кочевыми магометанами[43]. Частные приставы, имевшие значительный багаж знаний о жизнедеятельности кочевых магометан, усвоившие их традиции и обычаи, предлагая внесение изменений в существующую систему отправления правосудия, отмечали, «Нет сомнения, что суд целого общества есть вернейший и беспристрастный, какой только может желать правда…»[44]. Между тем они вынуждены были констатировать необходимость внесения изменений в систему судопроизводства, с учетом способа хозяйствования и требований времени. Так, чиновники в своих проектах предусмотрели как способы повышения эффективности правосудия, предлагая создание путем выборов на определенный срок коллегиального органа, состоящего, например «из каждого куба по одному судье и одному кандидату, могущему заступить за место первого в случае болезни или необходимого отсутствия, всего шести судей и кандидатов», так и механизмы, позволяющие повысить привлекательность сих должностей, освободив судей на время их службы от всех повинностей, а «пристрастных и злонамеренных судей сменять прежде срока». Кроме того, в качестве возможных способов наказания были предложены арест и денежный штраф в пользу истца или общественного капитала, записи в штрафную книгу с недопущением участвовать в общественных делах, наказания розгами до 100 ударов, ссылка во внутренние губернии России и в арестантские роты.
13 апреля 1861 г. П.А. Брянчанинов направляет П.М. Иванову предписание, в котором сообщает об одобрении проекта. При этом считает необходимым «…предварительно, для предупреждения ропота и неудовольствий со стороны народа, и чтобы не возбудить толков и сравнений магометан в правах с государственными крестьянами, предложить обсуждение этого вопроса народу для соглашения об изменении его теперешнего порядка…»[45]. Проект был предложен на обсуждение на сходе общества ногайцев с представлением их решения в мирских приговорах.
Обсуждение предполагаемого нововведения завершилось 13 апреля 1862 г., когда по приказанию П.А. Брянчанинова проект правил о производстве суда над магометанами был отложен «…впредь до того времени, пока не приведутся в исполнение разные другие предположения Правительства касающиеся улучшения блага кочующих магометан, например, приучение их к оседлой жизни, к занятию хлебопашеством»[46].
В июле 1862 г. исполняющий должность Главного пристава кочующих народов П.О. Рудановский в своем рапорте от 19 июня 1862 г. на имя ставропольского гражданского губернатора сообщает: «Находя со своей стороны образование словесных судей между магометанами делом чрезвычайно полезным, я осмеливаюсь выразить здесь мысль, что при настоящих условиях, когда вышеозначенные нововведения не успели еще вполне привиться к народу, нельзя надеяться на успех к осуществлению этого предположения мирно и путем убеждения на подведомственных мне кочующих племен»[47].
В 1864 г. вновь возвращаются к вопросу о внесении изменений в судопроизводство кочевых инородцев, теперь уже по предложению Караногайского пристава П.О. Рудановского, который 5 марта 1864 г. обратился к Главному приставу, отмечая, что такая мера наказания, как «выдержание провинившихся при ставке до того слабо…», что правонарушители «не придают ему никакого значения»[48]. Его предложение заключалось в «…переселении известных воров и мошенников, по крайней мере, в другие приставства к ставкам для ближайшего над ними наблюдения», так как,
по его мнению, «лишение свободы располагать местом жительства и удаление от родины и родных в круге чуждых им людей сильно должно подействовать на остальных ногайцев подозрительного поведения и эта мера по всей вероятности принесет ожидаемые плоды, для спокойствия общества и сохранения его интересов»[49].
Предложение П.О. Рудановского получило широкое распространение. В фондах Государственного архива Ставропольского края отложился ряд приговоров, в которых зафиксированы решения выборных должностных лиц о выселении «порочных инородцев». Так, например, в соответствии с приговором общества трухмен Игдырова, Чавдурова и Соин-Аджиева родов Адай Кутлыбаев был сослан в Харьков «за дурное поведение и кражу скота»[50]. В следующем приговоре общество караногайцев ходатайствует о выселении в более отдаленные места «…поселенных по распоряжению начальства в соседней с караногайским приставством Астраханской губернии Язмамбета Адаидуллаева, Болота Джанибекова, Беймурзы Садымова, Азиса Ахметова и Ярыка Исках Аджиева»[51].
Контроль над действиями местных правовых институтов, которые необходимо было реформировать в соответствии с требованиями политики русификации, осуществлялся как частными приставами, так и Главным приставом и находился под пристальным вниманием ставропольского гражданского губернатора.
Анализ делопроизводственной практики в системе органов управления кочевыми инородцами Ставропольской губернии в 60–70-е гг. XIX в. позволяет утверждать, что власти стремились изменить существующий порядок судоустройства и судопроизводства в среде кочевых магометан, за исключением калмыков, исповедовавших буддизм. Произведенные частичные изменения, так же, как и планируемые мероприятия по организации судебной власти и осуществлению судебного производства, были направлены на упрощение процедуры последнего, что было обусловлено способом хозяйствования автохтонного населения, а также на одновременное повышение эффективности судебного разбирательства при декларировании принципа ограничения вмешательства администрации в процесс отправления правосудия, так как это повышало авторитет и престиж власти в среде инородцев. Ведь полная их социально-экономическая и политико-правовая интеграция являлась основной целью имперской политики на национальных окраинах.
Выводы
Таким образом, степное Предкавказье – территория кочевания калмыков, ногайцев и трухмен, являясь национальной окраиной Российской империи и подпадавшая под особую систему управления, связанную с этническими и конфессиональными особенностями населения, не была вовлечена в орбиту либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в.
Между тем региональными органами власти на местах санкционировался ряд мероприятий, в первую очередь направленных на удовлетворение потребностей имперской политики по инкорпорированию региона в общеимперское пространство, прежде всего в обеспечении преодоления языкового барьера в управленческом процессе. С этой целью открывались светские школы для инородцев, где и осуществлялась подготовка квалифицированных кадров, столь необходимых властным структурам. С другой стороны, этот процесс был обоюдовыгодным. Преимущества светского образования, безусловно, были осознанны кочевыми народами, в своем большинстве имевшими исторический опыт национальной государственности.
Следующим моментом является легитимизация имперскими властями местных правовых норм, основанных на постулатах обычного права. Внесение изменений в рассматриваемый период в существующую законодательную базу, регулирующую жизнедеятельность кочевников, соответствовало целям и задачам внутренней политики по постепенной интеграции национальных окраин в общеимперское правовое пространство.
1 Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2010. С. 70.
2 Miller A. The Empire and Nation in the Imagination of Russian Nationalism // Imperial Rule. Budapest, 2004. P. 9–26.
3 Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии. Историко-этнографический очерк. Тифлис, 1909. С. 1.
4 Мамедов К.Н. Права подданных в различные периоды существования Российского абсолютизма // Государство и право в XXI в. 2017. № 1. С. 11.
5 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собрание первое. Т. XL. № 30290. СПб., 1830. С. 155–161.
6 ПСЗРИ-2. Т. II. № 878. СПб., 1830. С. 107–155.
7 Там же. С. 145–155.
8 ПСЗРИ-1. Прибавление к Т. IX. № 7560а. СПб., 1836. С. 18–39.
9 Там же. Т. XXII. № 21144. СПб., 1848. С. 349–372.
10 ПСЗРИ-2. Т. XXXV. № 35556. СПб., 1860. С. 222–223.
11 Васин К.Л. Административные и судебные реформы 60–90-х гг. XIX в. в степных областях Западной Сибири (Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской). Уфа, 2008.
12 Щеглов И.Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской губернии. Ставрополь: Сведения о хозяйстве оседлых и кочующих инородцев, русских крестьян и хуторян-овцеводов в Трухменской и Ачикулакской степи Ставропольской губернии. Ставрополь, 1910–1911; Кочекаев Б.Б. Социально-экономическое и политическое развитие ногайского общества в XIX – начале XX вв. Алма-Ата, 1973; История горских и кочевых народов (Проблемы социально-экономического развития). Ставрополь, 1980; Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях. Ставрополь, 1991; Курбанов А.В. Ставропольские туркмены: историко-этнографические очерки. СПб., 1995; Джумагулова А.Т. Традиционные институты обычного права ногайцев в конце XVIII–XIX вв. // Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему. Материалы Третьей Международной научно-практической конференции. Черкесск, 2019. С. 66–72; Джумагулова А.Т. Тенденции в административно-правовом развитии ногайцев Северного Кавказа в составе Российской империи в конце XVIII – 60-х гг. XIX в. // Современная наука и инновации. 2014. № 3. С. 35–40; Кидирниязов Д.С. Ногайцы в северокавказском историческом процессе в XVI – начале XX в. Грозный, 2017; Лиджиева И.В. Охрана общественного порядка инородческими органами местного самоуправления в XIX– начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 427. С. 132–136.
13 Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2010. С. 213.
14 Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). Ф. 249. Оп. 2. Д. 220. Л. 7.
15 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 5074. Л. 6.
16 Там же. Ф. 249. Оп. 2. Д. 220. Л. 10.
17 Володин А.А. Трухменская степь и трухмены // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1908. С. 61.
18 ГАСК. Ф. 101. Оп. 1. Д. 5074. Л. 38.
19 Там же. Ф. 249. Оп. 2. Д. 220. Л. 51.
20 ГАСК. Ф. 249. Оп. 2. Д. 220. Л. 67.
21 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 5074. Л. 6.
22 Там же. Л. 2.
23 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 5074. Л. 34.
24 Открытие двух инородческих училищ в Караногайском и Ачикулакском приставствах Ставропольской губернии // Ставропольские губернские ведомости. 1880. 28 июня. С. 3.
25 ГАСК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1633. Л. 38–48.
26 Бентковский И.В. Беглый обзор развития экономического состояния ставропольской губернии за 25-летие царствования Государя Императора // Ставропольские губернские ведомости. 1880. № 8. С. 2.
27 Кавказ. 1880. 23 августа. № 225. С. 3.
28 Там же.
29 Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии. Историко-этнографический очерк. Тифлис, 1909. С. 34.
30 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа… С. 87.
31 Ставропольский историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Ф. № 54. Ед. хр. 1860.
32 Ставропольский инородец. 1918. № 10. 27 мая (6 июня)
33 Свод законов Российской империи, повелением Государя императора Николая Первого, составленный. Т. II. Ч. II. Тетр. 2. СПб., 1857. С. 28
34 ПСЗРИ-2. Т. II. № 878. СПб., 1830. С. 145–155.
35 Фарфоровский С.В. Народно юридические обычаи туркмен Ставропольской губернии. Этнографический очерк. 1909 года. Ставрополь-Кавказский, 1910. С. 12.
36 ГАСК. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3878. Л. 5 об.
37 Там же. Л. 1.
38 Там же. Л. 2.
39 Саратори П., Шаблей П. Эксперименты знаний: адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М., 2019. С. 24.
40 ГАСК. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3878. Л. 18 об.
41 Там же. Л. 19.
42 Там же. Л. 23–24 об.
43 Там же. Л. 40–42 об.
44 Там же. Л. 37 об.
45 Там же. Ф. 249. Оп. 2. Д. 21. Л. 25.
46 ГАСК. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3878. Л. 34.
47 Там же.
48 Там же. Ф. 249. Оп. 2. Д. 169. Л. 1.
49 Там же. Л. 1 об.
50 Там же. Д. 920. Л. 157.
51 Там же. Л. 144.
Об авторах
Ирина Владимировна Лиджиева
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр
Автор, ответственный за переписку.
Email: irina-lg@yandex.ru
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела гуманитарных исследований
Российской академии наук, 344006, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 41Даниял Сайдахмедович Кидирниязов
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра
Email: daniyal2006@rambler.ru
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела древней и средневековой истории Дагестана Института истории, археологии и этнографии
367030, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. М. Ярагского, 75Список литературы
- Бентковский И.В. Беглый обзор развития экономического состояния Ставропольской губернии за 25-летие царствования Государя Императора // Ставропольские губернские ведомости. 1880. № 8. С. 2-12
- Васин К.Л. Административные и судебные реформы 60-90-х гг. XIX в. в степных областях Западной Сибири (Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской). Омск: Омский государственный университет, 2008. 26 с
- Володин А.А. Трухменская степь и трухмены // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис: Тип. Канцелярии Наместника Его Императорского Величества на Кавказе и К. Козловского, 1908. С. 1-98
- Джумагулова А.Т. Тенденции в административно-правовом развитии ногайцев Северного Кавказа в составе Российской империи в конце XVIII - 60-х гг. XIX в. // Современная наука и инновации. 2014. № 3. С. 35-40
- Джумагулова А.Т. Традиционные институты обычного права ногайцев в конце XVIII-XIX вв. // Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков - к грядущему. Материалы Третьей Международной научно-практической конференции. Черкесск: Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований при Правительстве КЧР, 2019. С. 66-72
- Кочекаев Б.Б. Социально-экономическое и политическое развитие ногайского общества в XIX - начале XX вв. Алма-Ата: Ставропольское книжное издательство, 1973. 185 с
- Курбанов А.В. Ставропольские туркмены: историко-этнографические очерки. СПб.: Языковой центр СПбГУ, 1995. 237 с
- Лиджиева И.В. Охрана общественного порядка инородческими органами местного самоуправления в XIX - начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 427. С. 132-136. doi: 10.17223/15617793/427/17
- Магомаев В.Х., Кидирниязов Д.С. Ногайцы в северокавказском историческом процессе в XVI - начале XX в. Грозный: АН Чеченской республики, 2017. 400 с.
- Мамедов К.Н. Права подданных в различные периоды существования российского абсолютизма // Государство и право в XXI в. 2017. № 1. С. 10-14.
- Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 320 с.
- Саратори П., Шаблей П. Эксперименты знаний: адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 280 с.
- Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях. Ставрополь: Кавказская библиотека, 1991. 743 с.
- Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии. Историко-этнографический очерк. Тифлис: Типография К.П. Козловского, 1909. 34 с.
- Фарфоровский С.В. Народно юридические обычаи туркмен Ставропольской губернии. Этнографический очерк. 1909 года. Ставрополь-Кавказский: Электропечатня Вайнблат, 1910. 17 с.
- Щеглов И.Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской губернии. Ставрополь: Сведения о хозяйстве оседлых и кочующих инородцев, русских крестьян и хуторян-овцеводов в Трухменской и Ачикулакской степи Ставропольской губернии. Ставрополь: Типография Губернского правления, 1910-1911. 483 с
- Miller A. The Empire and Nation in the Imagination of Russian Nationalism // Imperial Rule. Budapest: Central European University Press, 2004. P. 9-26