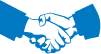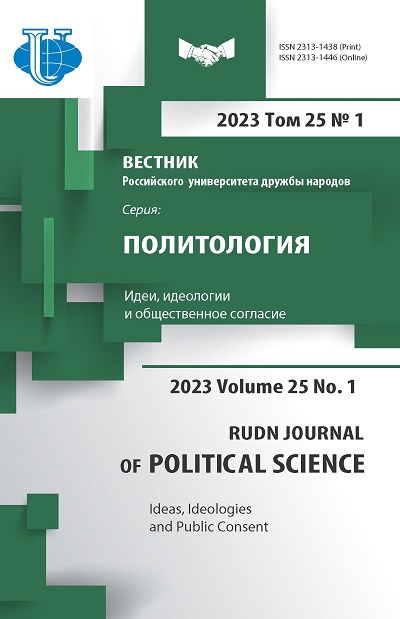From Social Chronotope to Political Myth: Ukrainian Case
- Authors: Fadeeva L.A.1
-
Affiliations:
- Perm State University
- Issue: Vol 25, No 1 (2023): Ideas, Ideologies and Public Consent
- Pages: 150-162
- Section: IDEAS AND IDEOLOGIES IN THE INTERNATIONAL CONTEXT
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/34041
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-1-150-162
- ID: 34041
Cite item
Full Text
Abstract
The author proposes to consider ideas, values, meanings and orientations regarding the identity of Ukraine that gained independence through the concept of a social chronotope. This implies a conceptual and mental space in which temporal and spatial characteristics are combined. The researcher uses a socio-constructivist approach to identity, a discourse analysis of publications by representatives of the political and intellectual elite, and secondary sociological data. The social chronotope was formed by the Ukrainian elite based on historical myths and new geopolitical realities that made Ukraine the largest country in Europe. The most important component of the chronotope was the idea that Ukraine needs an identity that distinguishes it from Russia. If the events of 2004 determined the vector of Ukrainian identity politics as European, the Euromaidan of 2014 drew a demarcation line not only between Ukraine and Russia, but also between Kyiv as a center of political power and a symbol of political community, on the one hand, and the pro-Russian regions of the eastern Ukraine, on the other hand. Their inhabitants were denied Ukrainian citizenship, their views and values were marginalized, which destroyed the social chronotope. It is, thus, replaced with an ideological confrontation in the form of a political myth about the Europeanness of Ukraine, which is hindered by Russia and the “separatists” under its influence.
Keywords
Full Text
Введение Концепт «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы как окончания идеологического противостояния уже давно и оспорен, и раскритикован, однако острота такого противостояния достигла накала лишь в последние десятилетия. Изменение мирового порядка и борьба за новое мироустройство повышают градус политической и научной дискуссии. Интеллектуалов постоянно упрекают в том, что они совершают очередное «предательство», подвергаясь политическим страстям и втягивая в них общество. В такой ситуации поиск новых исследовательских инструментов приобретает особое значение. В поисках аналитического инструментария для исследования идей, концептуального и ментального пространства представители социально-гуманитарных и общественных наук в последние годы все чаще обращаются к понятию социального хронотопа. Как считает А. Шабага, «это пространство концептуально в том смысле, что его структура парадигмальна, то есть представлена в виде некоего образца, следуя которому можно изменить «действительное» пространство (как физическое, так и социальное)»[113]. Он утверждает, что все социальные хронотопы связаны с изменениями общественной мысли и общественных отношений и были в той или иной форме предложены обществу, которое может выбирать подходящий ему вариант. Значительный интерес исследователей вызывает пространственно-временная компонента идентичности [Емелин, Тхостов 2020], возможность применения хронотопа к теории социального действия[114], хронотоп как образ геополитической реальности [Сапрыка 2019]. Социальный хронотоп как ментальное пространство особо существенно меняется в связи с изменениями политического и геополитического характера. Одним из важнейших изменений конца ХХ в. стали сначала радикальные реформы в форме перестройки в рамках СССР, а затем распад Советского Союза. В это время шел активный процесс создания социальных хронотопов интеллектуальной и политической элитой из претендующих на независимость частей Советского Союза, ставших с его распадом новыми государствами. Задача данной статьи - охарактеризовать формирование украинского социального хронотопа, его внутренние противоречия, которые привели к трансформации в политический миф как идеологическое противостояние. Проблематике Украины, украинского транзита, «Оранжевой революции», Евромайдана посвящена обширная литература [Мироненко 2020]; анализу подвергаются не только причины и последствия этих событий, изменение расстановки политических сил, но и вопросы украинской идентичности, ее идеологического и психологического измерения [Shulman 2004; Riabchuk 2016; Kulyk 2016, Zaharchenko 2012]. Специальное исследование посвящено анализу дискурсивного пространства Евромайдана, созданию новых смыслов и идейно-ценностных демаркаций [Байша 2021]. Общепринято суждение, что политическая суверенизация сопровождалась так называемой «национализацией истории», процессом «отделения “своей” национальной истории от ранее единого пространства и времени. Недавнее общее прошлое, представляемое в виде транснациональной “истории СССР”, разделилось и в идеологических практиках, и в сознании людей» [Касьянов 2007]. В конце 1990-х участники проекта «Создание национальных историй в советском и постсоветском государствах»[115] в ходе оживленных дискуссий и острых споров согласовали понимание «национальной истории» как системы знаний, идей, ценностей, которые формируются лидерами национальных движений, политической и интеллектуальной элитой [Национальные истории 2009: 9]. Становление украинского социального хронотопа Создаваемые (реставрируемые) и культивируемые (героизированные) символы и представления имеют значимость как для идеологического, так и культурного маркирования. Еще не распался Советский Союз, но проводимая в нем перестройка вызвала рост национальных движений, которые требовали признания своих идеологических маркеров, почерпнутых в исторических мифах. Г. Касьянов, известный украинский историк, воспроизводит шаги становления украинского национального мифа: обращение в 1989 г. Полтавской организации «Рух» «К общественности Украины и всего Советского Союза», в котором Полтавская битва характеризовалась как уничтожение остатков украинской автономии («Рухом» были заготовлены плакаты: «Петр Первый - палач украинского народа», «Вечная слава гетману Мазепе»); в том же году акция «живая цепь»[116] в память «Воссоединения-1919» (Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики); в 1990 г. - мероприятия в честь С. Петлюры; изменение оценок личности Мазепы - от предателя до патриота; демонтаж памятников Ленина в ряде городов. Касьянов считает, что уже к концу 1990 г. «украинские политики национал-демократического лагеря, интеллектуалы и общественные активисты национальной ориентации сделали решающий шаг в отмежевании национальной истории от ранее общего воображаемого культурно-исторического пространства» [Касьянов 2007]. С провозглашением независимости Украины культурно-историческое пространство в социальном хронотопе дополняется географическим. В книге «Украина - не Россия», вышедшей в 2003 г., Леонид Кучма воспроизвел те исторические мифы и культурные символы, которые уже были приняты украинской общественностью. При этом особое значение он уделил пространственному, территориальному фактору: «Украина, будучи в 28 раз меньше России, остается очень большой, безо всяких натяжек очень большой, европейской страной (самой большой, если брать страны, целиком расположенные в Европе [Кучма 2003: 28]. «В составе СССР Украина занимала незначительное пространство, но „вернувшись“ в Европу, новая Украина масштабами своей территории разом отняла первенство у Франции», - отмечает украинский президент. Но и этого акцента ему кажется мало: «Возвращение тем закономернее, что и „географический центр Европы находится на украинской территории, в Закарпатье“» [Кучма 2003: 28]. В составе СССР Украина была третьей по площади республикой (после РСФСР и Казахстана), но занимала лишь 6,8 % территории страны. В 1991 г. она стала самым большим по территории государством Европы. Время и пространство соединились в том, чтобы способствовать продвижению нового понимания Украины. Политические лидеры страны не раз в разных контекстах говорили с огорчением, что в мире, и в особенности в Европе, имеют слабое представление об Украине и без малого 50-миллионном украинском народе. Вставал вопрос о геополитической идентичности и ориентации Украины. К концу 1990-х - началу 2000-х он был решен в пользу европейской принадлежности и идентичности. Кучма выражал убеждение, что Украина является европейской не только по географической принадлежности, но и потому, что украинцы обладают европейской идентичностью, привержены к порядку и закону, хозяйственны и экономны. «Для Украины он (европейский выбор) полностью органичен, это ее цивилизационный выбор, сделанный в глубокой древности и, как говорится, никогда никем не отмененный», - резюмировал украинский президент, замечая при этом, что «мотивы России не столь очевидны, поскольку ей куда менее присуще чувство принадлежности к Европе» [Кучма 2003: 510]. Историки украинского национализма отмечают, что он первоначально формировался в русле европейских тенденций. Неудивительно, что европейскую ориентацию ранее всех в независимой Украине стали демонстрировать представители националистических движений, таких как «Рух» и партия «Свобода»; они заявляли, что «украинцы - европейский народ», декларировали европейскую цивилизационную принадлежность Украины, обосновывая этим требование к государству «сделать решительный шаг по пути европейской и трансатлантической интеграции». «Украина уже сейчас должна подать заявку на вхождение в НАТО» и вообще стремится «активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с НАТО, интегрироваться в политические структуры НАТО»[117]. «Нельзя не замечать, что украинское общество взрослеет, консолидируется, как в самооценке, так и в представлениях о своем будущем», - справедливо утверждает В.И. Мироненко, характеризуя украинский транзит [Мироненко 2020]. Он так описывает сложившийся исторический нарратив в Украине: государство предстает путеводной звездой, которая появляется в средние века, исчезает в политической раздробленности XII в., тлеет «торфяным пожаром» в раннем Новом времени, восстает в XVII из огня освободительной войны, как птица Феникс, «и исчезает, поглощаемое двумя империями» [Мироненко 2020: 22]. Из множества аудиовизуальных источников, дающих представление о самооценке украинским обществом своего прошлого, особый интерес представляют материалы записи публичной лекции Алексея Миллера в Одессе в 2011 г.[118] Материалы были выложены в 2015 г. и важны не только лекционным материалом, представленным Миллером, но и реакцией аудитории, которая задавала вопросы, высказывала суждения, давала оценки. Когда Алексей Миллер доказывал отсутствие национальной идентичности в Российской империи в середине XIX в., а представления украинцев о Киевской Руси, «золотом веке» казачества и т.п. относил к категории исторических мифов, то реакция слушателей была болезненной. Выступая в Одессе в 2011 г., лектор как опытный спикер начал обращение к аудитории со ссылки на отзыв одного из слушателей на прочитанный Миллером в Киево-Могилянской академии курс. Слушатель курса сказал о лекторе: «Говорит он логично, но слушать его уж очень противно (дюже погано)». Аудитория в Одессе слушала Миллера внимательно, вопросы задавала вдумчиво и без агрессии, но после реплики одной из присутствующих «Просто Вы не знаете Украину!» разразилась бурными аплодисментами[119]. Очевидно, что это была реакция на попытку лектора подвергнуть сомнению ментальное пространство слушателей, сложившийся социальный хронотоп, указывая, в частности, на региональные различия в идентичности, ценностях, геополитической ориентации. Внутренние противоречия хронотопа Усилия украинской политической и интеллектуальной элиты давали свой эффект в формировании и укреплении социального хронотопа, в котором прошлое, настоящее и будущее выстроено и концептуализировано применительно к новой пространственной организации страны. Правда, в этом хронотопе изначально возникала проблема его «раздвоения» на восточный и западный сегменты. часть украинского общества не была готова принимать такую версию истории и идентичности, не согласна с ориентацией Украины на Европу против России, считала необходимым сохранить и защищать русский язык и русскую культуру. И пространственно эта часть была сосредоточена на востоке Украины. В описываемой Г. Касьяновым акции «живая цепь», организованной «Рухом» в 1990 г. для демонстрации единства украинцев в стремлении независимости от России, не удалось вывести на улицы достаточное количество людей в восточной части республики, в силу чего «живую цепь» пришлось укоротить» [Касьянов 2007]. Кучма упоминал о специфике Западной Украины: «Моя «политкорректность» бунтует, когда говорят так: Западная Украина дорога для всей Украины больше всего потому, что она никогда не была в составе России. Не только тактичнее, но и точнее, по-моему, говорить так: дорога тем, что всегда была частью Запада, частью Центральной Европы. Это не одно и то же» [Кучма 2003: 60]. «Вкладывая всю свою энергию в создание новых национальных символов - флага, гимна, государственного герба и т.д., - первое правительство независимой Украины столкнулось с резким неприятием на Юго-Востоке страны, в ее промышленных регионах», - отмечает О. Байша. Сетования были такого рода: «Уже два года идут споры о цвете флага. Дом рушится, крыша горит, но депутаты думают, как назвать здание, которое будет построено в будущем» [Байша 2021: 41]. Майдан 2004 г., «Оранжевая революция», обозначила европейский и евроатлантический вектор внешней политики Украины. Украинский политолог М.Б. Погребинский считает, что «для В. Ющенко европейский выбор, выбор геополитический и цивилизационный - базисный элемент национальной идеи, призванной обеспечить создание суверенного украинского национального государства» [Погребинский 2005]. При этом за скобками оставалось то обстоятельство, что близость ряда ценностных установок украинцев не к жителям ЕС, а к жителям России неизменно показывало Европейское социальное исследование (ESS) - анализ изменения установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы [Слинько 2016]. Хотя в электоральном плане уже в 2004 г. страна разделилась на «оранжевых», поддерживающих Ющенко и европейский вектор развития Украины, и «бело-голубых», выступающих в поддержку Януковича и дружеских отношений с Россией, однако вплоть до 2014 г. решение проблемы востока Украины откладывалось. Согласно данным Центра Разумкова, русскоязычные граждане Украины считали ее своей родиной, оценивали себя как украинских патриотов, не думали о реальной возможности раскола страны по поводу языковых и культурных различий [Kulyk 2016]. Украинские интеллектуалы неоднократно поднимали тему неоднородности Украины[120]. Журналист Сергей Дацюк в статье «Смысл или революция. О роли интеллектуалов в сохранении целостности Украины» писал: «Направьте содержательную свободу на массовое сознание Западной Украины - будет вам „западнический“ смысл Украины. Направьте содержательную свободу на массовое сознание Восточной Украины - будет вам „восточнический“ смысл Украины». Он упрекал и руководство страны, и ее интеллектуальную элиту, что они избегают говорить о смыслах, идут на поводу у партий и формулируют цели: «А если эти цели не воспринимает часть страны, то это просто плохая часть страны»[121]. По его мнению, «только смыслы целой страны позволяют осуществлять изменения во всей стране, а не кромсать ее на части, поддерживающие какие-то частичные смыслы»[122]. «Киев никогда не ставил себе задачу найти адекватный месседж для юго-востока. Киев не умеет разговаривать с юго-востоком», - утверждал художник Александр Ройтбурд, активист Евромайдана-2014[123]. На его взгляд, сложилось непонимание, что «месседж из Киева должен быть одинаково читаем и на западе, и на востоке. Западная Украина пассионарна. Она радикализирует тот месседж, который формирует Киев. Она ставит на повестку дня какие-то свои смыслы и их продавливает… А восточная и южная Украина инерционны. чем отчетливее звучит в Киеве галичанский акцент, тем больше юго-восток дистанцируется и перестает считать Украину своей страной»[124]. Исследования социологов и политологов подтверждают, что различия между двумя версиями идентичности - этнически украинской и восточно-славянской - были заметными. Так, жители Донецка предпочитали относить себя к восточным славянам, тесно сотрудничавшим с Россией [Shulman 2004: 53]. По данным Киевского международного института социологии, более трети жителей юго-востока Украины определяли свою идентичность преимущественно как жителей города (деревни), и лишь на 2-3-е место ставили гражданскую политическую идентичность [Kulyk 2016: 595]. Т. Захарченко указывает на мнение исследователей региона: «Восточные украинцы отказывались принимать не национальную идею, а ее антироссийское наполнение» [Zaharchenko 2012]. Захарченко высказала суждение о том, что настало время для гибких, открытых, динамичных идентичностей, когда желание быть понятым, услышанным и принятым составляет одну из важнейших потребностей человека [Zaharchenko 2012]. Социальный хронотоп в силу сложной структуры может быть внутренне противоречив, но эти противоречия длительное время могут оставаться латентными [Сапрыка 2019: 60]. Проявляются они обычно в период кризисов. Одним из таких острых кризисов стал Евромайдан 2014 г. Переосмысление сложившегося концептуального пространства потребовало бы серьезных усилий, в то время как политический класс Украины испытывал значительное давление со стороны радикальных националистов, и украинские интеллектуалы не смогли предложить никаких новых идей по консолидации пространства, с учетом его разнородности. Не зря журналист Петр Билян упрекал их за то, что они не производят ни идей, ни смыслов, которые легли бы в основание программы: «господа интеллектуалы даром едят свой хлеб»[125]. Политическая элита Украины при президентстве П. Порошенко сосредоточила большие усилия на декоммунизации страны, не принимая во внимание существующие социокультурные расколы. Такие решения, как запрет коммунистической символики, поддержали в 2016 г. 57 % респондентов в Западной Украине, 42 % - в центральных областях, 34 % на востоке и юге страны; признание борцами за независимость ОУН и УПА на западе поддержали 76 %, в центре 46 %, на востоке 26,8 %, на юге - 20,1 % [Касьянов 2019: 211]. Поддержку переименованию городов и улиц высказали 35 % респондентов, из них 63 % в Западной, 32 % в Центральной Украине, 19 % в южных регионах и 18 % в восточных регионах [Касьянов 2019: 212]. В результате проводимой политики законодательно устанавливалась, по определению Г. Касьянова, победа «представлений о прошлом одного сегмента общества в ущерб другим» [Касьянов 2019: 217]. «Новая трактовка истории», по мнению экспертов, оказывает влияние на смысловое пространство, на определение новых друзей и врагов» [Сапрыка 2019: 65]. Политический миф и маргинализация несогласных В ситуации нарастающего противостояния предпочтение было отдано политическому мифу как «идеологически маркированному противостоянию, претендующему на статус истинного представления о событиях прошлого, настоящего и будущего» [Флад 2004: 41]. Для понимания изменения смыслов и трансформации социального хронотопа, на наш взгляд, особенно значимо исследование Ольги Байша. Она сосредоточила свое внимание не на событиях, а на дискурсивном пространстве, для чего провела анализ большого массива публикаций в «Украинской правде», ставшей самой популярной газетой в 2014 г., можно сказать, рупором Евромайдана, а также 430 выступлений политических лидеров, выступавших на Майдане. «Если активисты Евромайдана связывали его значение преимущественно с движением к цивилизации и уходом от России и советского прошлого, то для их оппонентов он стал означать экстремизм, национализм и колониальную зависимость от Запада» [Байша 2021: 44]. По социологическим данным, среди тех, кто принял Евромайдан, видел будущее Украины в связи с Евросоюзом 91 %, а среди не принявших - лишь 10 %. Соответственно, вторая категория связывала свое будущее с Россией и Белоруссией - 66 %, в то время как в первой группе таковых было лишь 27 % [Kulyk 2016: 603]. Это размежевание было идеологически обосновано активистами Евромайдана. Из всех 430 авторов, чьи тексты проанализировала О. Байша, только 11 (3 %) использовали позитивную или нейтральную оценку антимайданных «других». Лишь один человек осмелился прямо писать о том, что насилие использовали не только «титушки», но и радикалы-националисты. Основной лейтмотив лидеров - Майдан - это Украина, анти-Майдан противоречит интересам Украины, пособничает Москве, значит, не может быть отнесен к украинскому политическому сообществу. Несогласных называли «совками», «ватниками», «колорадами». «Ни один из выступающих на Майдане, чьи речи были мною анализированы, не подвергал сомнению эту сконструированную эквивалентность между „народом Украины“ и „народом Майдана“», - отмечает Байша [Байша 2021: 64]. Соответственно, как в публикациях «Украинской правды», так и в речах лидеров звучала идея, что антимайданно настроенных украинцев нельзя считать украинскими гражданами: «они попросту не заслуживали того, чтобы быть частью „украинского народа“, стали своего рода недогражданами [Байша 2021: 65]. Противопоставление происходило по нескольким параметрам: лояльность/ нелояльность Украине; модернизированность vs. архаизм сознания и поведения; ориентация на Европу vs. ориентация на Россию, которая оценивалась уже не просто как «внешний другой», но как оппонент и враг. Это логически выводило на отношение к «Анти-Майдану» как к пророссийскому сепаратизму. Украинская идентичность выстраивалась на противопоставлении Украины России, причем возобладал тот взгляд на Россию, который Кучма в 2003 г. считал неприемлемым: как на «дикую», «деспотическую», «азиатскую» страну, желающую снова свернуть Украину с демократического пути и оторвать, против воли Запада, от остальной Европы» [Кучма 2003: 141] Поддерживающие «такую» Россию не могли называться иначе, чем «сепаратисты», «террористы», и такие определения стали доминировать в украинских СМИ. Г. Касьянов акцентирует внимание на том, что применительно к исторической политике используется «язык лозунгов и криков, иногда молебнов и шаманских заклинаний, это язык надписей, независимо от того, где они сделаны - на заборах, транспарантах или страницах законодательных актов» [Касьянов 2019: 271]. Однако новое символическое пространство как пространство идеологического противостояния приводит к тому, что, по определению британского специалиста по Украине Тараса Кусьо, «украинцы, не принявшие Евромайдан, были маргинализированы и стерты с поля политической репрезентации: их мнение, воспринимаемое как мнение «модернизационных лузеров», символически уничтожалось». Сама Байша считает возможным использовать терминологию Джона Хартли применительно к результатам такой политики: происходила «внутренняя колонизация» части населения, исключенной из политического процесса» [Байша 2021: 92]. Если социальный хронотоп связывает пространство, предлагает его концептуализацию, то политический миф, претендуя на целостность взгляда, в то же время может разрывать пространство, вытеснять из него то (и тех), что (и кто) не соответствует идеологическому концепту. Заключение Представляется, что «социальный хронотоп» не случайно перешел из филологии и литературоведения в социальные науки. Это понятие дает возможность соединить разные компоненты для анализа концептуального пространства. Украинский опыт формирования социального хронотопа позволил в ментальном плане соединить историческими, социокультурными, пространственными нитями общество только что провозгласившей независимость страны. Социальный хронотоп по своей природе не может не быть противоречивым, как и все то, что относится к субъективной стороне политического процесса, однако сама по себе противоречивость не угрожает ментальному пространству. Угроза возникает тогда, когда происходящие общественные изменения, политические события, геополитические процессы, политика элит влекут за собой радикальное изменение хронотопа, разрывают его, как это и произошло на Украине, где часть страны и общества оказалась вытесненной сначала из ментального, а затем и из политического пространства. Место социального хронотопа занял политический миф, призвание которого не в соединении пространства, а в его демаркации по линии свой - чужой, друг - враг. Самоидентификация как психологический процесс всегда начинается с определения того, кто эти «Другие». Украина не представляет собой исключения на всем постсоветском пространстве в назначении на роль Другого России. Впрочем, уже и понятие «постсоветское пространство» подвергается критике как категория, которая является связующей между Россией и другими бывшими советскими республиками, чего бы последние хотели избежать. Социальный хронотоп маркировал в 1990-е гг. статус Украины как «не-России», политический миф заменил его в 2004-2014 гг. идентификацией Украины как «анти-России». Ни социальный хронотоп, ни политический миф не могут быть использованы как аналитический инструментарий для анализа всей полноты картины политической и социокультурной жизни Украины после провозглашения независимости. В то же время разработка и имплементация такого рода инструментария позволяет предложить академический фокус не только на институциональных процессах и уточнить научное понимание острых политических коллизий.About the authors
Liubov A. Fadeeva
Perm State University
Author for correspondence.
Email: lafadeeva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3389-750X
Professor of Politics, Political Science Department
Perm, Russian FederationReferences
- Baisha, O. (2021). Discursive fracture of the social field. Lessons from Euromaidan. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. (In Russian).
- Bomsdorf, F., & G. Bordyugov (Eds.). (2009). National histories in the post-Soviet space. Moscow: F. Naumann F. — AIRO-XXI. (In Russian).
- Emelin, V., & Tkhostov, A. (2020). Identity and symbolic chronotope. Moscow. (In Russian).
- Fadeeva, L.A. (2015). Betrayal of intellectuals as a value problem. In A.I. Solovyov (Ed.), Ideas and values in politics. Political Science: Yearbook 2015 (pp. 203–214). Moscow: ROSSPEN. (In Russian).
- Flood, K. (2004). Political myth. Theoretical study. Moscow. (In Russian).
- Fedor, J., Lewis, S., & Zhurzhenko, T. (2018). War and memory in Russia, Ukraine and Belarus. Neprikosnovenny Zapas (NZ), (3), 114–141. (In Russian).
- Kasyanov, G. (2007). Ukraine — 1990: “Fights for history”. New Literature review, (1). Retrieved November, 20, 2022 from: https://magazines.gorky.media/nlo/2007/1/ukraina-1990-boi-zaistoriyu.html (In Russian).
- Kasyanov, G (2019). Ukraine and neighbors: Historical policy. Moscow: New Literary Review. (In Russian).
- Kuchma, L.D. (2003). Ukraine is not Russia. Moscow: Time. (In Russian).
- Miller, A. (2022). National identity in Ukraine: History and politics. Russia in Global Affairs, 20(4), 46–65. http://doi.org/10.31278/1810-6439-2022-20-4-46-65 (In Russian).
- Mironenko, V.I. (2020). Ukrainian transit. Experience in situational analysis. Moscow: Institute of Europe RAS. (In Russian).
- Pogrebinskiy, M. (2005). Orange Revolution. Ukrainian version. Moscow: Europe. (In Russian).
- Pogrebinsky, M.B. (2007). Ukraine without Kuchma. Year of orange power. Kyiv.
- Riabchuk, M. (2016). Ukrainians as Russia’s negative ‘other’ history comes full circle. Communist and Post-Communist Studies, (49), 75–85.
- Slinko, E., & Kubarsky, D. (2016). Russia, Ukraine and European countries: Common and differences in the system of values. Bulletin of Russian nation, (2), 91–119. (In Russian).
- Sapryka, V., Babintsev, V., & Vavilov, A. (2019). Russia and Ukraine: The contradictions of the post-Soviet border chronotopos. Bulletin of Russian nation, (3), 59–69. (In Russian).
- Shulman, S. (2004). The contours of civic and ethnic national identification in Ukraine. EuropaAsia Studies, 56(1), 35–56.
- Zaharchenko, T. (2012). Polyphonic dichotomies: Memory and identity in today’s Ukraine. Democratizatsia, 21(2), 241–269.
Supplementary files