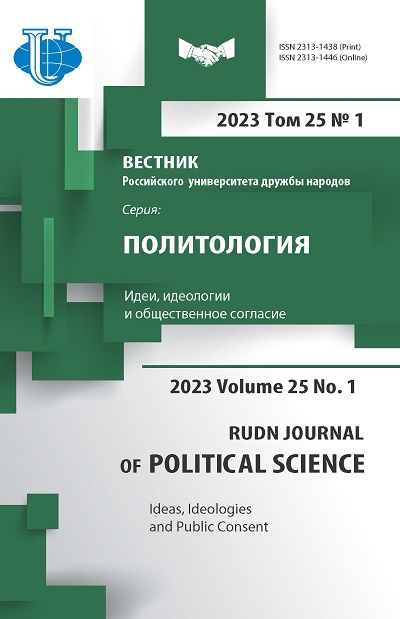«Как нам обустроить Россию»: проблема общественного согласия в дискурсе постсоветской идентичности
- Авторы: Иохим А.Н.1,2, Лагузова М.А.1,2
-
Учреждения:
- Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 25, № 1 (2023): Идеи, идеологии и общественное согласие
- Страницы: 77-96
- Раздел: РОССИЯ МЕЖДУ РАЗДЕЛЕНИЕМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СОГЛАСИЕМ
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/34037
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-1-77-96
- ID: 34037
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Распад Советского Союза, масштабная трансформация политической и социальной структуры в начале 1990-х гг. актуализировали проблему нациестроительства в новом российском государстве. Поиск «национальной идеи» способствовал тому, что за последние тридцать лет в российском официальном дискурсе сменилось несколько доминирующих концепций идентичности: от отрицания советской идентичности и стратегии на сближение с западными демократиями до конструирования великодержавной консервативной идентичности «государства-продолжателя». Центральное место в дискурсе российской идентичности занимает проблема достижения общественного согласия посредством проработки отношения к прошлому, конструирования политических ценностей, определения символических границ политического сообщества. Данное исследование посвящена сравнению представлений об общественном согласии, артикулируемых в рамках ключевых концепций постсоветской идентичности России. Теоретико-методологической основой данного исследования является социально-конструктивистский подход к пониманию социальных феноменов и проблемы макрополитической идентичности. Используемая в данном исследовании методология дискурс-анализа позволяет проанализировать основные концепты, связанные с проблемой общественного согласия, в дискурсе постсоветской идентичности, а также увидеть трансформацию политического языка - языка самоописания политического сообщества, благодаря которому определяются символические границы данного сообщества, идентифицируются «Мы» и «Они», легитимируется та или иная концепция идентичности и транслируются структурообразующие для нее смыслы. Авторы приходят к заключению, что ключевую сложность на пути достижения консенсуса относительно будущей модели идентичности России представлял тот идейно-мировоззренческий раскол, который сформировался уже в период перестройки. При этом, как показано, наиболее жизнеспособная модель общественного согласия была выработана в рамках консервативного дискурса идентичности, в основе которой лежат нарратив «государства-продолжателя» и патриотизм как консолидирующая политическая ценность.
Ключевые слова
Полный текст
Введение За тридцать лет постсоветской истории в России не только произошла масштабная трансформация политической системы, социальных отношений, экономических связей, но и сменилось несколько доминирующих концепций макрополитической идентичности. Если в начале 1990-х гг. в политическом дискурсе ключевыми являлись стратегии отрицания советского прошлого и сближения с западными либеральными демократиями, то уже в середине последнего десятилетия ХХ в. руководством страны был анонсирован поиск «национальной идеи», а доминирующими нарративами в дискурсе идентичности последующих десятилетий стали реабилитация советского и имперского прошлого, великодержавная идеологема «государства-продолжателя» и патриотическая консолидация общества. Трансформации дискурса макрополитической идентичности России отвечали запросу на поиск общего «политического языка» в новом демократическом государстве, возникшем после распада СССР, а также тех политических ценностей, которые могли бы стать фундаментом для достижения согласия внутри российского общества. Постсоветский опыт российского нациестроительства представляет собой наглядный кейс дискурсивной конкуренции за определение и утверждение концепции макрополитической идентичности. Этот процесс идет уже не первое десятилетие и идет сложно: он сопровождается периодической актуализацией дискуссий о необходимости национальной идеологии и поиска национальной идеи, пересмотром оценок исторического прошлого и проектов будущего. В этой связи представляется крайне актуальным исследование эволюции идей, призванных обеспечить консолидацию российского общества и транслируемых в рамках постсоветского дискурса российской идентичности. Современный масштабный кризис, сопровождающийся беспрецедентным давлением на Российскую Федерацию со стороны коллективного Запада и политикой откровенной русофобии, выдвигает вопрос о достижении и сохранении согласия внутри российского общества на первый план. Конструктивисты вслед за Б. Андерсеном трактуют ее в качестве «воображаемого сообщества» [Андерсон 2001]. Идентичность, с позиции социального конструктивизма, является продуктом взаимодействия членов политического сообщества, она формируется и трансформируется посредством публичных символических / дискурсивных практик, в борьбе которых устанавливается то, что М. Фуко обозначает как «режим истины» [Foucault 1972]. Модель макрополитической идентичности России, возникшая в начале 1990-х гг. после распада Советского Союза, опиралась на идею демократии, а точнее - либерально-демократическую модель западного образца. В условиях деградации политических и государственных институтов, разрыва прежних социально-экономических связей и низкого уровня жизни большинства граждан России эффективность данной модели идентичности напрямую зависела от успеха либеральных политических и экономических реформ, осуществляемых руководством страны. Неспособность реформаторов решить наиболее острые социальные задачи приводила к разочарованию подавляющей части общества в самой демократической модели. Характерно, как справедливо отмечает О.Ю. Малинова, что одним из ключевых факторов неудачи проводимых в 1990-е гг. преобразований руководство страны считало «издержки» той же демократии [Малинова 2010: 21]. Так, причиной «пробуксовки» объявлялся «дефицит доверия» со стороны граждан[42]. Демократическая модель идентичности, транслировавшаяся в официальном политическом дискурсе первой половины 1990-х гг., предполагала идеологический нейтралитет государства, а статья 13 Конституции РФ исключала возможность государства выступать активным субъектом на поле идеологической борьбы. Существенная трансформация политики идентичности постсоветской России происходит уже в начале второго президентского срока Б.Н. Ельцина, когда в 1996 г. он анонсирует работу по формированию новой национальной идеи, задача которой заключалась в поиске консолидирующих ценностей и устранении «дефицита доверия» в обществе. Однако в 1990-е гг. разработки новой макрополитической идентичности, инициированные «сверху», не увенчались успехом: необходимый консенсус так и не был достигнут. Американский политолог М. Урбан отмечает, что, несмотря на то, что коммунистический, патриотический, демократический и государственнический дискурсы российской идентичности «имеют структурное сходство» и «общую цель - сформулировать эксплицитно идею сообщества и превратить ее в государственную идеологию», острота конфликта вокруг содержания данной «идеологии» так и оставалась очень высокой [Urban 1998: 985]. Указанные идеологические размежевания стали одной из ключевых проблем на пути достижения согласия по вопросу концептуального и ценностного содержания новой идентичности постсоветской России или того, что Ельцин обозначил как «национальную идею». «…Идеологические расколы, сложившиеся в годы Перестройки и углубившиеся с началом реформ, - пишет О.Ю. Малинова, - затрудняли политическое самоопределение российского общества и конструирование моделей коллективной идентификации, способных стимулировать солидарность, перекрывающую неизбежные различия» [Малинова 2010: 11]. Таким образом, именно необходимость устранения «дефицита согласия» в обществе стала ключевым фактором поиска новой консолидирующей макрополитической идентичности. В свою очередь, те идеологические расколы, которые возникли еще на заре формирования новой российской государственности в конце 1980-х - начале 1990-х годов, будут определять направление дискуссий о постсоветской российской идентичности и характер всей политико-идеологической борьбы последних трех десятилетий. «Неозападники» vs. «неославяновилы»: разные пути к согласию Проблема согласия в обществе представляет собой сложный, многогранный феномен, который присутствует в западническом неославянофильском, националистическом, неоевразийском дискурсах идентичности 1990-2000-х гг. Вследствие того, что речь идет о достаточно продолжительном промежутке времени и широком спектре течений, в рамках данной статьи ограничимся обзором установок лишь некоторых авторов, идеологических групп и организаций. При этом следует признать, что причисление к тому или иному идеологическому лагерю, равно как и их классификация, нередко имеет весьма условный характер. Существование перечисленных движений не отличается внутренним единством, нередко их представители по различным вопросам занимают противоположные позиции. В начале 1990-х гг. в России, находящейся в условиях сильнейшего социально-политического и идейного раскола, проблема достижения национального примирения и общественного согласия была чрезвычайно острой. Со стороны властной элиты практическими, хотя и во многом популистскими шагами в этом направлении стали принятие Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ № 65-1 ГД от 23.02.1994 г. «Об объявлении политической и экономической амнистии» и подписание 28.04.1994 г. Договора об общественном согласии. Под действие Постановления подпадали фигуранты уголовных дел, связанных с событиями августовского кризиса 1991 г., участники ГКчП, защитники Верховного Совета РФ в октябре 1993 г., а также лица, привлеченные к ответственности за ряд хозяйственных преступлений. Договор предполагал достижение в стране политической стабильности и гражданского мира, а также конструктивное сотрудничество между основными политическими силами. Документ включал в себя обязательства подписантов не инициировать политических кампаний с целью проведения досрочных, не предусмотренных Конституцией 1993 г. выборов федеральных органов власти; отказ от силовых методов решения конфликтов; принятие мер по преодолению социально-экономического кризиса и укреплению единства экономического, политического и правового пространства РФ; раз витие многонационального российского общества в режиме диалога и др. Однако полного согласия не случилось даже на бумаге. Среди 245 подписантов Договора отсутствовали важные политические силы в лице КПРФ, «Яблока», «Аграрной партии России», «Трудовой России», «Русского национального собора», «Фронта национального спасения» и др. Одним из не подписавших Договор был лидер партии либерально-западнического толка «Яблоко» Г.А. Явлинский. Еще в 1991 г. он с единомышленниками говорил, что для решения проблем, стоявших в переходный момент перед государством, наряду с уже имеющимися политическими институтами были необходимы принципиально новые формы[43]. Такой формой, по их мнению, могла стать политика общественного согласия («ОС»), заключающаяся в организации переговоров главных политических сил по ключевым вопросам текущего и будущего состояния дел в стране, выработке решений, удовлетворяющих большинство из этих сил, и отказе от насилия. При этом допускалось, что органы государственной власти, опирающиеся в этих случаях на широкую общественную поддержку, при необходимости могли оказывать давление на политические силы, бойкотирующие переговоры и использующие насильственные действия. Одновременно подчеркивалось, что имеется в виду не разовая акция, а длительный переговорный процесс с целью укрепить институты представительной демократии и не допустить насильственные формы политической борьбы. Политика «ОС» базировалась на трех основных принципах: 1) констатация участниками переговоров факта «неприемлемости продолжающегося ухудшения ситуации в стране и невозможности преодоления этой тенденции в условиях жесткой политической конфронтации»; 2) признание того, что ни одна из сил не имеет достаточного политического потенциала для самостоятельного вывода страны из кризиса; 3) отказ политических сил от стремления к победе над другими политическими силами, стремление к поиску взаимного компромисса [О политике «Общественного согласия» 1991]. Задачами политики «ОС» признавались решение экономических проблем (межреспубликанские соглашения в рамках экономической политики, договоренность органов исполнительной власти с профсоюзами о взаимных обязательствах, антиинфляционная программа, поддержание обороноспособности страны), урегулирование межнациональных и социальных конфликтов (прекращение вооруженных столкновений, решение проблемы беженцев, роспуск незаконных вооруженных формирований, создание организаций, представляющих интересы различных социальных слоев и профессиональных групп и др.), достижение соглашений о будущем государственном устройстве. Обнаружить концептуальные основы тех нарративов саморепрезентации постсоветской России, которые будут впоследствии ключевыми в дискурсе идентичности периода 1990-х гг., можно уже в советском официальном дискур се 80-х гг. прошлого столетия. На основе политических программ организаторов и сторонников перестройки, советских диссидентов и реформаторов либерального толка в конце 1980-х гг. появляется идеология «нового западничества» - «атлантистская» концепция идентичности. В центре данной концепции - идея «общего европейского дома», которая была артикулирована еще в начале десятилетия в последние «брежневские» годы, однако стала важным элементом советского политического дискурса в «горбачевский» период[44]. В основе западнической модели идентичности лежит представление об «органической», исторически и культурно обусловленной взаимосвязи нашей страны с Европой: «Мы - европейцы. С Европой Древнюю Русь связало христианство… История России - органическая часть европейской истории» [Горбачев 1988: 200]. Характерной чертой этих построений был отказ от прошлого, стремление копировать западные модели, однако пространственная концепция «возвращения» в Европу не имела будущего [Sakwa 2020]. Также одним из основных аспектов «атлантистского» дискурса российской идентичности является акцентирование внимания на универсальных правах человека. В этой связи политический идеал и необходимую «историческую» цель сторонники данной концепции идентичности видели в формировании полноценного правового государства, что, по их мнению, автоматически снимет с повестки проблему социокультурных, исторических или даже «естественных» противоречий между Россией и Европой. Несмотря на попытки сторонников западного пути развития достичь согласия в обществе, их безоглядная ориентация на неолиберальную модель развития, сопровождавшаяся стремительным проведением экономических и политических реформ начала 1990-х гг., стала отправной точкой роста недовольства и постепенного разочарования значительной части населения страны в правильности выбранного направления. Если непосредственно после распада СССР в России круг либеральных (западнических) движений и политических партий был широким и разнообразным («Вперед, Россия!», «Выбор России» - «Демократический выбор России», «Общее дело», Партия экономической свободы, «Правое дело», «Яблоко» и др.), то с течением времени их количество стремительно уменьшалось ввиду низких электоральных рейтингов, что, впрочем, не мешало приверженцам либеральных взглядов присутствовать в органах исполнительной власти. После 2014 г. и в особенности в свете последних событий на Украине возможности для трансляции либерального дискурса с его принципиальным западничеством, в том числе в части проблемы общественного согласия, существенно сократились. В обществе наступило понимание того, что «Россия все дальше и дальше во времени и пространстве старалась казаться не тем, чем является на самом деле» [Маслин 2021: 407]. Социокультурные и политические проекты, выдвигавшиеся в рамках условного «антизападнического» дискурса российской идентичности, так или иначе концептуализировали вопрос об особой исторической миссии России и пороч ности «европеизации» страны. В частности, против идеи «общего европейского дома» выступал А. Солженицын, призывавший в известной работе «Как нам обустроить Россию» не к свободным выборам и многопартийности, а к обретению «духовной ясности»[45]. Уже в 1991-1992 гг. западническая артикуляция стала терять свои доминирующие позиции и вытесняться формирующимся дискурсом великодержавия. Помощник президента РФ С. Станкевич в своей статье 1992 г. назвал спор о месте новой России в мире противоборством «атлантизма» и «евразийства»[46], подчеркивая необходимость возвращения стране статуса великой державы посредством формулирования национальных интересов и отказа от «слепого» дрейфа в направлении западных демократий. Идейное противостояние западничества и славянофильства, основы которого были положены в XIX в., с началом перестройки стало проявляться с новой силой. Но если в 1990-е гг. перевес был на стороне западничества, то в последнее время наблюдается устойчивая тенденция обращения к идеям славянофильства, что было связано с «ростом интереса к национальному аспекту, народным традициям, повышению роли православия в обществе» [Багаева, Жапова 2020: 17]. Приверженцы его постулатов - представители современного консерватизма - предлагают свой, отличный от западнического, путь модернизации страны и достижения общественного согласия. Их устремления направлены на сохранение русской идентичности, общественно-религиозных и культурных отечественных традиций, а также недопущение необдуманного копирования западных образцов. Своеобразным обобщением подобного миропонимания могут служить мысли одного из продолжателей славянофильских традиций и выразителя антизападнических идей В.Г. Распутина: «Национальную идею искать не надо, она лежит на виду. - Это - правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя… Это - покончить с обезьяньим подражательством чужому образу жизни, остановить нашествие уродливой „культуры“, создать порядок, который бы шел по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его»[47]. Идеологические последователи славянофилов в 1990-2000 гг. предпринимали попытки синтеза идей русского патриотизма и собственного пути развития с основными принципами гражданских прав и свобод. Элементы неославянофильства присутствовали в установках ряда политических объединений 1990-х гг., таких как Конгресс русских общин, Общероссийское политическое общественное движение «Социально-патриотическое движение «Держава»», Российское народное собрание, Русский национальный собор, Российское христианское демократическое движение, а также организаций монархической направленности. По мнению ряда исследователей, об объединяющей идее в русле славянофильства говорили В.В. Аксючиц, Л.И. Бородин, С.Ю. Глазьев, Н.А. Нарочницкая, Д.О. Рогозин, А.И. Солженицын, И.Р. Шафаревич и др. «Сегодняшние итоги и задачи, - утверждает Н.А. Нарочницкая, - взывают к чувству национальной солидарности не перед внешним врагом, а для духовно-исторического делания и продолжения исторической жизни… Ибо нация, способная сохранить себя в истории, это не простая сумма индивидов, а преемственно живущий организм с целями и ценностями национального бытия, с общим духом и верой, представлениями о добре и зле, с общими историческими переживаниями. Именно это и делает из народонаселения нацию, способную к творческому историческому акту». И далее заключает: «Нас разделяют символы прошлого, но должны объединить задачи будущего» [Нарочницкая 2005: 72]. Представители неоевразийства, выступающего альтернативой европоцентризму, акцентируют внимание на необходимости единства славянских и тюркских народов в обновленном формате, ориентации на Восток, сближении с КНР, критике западнических и либеральных идей. Позиции его приверженцев (Э.А. Баграмова, Л.Н. Гумилева, А.Г. Дугина, Н.А. Назарбаева, А.С. Панарина, В.Я. Пащенко, В.Л. Цымбурского и др.) во многом различны, равно как и различна оценка их воззрений обществом, политиками и научным сообществом. Например, в отличие от Н.А. Назарбаева, видевшего в основе интеграционных процессов евразийского пространства экономику, А.С. Панарин считал важнейшим консолидирующим началом постсоветского пространства духовное единение: «Евразийскому пространству, бесспорно, нужны кропотливые организаторы и работники, предприниматели и эксперты… Но никак не меньше ему нужны пламенные носители Веры и Смысла, ибо только взятое в духовном измерении оно обретает единство, притягательность и центростремительный потенциал. Никакие другие формы интеграции не могут дать надежного результата без духовной интеграции…» [Панарин 1999: 119]. Одновременно в основе Евразийского союза должны лежать «евразийские ценности, или два крупных „духовных текста“: православно-византийский и исламский» [Панарин 2002: 251]. Согласно теории А.С. Панарина, «христианский текст, ослаблен „большевистским погромом“ и обладает слабым интегративным потенциалом. Именно союз христианства и ислама поможет скрепить единство евразийской цивилизации… речь идет не о теократии или новой идеологии, а именно о духовной интеграции народов Евразии» [Панарин 1999: 253]. Вместе с этим основой союза государства и народа он считал не общественный договор, а веру как одну из самых ценных благ русского человека. А.Г. Дугин активно продвигает идеологию евразийства, видя в ней единственную возможность объединения российского общества вокруг национальной идеи и гаранта безопасности в стратегическом, цивилизационном и политическом смыслах. В числе прочего, по его мнению, евразийская интеграция должна быть построена на основе межконфессионального, прежде всего христианско-исламского, диалога. Понимая, что догматические различия религий непреодолимы, А.Г. Дугин призывает не к слиянию, а к стратегическому альянсу традиций. Основой диалога должна стать общность интересов всех традиций перед угрозой глобальной секуляризации и возможного отказа от религиозности. В отсутствие общего врага существует высокая вероятность возникновения межрелигиозных противоречий, а при его наличии религии получают новую основу для союзничества. В таком союзничестве, считает А.Г. Дугин, и состоит смысл евразийства. Вместе с тем «для сохранения России, Евразии и русского народа» в условиях противостояния «с геополитическим и цивилизационным противником» он ставит «вопрос о создании новой идеологии как четвертой политической теории» [Некрасов 2022: 64]. Среди других его предложений - расширение кампании по пресечению способствующей дестабилизации общества деятельности «пятой» и особенно «шестой» колонны, под которой он понимает либералов-западников, занимающих высокие государственные посты. Эти элиты, «укрепившиеся на верхах общества», все еще «сильны и влиятельны», а в отечественной экономике, образовании, культуре и науке по-прежнему превалируют «либеральные идеи, теории и методы», что способствует дезориентации общества и, как следствие, усилению «внутренних противоречий» [Дугин 2021: 22]. В возрождении правых консервативных традиций в 1990-е гг. большую роль сыграли течения современного русского национализма. Их возникновение было связано, в первую очередь, с распадом СССР и радикальной критикой возникшего после него политического и экономического порядка. Движения националистического толка, представлявшие собой многообразие идей и смыслов ленинско-сталинской идеологии, русского патриотизма и социализма 1930-1950-х гг., были представлены внушительным диапазоном персоналий: от писателей и философов до представителей андеграундного искусства. Националистические настроения присутствовали в риторике общественных объединений и партий («Великая Россия», КПРФ, ЛДПР, Национал-большевистская партия, Национально-патриотический фронт «Память», «Народный союз», «Союз офицеров», «Фронт национального спасения», «Родина» и др.), представителей субкультуры (скинхеды) и отдельных авторов. Так, в программных документах ЛДПР русский вопрос всегда занимал важное место - партия предлагала имперский национализм, опирающийся на государственное начало. Отвергая этнический национализм, ее представители во главе с В.В. Жириновским признавали приоритет русской культуры без ущемления прав представителей других национальностей и конфессий. Все граждане, согласно позиции партии, являются «своими людьми», если они патриоты России и уважают русский язык и культуру. Выразителем имперского направления современного национал-патриотизма можно считать писателя, общественного и политического деятеля А.А. Проханова. Еще за месяц до августовского путча 1991 г. он с соратниками выпустил обращение к соотечественникам и армии «Слово к народу», где призвал всех к объединению, чтобы не допустить распада государства и экономики, предотвратить возникновение межнациональной розни и гражданской войны, содействовать укреплению советской власти и превратить ее в действительно народную, а не в источник доходов для нуворишей. В последние годы им предпринимается попытка создания всероссийского движения «Русская мечта», которое призвано объединить творческих людей, ученых и т.д. с целью выявления единой миссии регионов России, ее народов, культур и верований, сплотившихся в едином государстве. Русская мечта государства складывается из «мечтаний» отдельных русских земель и областей. Это «философия, основанная на понимании исторических кодов», складывающихся из «кодов русского чуда», «представления о России как о душе мира», из «упования на общее дело», когда победа - не достижение отдельного человека, а «достижение всего народа» [Проханов 2020: 4]. Сильное государство как основа общественного согласия Нарратив «великой державы» становится определяющим в дискурсе российской идентичности во второй половине последнего десятилетия XX в. Так, в 1999 г. идентичность России как государства-продолжателя подвергается закреплению посредством радикальной секьюритизации: дискурсивные практики безопасности, конструирующие и воспроизводящие образ «Другого-Врага», способствуют единению общества перед лицом этого «Врага» и вытеснению за пределы коллективной идентичности альтернативных репрезентаций. Официальные интерпретации событий в Югославии еще больше усилили разочарование российских граждан в попытках обустроить страну по либерально-демократическому проекту. В своей программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» В. Путин артикулирует великодержавный нарратив государства-преемника как единственный вариант консолидации различных проектов российской идентичности и как возможность для модернизации: «У нас государство, его институты и структуры всегда играли исключительно важную роль в жизни страны, народа. Крепкое государство для россиянина не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен»[48]. Путин стремится обеспечить консенсус основных политических сил страны за счет согласования разных и взаимоисключающих темпоральных идентичностей России через идею «крепкой государственности». Поэтому он не отказывается от стратегии европеизации и демократизации страны, однако подчеркивает, что «действительно успешное, но сопряженное с чрезмерными издержками обновление нашей Родины не может быть достигнуто просто переносом на российскую почву абстрактных моделей и схем, почерпнутых из зарубежных источников»: вместо «механического копирования» чужого опыта Россия «обязана искать свой путь обновления». Идеи «крепкой государственности» и «особого пути» развития России как «государства-продолжателя» являются узловыми точками доминантного дискурса великодержавной идентичности, сформировавшегося после вступления В. Путина в должность президента. Относительно этих узловых точек конструируется смысловая матрица официальной репрезентации России во внешнем мире и получают содержательное наполнение изначально «пустые», т.е. деполитизированные, понятия «демократия», «национальная идея», «свобода», «справедливость», «права человека» и т.п. Будучи подчеркнуто консервативным по своим ценностно-идеологическим параметрам, дискурс российской идентичности 2000-х - начала 2010-х гг. представляет собой практику артикуляции, направленную на конституирование политической общности как внутренне непротиворечивой структуры посредством определения границ сообщества, вытеснения альтернативных интерпретаций и устранения его дискурсивных дислокаций. Следствием такой практики становится аккумулирование частных нарративов вокруг коллективной идентичности «Мы - Свои» и их разграничение с идентичностями «Они - чужие». В. Морозов называет практику репрезентации России, сложившуюся в 1999 г. - в период косовских событий - и закрепившуюся в официальной риторике 2000-х гг., «романтическим реализмом». В его основе лежит механизм конструирования сообщества как нации, в котором коллективная идентичность «Мы» осмысляется и интерпретируется через отношение к государству и, что самое главное, от его имени [Морозов 2009: 358-359]. А. Цыганков в этом отношении совершенно справедливо характеризует внешнеполитический курс России после 2001 г. как «великодержавный прагматизм» [Tsygankov 2006: 127- 166], в контексте которого прагматическая аргументация официальной риторики сводится к деполитизированным и деидеологизированным национальным интересам, обретающим ценностное содержание в артикуляции задач и стратегий государственной власти. Великодержавный дискурс секьюритизирует партикулярную идентичность, воспроизводя антагонизм с внешним миром и вытесняя за пределы сообщества «универсальную» альтернативу, которая репрезентируется как политико-идеологическая концепция западного «Другого». С. Прозоров подчеркивает, что консерватизм периода президентства Путина трактует свободу «скорее не как атрибут индивида, а как характеристику политического сообщества» [Prozorov 2005: 128]. Здесь обнаруживается определенная приверженность постсоветского великодержавного нарратива идеям славянофильства и евразийства: индивидуальное приобретает свое значение и экзистенциальный статус через причастность к органическому - «соборному» - единству в образе России. «Романтический реализм», таким образом, наделяет «политическое сообщество» (цивилизационное образование) интенциональностью, конструируя, согласно Л. Ионину, идеологию «консервативной геополитики», исключающей то или иное универсальное измерение человеческой идентичности, характерное для идеологии «прогрессивного глобализма». В постструктуралистской теории консервативный дискурс российской идентичности может быть понят в категориях «археполитики» (С. Жижек) и «популистской политики» (Э. Лаклау, Ш. Муфф). Если первая представляет собой «коммунитаристскую» попытку определить традиционное, закрытое и органически структурированное гомогенное социальное пространство, исключающее пустоту, в которой может обнаружиться политический момент-событие» [Zizek 1999: 29], то «популистская политика» также стремится к консолидации общности в политическом пространстве, которое не допускает возникновения демократической политики. Российский великодержавный дискурс «государства-продолжателя» 2000-х гг. конструируется через непрерывную связь советской темпоральности и постсоветской российской идентичности. В этих практиках особую роль играет дискурс о Великой Отечественной войне и Победе 1945 г. Он, выражаясь постструктуралистским языком, формирует «узловые точки» и «цепочки эквивалентности» [Laclau, Mouffe 1985] символической сферы российской политики: через концепты «Великая Отечественная война» и «Великая Победа» в публичном дискурсе определяются такие ключевые для концепции идентичности понятия, как «патриотизм», «свобода», «национальные интересы», «национальная гордость» и многие другие. Память о войне и культ военных побед занимают особое место в практиках конструирования коллективных идентичностей. У. Хедетовт подчеркивает, что ментальность войны может лежать в основе нациестроительства, поскольку в коллективной памяти война не только является моментом единения государства и общества, но и тесно связана с понятием суверенитета, который отстаивается, завоевывается или утрачивается в ходе войны [Hedetoft 1993]. В этом отношении трудно переоценить значение героического нарратива Великой Отечественной войны для формирования национально-государственной идентичности современной России [Гудков 2005]. Победа 1945 г. является сегодня фактически единственной позитивной опорной точкой национального самосознания в постсоветском обществе. Дискурс о Победе не только «примиряет» россиян с советским прошлым и потерянной советской идентичностью, но также конструирует державное сознание и систему ценностных установок. Социолог Л. Гудков в этой связи отмечает, что память о войне связана с «двумя планами национальных состояний»: с одной стороны, это государственно-патриотический энтузиазм и мобилизация, а с другой - ценностная установка на стабильность и порядок [Гудков 2004]. Переложение деидеологизированной идентичности «государства-продолжателя» на современный великодержавный нарратив уже в 2000-е гг. возродило характерные для советской внешней политики американоцентризм и западоцентризм в целом. Результатом этих процессов становится тенденция к отрицанию универсалистских ценностей и норм, прочно ассоциирующихся с Западом, в том числе демократии, прав человека и политического плюрализма, а также проецирование образа внешнего врага на внутреннее политическое пространство через дискредитацию и протестных объединений как проводников «западных» интересов. Консервативно-мобилизационный дискурс идентичности и патриотическая консолидация общества Дискурс идентичности 2012-2022 гг. можно обозначить как консервативно-мобилизационный. В его основе лежит ясное представление об «угрозах» и «врагах» России, а также посыл к идеологической консолидации политического сообщества вокруг актуальных опасностей. Выступая на X Международном дискуссионном форуме «Валдай», В. Путин заявил: «При всей разнице наших взглядов, дискуссия об идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников. Патриотизма, конечно, в самом чистом значении этого слова… Нам всем: и так называемым неославянофилам, и неозападникам, государственникам и так называемым либералам - всему обществу предстоит совместно работать над формированием общих целей развития»[49]. Период с начала третьего президентского срока В. Путина по сегодняшний день можно охарактеризовать как реставрацию и последующее закрепление охранительного дискурса великодержавной идентичности, что во многом стало реакцией на массовые протесты в Москве и крупных городах России в 2011- 2012 гг. и на антироссийскую санкционную политику Запада после включения Крыма в состав РФ. По мнению М. Блэкберна из Уппсальского университета, начиная с 2012 г. в России в качестве официальной макрополитической идентичности воспроизводится концепция России как «государства-цивилизации», которая, по сути, отождествляет понятия «нации» и «государства» [Blackburn 2021]. Если дискурс 2000-х гг. являл своего рода попытку «реакционной модернизации» российской идентичности путем оспаривания либерально-универсалистской гегемонии и ее базовых концептов - «демократии» и «прав человека», то последующий поворот ознаменовался доминированием консервативной риторики и апелляцией к духовным и традиционным ценностям, не имеющим, впрочем, однозначной содержательной трактовки, однако фиксирующих четкую антизападную и антиуниверсалистскую направленность. В середине 2010-х гг. в российском политическом дискурсе доминирующей концепцией идентичности становится консервативно-мобилизационная модель, центральной политической ценностью является патриотизм. Современные зарубежные исследователи в этой связи предлагают говорить о состоявшемся в третий президентский срок В. Путина «патриотическом повороте» [Kratochvíl, Shakhanova 2020] и формировании в современной России такого феномена, как «повседневный патриотизм» [Goode 2018]. Так, к примеру, и В. Путин в 2016 г. впервые очень четко назвал суть национальной идеи современной России: «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо»[50]. Одним из основополагающих явлений в массовом политическом сознании россиян последнего десятилетия стал так называемый «Крымский консенсус». В узком смысле слова данное понятие обозначает единство мнений, суждений и взаимное согласие россиян относительно вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Во втором, широком значении, Крымский консенсус - это согласие граждан страны относительно возникших после возвращения Крыма новых целей и ценностей общества; сплочение россиян вокруг Президента и осуществляемого им политического курса [Абрамов 2019]. Согласно результатам проведенного ВЦИОМ в апреле 2014 г. опроса общественного мнения: 96 % россиян оценили решение о принятии Крыма в состав Российской Федерации как правильное. При этом важно, что такое решение стало действительно единодушным. Его поддержали представители всех социальных групп российского общества: и жители городов-миллионников (98 %), и селяне (95 %), и молодежь (96 %), и люди преклонного возраста (97 %), и сторонники «Единой России» (97 %), и КПРФ (99 %)[51]. На еще один любопытный аспект Крымского консенсуса обратил внимание А.Б. Шатилов: присоединение Крыма способствовало формированию внутриэлитного консенсуса: решение властей поддержали не только «силовики» и чиновники (что традиционно), но и значительная часть представителей российской интеллектуальной и бизнес-среды, причем как «патриотического» и «центристского», так и «либерального» ее крыла. Нынешний консервативно-мобилизационный дискурс идентичности предстает подчеркнуто премодерным. Для него характерно воспроизводство геополитических концептов, в том числе сакрализация территорий («для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение»[52][53]), и традиционалистская этнонационалистическая риторика: «Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как „цветущая сложность“, как государство-цивилизация, скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, Русской православной церковью и другими традиционными религиями России»[54]; «русский - это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий православное христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа»[55]. Своего рода кульминацией утверждения в официальном дискурсе патриотизма в качестве ключевой ценности современной российской нации стало придание ему конституционного статуса в 2020 г. Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»[56]. Среди поправок к Конституции РФ 2020 г. вопросам формирования национальной идеи и патриотизма уделено большое внимание [см. подробнее: Бредихин 2021]. Таким образом, в начале 2020-х гг. патриотическая консервативная идентичность не только воспроизводится в официальном дискурсе как предпочтительная модель консолидации и достижения согласия в обществе, но и получает свое концептуальное и нормативное оформление. В современной версии российской Конституции особое внимание уделяется гражданской идентификации граждан с самобытной российской цивилизацией и культурой, а также патриотизму и гордости граждан за историческое прошлое России. Заключение Проблема общественного согласия и способы его достижения являются системообразующими нарративами ключевых концепций постсоветской идентичности России, артикулируемых как в рамках официального политического дискурса, так и в контексте идеологической борьбы различных политических сил. Более того, необходимость устранения «дефицита согласия» и стала в 1990-е гг. отправной точкой поиска «национальной идеи» и новой макрополитической идентичности, которая могла бы выполнить консолидирующую миссию вместо «деидеологизированной» и дискредитировавшей себя в массовом политическом сознании «либерально-демократической» идентичности. Ключевую сложность на пути достижения консенсуса относительно будущей модели идентичности представлял тот идейно-мировоззренческий раскол, который сформировался уже в период перестройки и по своему содержанию воспроизводил «традиционную» для российского политического сознания дихотомию: «западники» / «славянофилы», «атлантизм» / «евразийство», «неозападники» / «неославянофилы». Наиболее жизнеспособная модель общественного согласия была выработана в рамках консервативного дискурса идентичности, в основе которой лежат нарратив «государства-продолжателя» и патриотизм как консолидирующая политическая ценность.Об авторах
Андрей Николаевич Иохим
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: andrey.iokhim@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8125-6363
кандидат политических наук, научный сотрудник ФГБУН ФНИСЦ РАН, научный сотрудник факультета политологии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская ФедерацияМария Андреевна Лагузова
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: laguzova@bk.ru
ORCID iD: 0000-0003-1507-1883
младший научный сотрудник ФГБУН ФНИСЦ РАН, аспирант факультета политологии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Абрамов А.В. Крымский консенсус как феномен российского политического сознания // Пятилетие воссоединения Крыма с Россией: итоги и перспективы: сб. научных статей по материалам шестой Международной научно-практической конференции / под ред. А.А. Вилкова. Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 3-9
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.
- Багаева К.А., Жапова Н.А. Западничество и славянофильство: двести лет спустя // Евразийство и мир. 2020. № 1. С. 16-21.
- Бредихин А.Л. Концепция национальной идеи в поправках к Конституции РФ 2020 г. // Экономика. Социология. Право. 2021. № 1 (21). С. 70-73.
- Бредихин А.Л. Национальная идея: государственно-правовой аспект // Государственная власть и местное самоуправление. 2021. № 3. С. 18-21.
- Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М.: Политиздат, 1988.
- Гудков Л.Д. Память о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3. С. 46-57.
- Гудков Л.Д. Структура и характер национальной идентичности России // Полит.ру. 2004. 5 апреля. URL: https://polit.ru/article/2004/04/05/national_identity/#_ftnref8
- Дробижева Л.М. Российская идентичность: поиски определения и динамика распространения // Социологические исследования. 2020. № 8. С. 37-50
- Дугин А.Г. Манифест великого пробуждения // Общественно-политический журнал «Изборский клуб». 2021. № 5 (91). С. 4-23
- Лутовинов В.И. Национальная идея и стратегия национальной безопасности России как основа ее развития в XXI веке // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2021. № 3 (29). С. 34-37
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза: Политэкс. 2010. Т. 6. № 1. С. 5-28
- Маслин М.А. Национальная идея в контексте национальной безопасности России // Философия политики и права. 2022. № 13. С. 109-126
- Маслин М.А. Национальная идея как фундамент обеспечения и укрепления национальной безопасности России // Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации: сборник материалов круглого стола (25 августа 2021 г.); ВАГШ ВС РФ. М.: Издательский дом «ИМЦ», 2021
- Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М.: Новое литературное обозрение, 2009
- Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005
- Некрасов С.Н. Геополитика, православие, евразийство в концепциях А.Г. Дугина и проект четвертой политической теории // Научные исследования 2022: сборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2022. С. 64-67
- Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. М.: Книжный дом «Университет», 1999.
- Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002.
- Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М.: Издательство Московского университета, 1999.
- Проханов А.А. Коды Русской мечты // Общественно-политический журнал «Изборский клуб». 2020. № 10 (86). С. 3-4.
- Торбаков И.Б. «Непредсказуемое» или «неопределенное» прошлое? Международные отношения и российская историческая политика // Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / отв. ред. О.Ю. Малинова. М.: РАН ИНИОН, 2012. С. 91-125
- Blackburn M. Mainstream Russian Nationalism and the “State-Civilization” Identity: Perspectives from Below // Nationalities Papers. 2021. Vol. 49, no. 1. P. 89-107
- Foucault M. The Archeology of Knowledge. L.: Routledge, 1972
- Goode J.P. Everyday patriotism and ethnicity in today’s Russia // Russia before and after Crimea: Nationalism and Identity / ed. by P. Kolstø, H. Blakkisrud, 2010-17. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018. P. 258-281
- Hedetoft U. National Identity and Mentality of War in Three EC Countries // Journal of Peace Research. 1993. Vol. 30, no. 3. P. 281-300.
- Kratochvíl P., Shakhanova G. The patriotic turn and re-building Russia’s historical memory: Resisting the west, leading the post-soviet east? // Problems of Post-Communism. 2020. No. 68 (5). P. 1-13.
- Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialistic Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.
- Prozorov S. Russian Conservatism in the Putin Presidency: The Dispersion of a Hegemonic Discourse // Journal of Political Ideologies. 2005. Vol. 10, no. 2. P. 121-143.
- Sakwa R. 1989 as a mimetic revolution: Russia and the challenge of post-communism // Social Science Information. September 2020. Vol. 59, no. 3. P. 439-458.
- Teper Y. Kremlin’s Post-2012 National Policies: Encountering the Merits and Perils of Identity-Based Social Contract // Russia before and after Crimea: Nationalism and Identity / ed. by P. Kolstø, H. Blakkisrud, 2010-17. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018. P. 68-92.
- Tsygankov A.P. Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006
- Urban M. Remythologizing the Russian State // Europe-Asia Studies. 1998. Vol. 50, no. 6. Р. 969-992
- Zizek S. Carl Smitt and the Age of Post-Politics // The Challenge of Carl Schmitt / ed. by C. Mouffe. L.: Verso, 1999
Дополнительные файлы