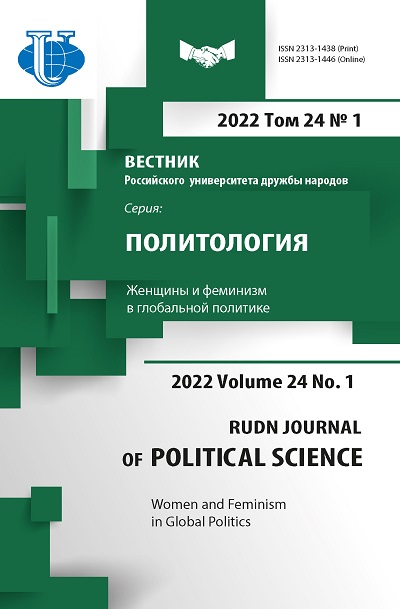«Хрупкое представительство», или Женщины в большой политике: случай административной элиты
- Авторы: Колесник Н.В.1
-
Учреждения:
- Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 24, № 1 (2022): Женщины и феминизм в глобальной политике
- Страницы: 107-119
- Раздел: ЖЕНЩИНЫ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ: УЧАСТИЕ И КВОТИРОВАНИЕ
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/30318
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2022-24-1-107-119
- ID: 30318
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе представлены результаты эмпирического исследования административной элиты десяти российских регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Костромская и Новосибирская области, Хабаровский и Ставропольский край, Республика Дагестан). Анализ социально-демографических характеристик административной элиты показал, что существенных различий по возрасту, месту рождения, типу и месту полученного первого высшего образования (и последующего) между мужчинами и женщинами практически не наблюдается. Исследование карьерных траекторий женщин в министерской элите показало, что чаще всего они занимают элитные позиции, как и мужчины, в среднем возрасте, реже приходят из экономических и силовых структур, горизонтальные и вертикальные перемещения в большинстве случаев осуществляют в рамках одной профессиональной институции - органов исполнительной власти. В работе были выделены региональные правительства со схожими гендерными характеристиками (относительного гендерного паритета и относительного гендерного дисбаланса). В ходе исследования выявлено, что в приграничных и экономически успешных регионах формируются более феминизированные правительства, а режим гендерного дисбаланса в правительстве чаще всего характерен для экономически зависимых регионов и тех, что расположены на юге РФ (за некоторым исключением).
Ключевые слова
Полный текст
Вводные замечания Вопросы «феминизации» административной элиты оказываются крайне важными для понимания не только процесса трансформации власти, но и векторов развития российского общества в условиях нестабильности политического, экономического, социального порядков. В этой связи научную проблему представляет не только изучение процесса гендерной представленности в данном сегменте власти, но и прояснение самого концепта «административная элита». В научной литературе, как в зарубежной, так и в российской, существует некоторая тенденция к тому, чтобы не дифференцировать политический и административный (исполнительный) сегмент власти. Почему так происходит? На эту проблему обращает внимание итальянский ученый Л. Верзичелли, который отмечает, что в науке существуют некоторые трудности с дефинициями «политическая» и «административная» элита. Так, по мнению исследователя, крайне сложно определиться с тем, кто такая административная элита. Трудности с наполнением данного сегмента власти связаны с тем, что может существовать один и тот же набор должностей, но при этом не учитываться национальный контекст и историческое время, которые неизбежно влияют на определение такой «узкой группы индивидов», как административная элита [Verzichelli 2018]. Не менее важной проблемой является вопрос о том, включать ли в пул административной элиты лиц, которые участвуют в процессе принятия решений, но формально не занимают высшие позиции в административной власти (например, отдельные категории государственных служащих, советники и др.) [Verzichelli 2018:364]. В более поздний период изучения административной элиты получают распространение работы, в которых основной фокус сосредоточен на том, как измерить значимость каждого министерского поста, выявить границы исполнительной власти [Druckmann, Warwick 2005]. Особое звучание в дискуссии по «министерской элите» получили такие вопросы для исследований, как измерение парламентского опыта и партийной принадлежности министров, особенности конституционного устройства страны и его влияния на формирование кабинета министров. Если исследователь Д. Брайт [Bright, Doering, Little 2015] анализирует факторы, которые определяют и влияют на министерские карьеры, то ученый К. Пинто и его коллеги [Costa Pinto, Cotta, Tavares de Almeida 2017] в своей работе рассматривают такой феномен, как министры-технократы. Что же касается процесса феминизации административной элиты, то как в зарубежных, так и российских исследованиях данная проблема слабо артикулирована [cм. Айвазова 2012; Овчарова 2007; Попова 2013; Тартаковская 2015; Тартаковская 2017; Хасбулатова 2014; Escobar-Lemmon, Taylor-Robinson 2005; Krook, O’Brien 2012; Whitford, Wilkins, Ball 2007]. По мнению С. Энсли, в имеющихся работах основное внимание уделяется анализу факторов, которые влияют на доступность и возможности женщин занять высшие руководящие позиции в органах исполнительной власти. Отмечается, что демографические, социально-экономические, культурные и политические факторы на разных уровнях управления влияют на доступ женщин к власти. Выявлено, что существует корреляция между представленностью женщин на министерских должностях, феминизацией властных органов в стране и типом демократии [Annesley, Franceschet 2015]. Пристальное внимание в работах по вопросу феминизации властных структур уделяется гендерным квотам и значимости численного присутствия женщин во властных структурах, в том числе и в парламентах [Krook, O’Brien 2012]. Р. Бернард в соавторстве с коллегами, анализируя политические амбиции женщин-кандидатов на высокие властные позиции, заключают, что политические амбиции женщин-кандидатов варьируются в зависимости от состава домохозяйств и таких структурных барьеров, как уровень дохода и источники дохода [Bernard, Davis, Teele 2021]. Именно политическая экономия семьи удерживает самых амбициозных женщин-кандидатов от выдвижения [Там же]. Отдельный пул эмпирических исследований по рекрутированию женщин на министерские позиции представляют кейсы тех стран, в политических режимах которых имеются сходные черты с российскими реалиями. Так, исследование М. Эскобар-Леммон и М. Тейлор-Робинсон о правительствах стран Латинской Америки показало, что степень вовлеченности женщин в процесс принятия решений и получение ими министерских портфелей на национальном уровне связаны со степенью демократизации страны и типом управления (парламентская/президентская) [Escobar-Lemmon, Taylor-Robinson 2005]. Не выявлена положительная корреляция с количеством женщин в правительстве и в парламенте страны с политической идеологией (левый/правый и др.) президента, находящегося у власти. Более того, увеличение числа женщин на высоких позициях в правительственных органах Латинской Америки не связано с их уровнем образования и опытом работы [Escobar-Lemmon, Taylor-Robinson 2005:840]. По мнению авторов исследования, женщины все чаще рекрутируются на министерские позиции в странах Латинской Америки, и в первую очередь это объясняется ростом политических издержек в случае их исключения из власти и увеличением для президента страны политических выгод в случае их назначения1. Результаты исследования Cоциально-демографические характеристики административной элиты В основе данного исследования лежит анализ эмпирических данных по административной элите десяти российских регионов (Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Костромская и Новосибирская области, Хабаровский и Ставропольский край, Республика Дагестан). Административная элита регионов представлена губернаторами (главы региона), вице-губернаторами (заместителями), министрами, руководителями комитетов, департаментов, управлений (всего 464 персоны). Биографические сведения были собраны в 2020-2021 гг. через открытые источники информации: официальные сайты органов региональной исполнительной власти, интервью с представителями региональной элиты в СМИ, персональные страницы в социальных сетях представителей элиты. Далее систематизированные биографические данные были обработаны через SPSS. С целью анализа полученных данных были сформированы следующие переменные: социально-демографическая (возраст, пол, место и год рождения), образовательная (место получения и тип образования, наличие первого, второго и последующего высшего образования, ученой степени кандидата, доктора наук, и по какой специальности). В число переменных были включены также сведения о профессиональной карьере, в которую вошли данные о предэлитной работе, о предшествующей элитной должностной позиции, до того, как персона заняла первую, вторую или иную элитную должность, номер элитной должности. При обработке данных учитывался также номенклатурный и депутатский опыт, работа в структурах органов власти, силовых, экономических институциях в различные периоды. Прежде всего проанализируем общие социально-демографические характеристики административной элиты десяти исследуемых регионов. Если оценивать полученные данные в количественном выражении, то заметно, что в среднем на всех высших административных позициях наблюдается «мужское доминирование», когда мужчины занимают большинство высших позиций в региональных правительствах (83%) и только 17% женщин. Как среди мужчин, так и среди женщин преобладающей возрастной когортой является группа тех, кому 41-50 лет (каждый третий в административной элите). Среди представителей административной элиты немало тех, кого относят к молодежи (31-40 лет): молодых мужчин (11,8%) и молодых женщин (10%) примерно одинаковое количество. В административной элите десяти регионов среди мужчин и женщин, представителей среднего и старшего поколений (после 50 лет), также не выявлено существенных различий. Анализ данных по возрастным когортам показывает, что в административном сегменте региональной элиты наблюдается гендерный паритет. Однако мужчины чаще занимают предэлитную должность в молодом и среднем возрасте, чем женщины (58% мужчин и 47% женщин в возрасте 22-40 лет), что в первую очередь объясняется тем, что в это время женщины вступают в брак, повышают свой образовательный статус. Женщина занимает свою первую предэлитную позицию в 26 лет, а у мужчин это происходит на пять лет раньше (в 21 год). В возрастной период с 26-29 лет у женщин наблюдается спад и после 29 лет женщины вновь начинают свои карьерные перемещения и уже чаще занимают предэлитные позиции. Определены и активные пики в возрастных флуктуациях женщин. Первый пик приходится на возраст 31-32 года (9,1%), далее наблюдается спад и второй пик связан с более поздним периодом - в 37-38 лет (14,5%). Таким образом, важными возрастными точками в предэлитных перемещениях у женщин является возраст 26 лет, 31-32 года и 37-38 лет. Полученные данные позволяют выявить, что существенных различий в уровне образования между мужчинами и женщинами внутри административной элиты десяти российских регионов не наблюдается. В большинстве случаев административная элита во всех исследуемых регионах имеет высокий образовательный статус: более половины (54%) имеют второе высшее образование и у каждого четвертого имеется ученая степень. Если рассматривать образовательный уровень в разрезе полученных специальностей, то здесь все же выявлены некоторые различия между мужчинами и женщинами. В большинстве своем мужчины имеют высшее техническое образование - 32%, далее идет экономическое - 15%, юридическое (14%) и военное образование (13%). Среди женщин преобладают специалисты с дипломами юристов (29%) и экономистов (28%), а также гуманитарии (20%)[97]. Следует отметить, что данные, которые были получены в 2020 г. по политической элите (депутатскому корпусу) исследуемых регионов, показали, что в части образования депутаты имеют примерно такие же характеристики в своем образовательном профиле, что и представители административной элиты. Карьерные траектории Эмпирические данные по административной элите десяти российских регионов позволяют определить начало, ключевые моменты и точки перехода в профессиональных карьерах представителей административной элиты. Анализ биографий министров, глав регионов (губернаторов), их заместителей показывает, что наблюдается гендерный баланс при вхождении на высокую должность в зависимости от возраста среди мужчин и женщин. Впервые как мужчины, так и женщины в большинстве случаев занимают высшую элитную позицию уже в среднем возрасте - 41-60 лет. Структурирующее влияние на планирование профессиональной карьеры оказывают те институции, в которых в разные жизненные периоды заняты представители региональной элиты. Биографические данные показывают, что чаще всего «предэлитная» позиция как у женщин, так и у мужчин связана с низшей или средней позицией в районной администрации (63% мужчин и 84% женщин). Второй по значимости среди предэлитных позиций является позиция, связанная с руководством экономической структуры: 18% мужчин занимали эту позицию до высокого правительственного поста и только 7% женщин. Заметно, что женщины реже имеют опыт работы в экономических структурах, тогда как каждый пятый мужчина-министр является не просто выходцем из этих структур, но еще и занимал в этих структурах высшие позиции. Полученные данные показывают, что для мужчин важным каналом рекрутирования являются не только экономические структуры, но и силовые органы (7%), тогда как для женщин этот канал вообще оказался несущественным. Мужчины на правительственные позиции в исследуемых регионах чаще всего приходят из таких силовых структур, как МВД, армия[98], ФСБ. При этом следует отметить, что только в структуре МВД РФ (всего трудоустроено около 900 000 человек) каждая третья позиция занята женщиной[99]. Административный сегмент элиты изучаемых регионов в части карьерных траекторий в целом по своим характеристикам отличается от политической элиты. Наше исследование 2020 г. по депутатскому корпусу этих же регионов показало, что в региональные парламенты женщины чаще всего приходят из социальной сферы (28%), 20% женщин и 49% мужчин рекрутируются из экономических структур [Колесник 2021]. Для женщин карьера в политических структурах (парламенте) чаще всего определяется как пример горизонтального перемещения из одной (часто властной) институции в другую, например, случай, когда глава администрации получает депутатский мандат. В административной же элите женщины часто демонстрируют иные карьерные траектории, основанные на принципах вертикального перемещения, когда в действительности осуществляется вертикальная мобильность и происходит изменение профессионального статуса. Не случайно среди действующих региональных министров большинство из них (64% мужчин и 84% женщин) в разные годы занимали предэлитную позицию именно в органах исполнительной власти (позиция работника районной, областной администрации низшего или среднего звена). Важной переменной для понимания степени профессионализации административной элиты оказывается индикатор «номер элитной должности в биографии», по которому определяется степень обновляемости административной элиты в российских регионах. Например, полученные данные позволяют нам определить, что 63% мужчин впервые заняли позицию в региональном правительстве, среди женщин таких - 70%. Обращает на себя внимание и тот факт, что примерно одинаковое число мужчин и женщин (21 и 23% соответственно) до прихода на министерский пост уже занимали элитную должность. В этом случае наблюдается горизонтальное перемещение внутри элитной общности, которое является важной характеристикой при рассмотрении процесса функционирования элиты. В ходе исследования определено, что женщины нередко занимают элитные позиции до их попадания в региональный «министерский пул», но мужчины преобладают среди тех, для кого пребывание на министерской позиции оказывается третьей и четвертой элитной должностью в их послужном списке. В целом это означает, что приток новых министров на фоне самозакрытия региональной элиты крайне ограничен, и еще меньше возможностей занять высшую позицию в правительстве имеют женщины. Важно отметить, что 37% мужчин из правительственной элиты до этого занимали другие элитные позиции и чаще всего работали в структурах исполнительной власти, тогда как среди женщин горизонтальное перемещение с одной элитной позиции на другую происходит реже (у каждой третьей). Таким образом, определяя характеристики министерской элиты с точки зрения гендерной представленности, следует отметить, что административный сегмент региональной элиты оказывается более обновляемым, чем политический, и дает множественные примеры вертикальной социальной мобильности как для мужчин, так и для женщин. Более половины мужчин и 70% женщин впервые заняли пост министра в региональном правительстве. При этом приток женских кадров из других институций практически не фиксируется, что означает, что женщины-министры выстраивают карьеру в рамках властных институций (и чаще всего в органах исполнительной власти). 66% мужчин-министров также попадают в министерский пул региона из политико-административных структур, 26% до занятия элитной позиции в региональном правительстве занимались хозяйственно-экономической деятельностью (женщин только 13%) и 6% работали в силовых структурах. В отличие от европейской ситуации партийные, политические и гражданские структуры в РФ не являются основными каналами для рекрутирования женщин и мужчин на высшие властные позиции [Чирикова, Лапина 2009:71-72][100]. Существуют ли гендерные различия в региональных правительствах? При оценке гендерных диспропорций в региональных правительствах следует отметить, что самыми феминизированными правительствами из исследованных нами регионов являются правительственная элита Калининградской области (21% женщин), Москвы (14% женщин), Ленинградской области и Хабаровского края (13 и 11% женщин), в которых наблюдается относительный гендерный паритет5. Во вторую группу вошли регионы с менее феминизированной правительственной элитой и определяемые по типу правительств с гендерным дисбалансом. Так, одинаковое количество женщин зафиксировано в правительствах Санкт-Петербурга и Республики Дагестан, Костромской области (по 8%), в Ростовской, Новосибирской области и Ставропольском крае по 6% в министерской элите каждого региона. Для прояснения выявленных гендерных различий в правительствах регионов обратимся к анализу внутренних характеристик. Полученные данные показывают, что в первую группу регионов с феминизированными правительствами вошли в большинстве случаев территории (за исключением Москвы), имеющие давние границы с зарубежными государствами [Ангапова 2014][101]. Все три региона (Калининградская, Ленинградская области и Хабаровский край) дают примеры относительно гендерного баланса в составе регионального министерства. Возникает вопрос о том, каковы социально-экономические характеристики этих российских регионов и имеют ли они отличительные особенности? Исследование И.В. Задорина, посвященное регионам «рубежа», показывает, что, например, Калининградская область отличается высокой долей приезжих из других регионов, имеет эксклавный статус, геополитически и экономически зависима от центра [Задорин 2018:114]. Кроме того, в этом регионе высока трансграничная мобильность и для жителей характерна открытость к культурному обмену. В рейтинге качества жизни среди российских регионов Калининградская область в 2020 г. занимала 10-е место, Ленинградская область - 7-е. Среди дальневосточных регионов Хабаровский край также имеет прочные позиции по качеству жизни и занимает второе место в рейтинге ДВФО и 30-е место в общероссийском рейтинге[102]. Что касается другой группы регионов, которые оказались схожими в низкой представленности женщин в министерской элите, то эти регионы не имеют давнего приграничного статуса и для них характерен различный уровень экономического развития. Так, Костромская область не отличается высоким уровнем экономического развития, и по качеству жизни эта область из всех исследуемых нами регионов занимает самые низкие позиции (67-е место), пропуская вперед Республику Дагестан (56-е), Санкт-Петербург (2-е), Ростовскую (17-е) и Новосибирскую области (22-е). Тем не менее по своему составу костромское правительство с точки зрения представленности женщин и мужчин характеризуется сильным доминированием последних. Таким образом, введенные дополнительные характеристики регионов показывают, что регионы с феминизированными правительствами не только имеют приграничный статус, но и часто занимают устойчивые позиции по экономическим позициям, качеству жизни. Группа регионов с менее феминизированными правительствами по уровню экономического развития и качеству жизни оказалась не столь однородной: в этой группе представлены как регионы-лидеры, так и регионы-аутсайдеры. В этой связи для прояснения подобной ситуации необходимо вводить другие переменные с целью объяснения существующих эмпирических разбросов. В целом же в большинстве исследованных регионов в административной элите наблюдается гендерная диспропорция. Подобные практики являются отражением той исторической ситуации, которая формировалась на протяжении последнего столетия в России, когда в сложившейся системе властвования мужчины тотально доминировали на высших позициях. Если обратиться к данным советского и начала постсоветского периодов, то заметно, что в послевоенном СССР намечается возврат к минимальному представительству женщин в высших органах власти: в советский период среди министров на долю женщин приходилось 0,5%, а среди 38 министров последнего правительства СССР работала только одна женщина [Беляева 2008:154]. Ситуация с гендерным неравенством не изменилась и в более поздний период, по-прежнему на высших позициях в органах исполнительной власти крайне мало женщин. Так, в российском правительстве в 2019 г. было только две женщины в статусе вице-премьера (Т. Голикова и О. Голодец), две женщины-министра, среди заместителей федеральных министров женщин - 23 (мужчин - 130). В новом правительстве М. Мишустина - одна женщина возглавила министерство и две стали вице-премьерами. При этом важно отметить, что 72% российских государственных служащих - женщины[103]. Заключение Анализ данных по десяти российским регионам показал, что в целом в административной элите наблюдается абсолютное доминирование мужчин, когда они занимают большинство высших позиций в региональных правительствах (83%). При анализе социально-демографических характеристик административной элиты существенных различий в возрасте, уровне образовании, времени занятия элитной позиции между мужчинами и женщинами не наблюдается. В большинстве своем представители административной элиты во всех исследуемых регионах имеют высокий образовательный статус, более половины имеют второе высшее образование и у каждого четвертого имеется ученая степень кандидата наук. Сравнивая карьерные траектории женщин и мужчин внутри административной элиты десяти российских регионов, следует отметить, что впервые свои элитные позиции мужчины и женщины занимают в среднем возрасте 41-60 лет. В молодой когорте административной элиты женщин оказывается в шесть раз меньше, чем мужчин. Самыми распространенными каналами для рекрутирования в административную элиту среди мужчин оказались административные (органы власти), экономические и силовые структуры, далее идут политические структуры (позиция депутата). На этом фоне преобладание администраторов среди женщин-министров не кажется удивительным ввиду того, что чаще всего профессиональная социализация женщин происходит в рамках исполнительных органов власти. При этом среди женщин-министров в исследуемых нами регионах имеются случаи «аномальных карьер», когда происходит стремительное восхождение на министерский пост и наблюдается ускоренная социальная мобильность. Важно отметить, что треть мужчин из правительственной элиты уже до этого занимали другие высшие позиции, тогда как среди женщин горизонтальное элитное перемещение с одной элитной позиции на другую происходит гораздо реже. На фоне политической элиты (депутаты) этих же регионов административная элита обновляется чаще, что обуславливает приток новых административных кадров в российские регионы. В ходе проведенного исследования выявлены гендерные различия в региональных правительствах. Правительства с различными гендерными характеристиками (относительного гендерного паритета и относительного гендерного дисбаланса) позволяют предположить, что для приграничных (регионы, имеющие давние границы) и экономически успешных регионов чаще всего характерен режим гендерного паритета в правительстве. Во вторую группу вошли регионы с менее феминизированной правительственной элитой, менее экономически развитые (за исключением Санкт-Петербурга) и чаще всего расположенные на юге России.
Об авторах
Наталья Владимировна Колесник
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: n.kolesnik@socinst.ru
ORCID iD: 0000-0003-2323-6799
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
Санкт-Петербург, Российская ФедерацияСписок литературы
- Айвазова С.Г. Гендерные особенности политического поведения россиян в контексте избирательного цикла парламентских и президентских выборов 2011-2012 гг. // Женщина в российском обществе. 2012. № 3. С. 3-11.
- Ангапова О.Б. Классификация приграничных регионов Российской Федерации // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 2. С. 76-80.
- Беляева Г.Ф. Политическая активность женщин // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. № 1. С. 143-164.
- Задорин И.В. Регионы «Рубежа»: территориальная идентичность и восприятие «особости» // Полития. 2018. № 2 (89). С. 102-136.
- Колесник Н.В. Гендерное (не) равенство в политической власти российских регионов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 4. С. 468-491.
- Николаев А.Н. Становление технократической элиты в России: историко-социологические аспекты. Саратов: Изд. центр Саратовской гос. экономической академии, 1995.
- Овчарова О.Г. Гендерная асимметрия в сфере политики: поиски институционального решения проблемы // Вестник Саратовской государственной академии права. 2007. № 5 (57). С. 214-219.
- Попова О.В. Гендерные аспекты политической карьеры российской субфедеральной элиты: мнения экспертов // Женщина в российском обществе. 2013. № 3. С. 21-30.
- Тартаковская И.Н. Воспроизводство гендерного порядка через карьерные стратегии: попытка интерсекционального анализа // Социологические исследования. 2015. № 5. С. 84-93.
- Тартаковская И.Н. Женственность прекарности // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2017. № 14. С. 45-53.
- Хасбулатова О.А. Гендерный подход как технология повышения эффективности кадровой политики // Женщина в российском обществе. 2014. № 4. С. 3-10.
- Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Женщина на высших этажах власти. Российские практики и французский опыт // ИНАБ № 3. М.: Институт социологии РАН, 2009.
- Albanesi C., Zani B., Cicognani E. Youth civic and political participation through the lens of gender: The Italian case // Human Affairs. 2012. Volume 22 (3). P. 360-374.
- Annesley C., Franceschet S. Gender and the executive branch // Politics & Gender. 2015. № 11. P. 613-617.
- Bernard R., Davis S.S., Teele D.L. To Emerge? Breadwinning, motherhood and women’s decisions to run for office // American Political Science Review. 2021. № 115, 2. P. 379-394.
- Bright J., Doering H., Little C. Ministerial importance and survival in government. Tough at the top? // West European Politics. 2015. № 38 (3). Р. 441-464.
- Costa Pinto A., Cotta M., Tavares de Almeida P. (eds.). Technocratic ministers and political leadership in european democracies. London: Palgrave, 2017.
- Druckmann J.N., Warwick P.V. The missing piece: measuring portfolio salience in western european democracies // European Journal of Political Research. 2005. № 44 (1). P. 7-42.
- Escobar-Lemmon M., Taylor-Robinson M. Women ministers in Latin American government: when, where, and why? // American Journal of Political Science. 2005. № 49 (4). Р. 829-844.
- Gender, politics and institutions: toward a feminist institutionalism / Krook M.L., Mackay F. (eds.). Basingstoke: Palgrave, 2011.
- Krook M.L., O’Brien D.Z. All the president’s men? The appointment of female cabinet ministers worldwide // Journal of Politics. 2012. № 74 (3). P. 840-855.
- Verzichelli L. Executive elites // The Palgrave Handbook of Political Elites / Heinrich Best, John Higley (еds.). London: Palgrave Macmillan, 2018. Р. 363-380.
- Whitford A., Wilkins V., Ball M.G. Descriptive representation and policymaking authority: evidence from women in cabinets and bureaucracies // Governance. 2007. № 20 (4). Р. 559-80.
Дополнительные файлы