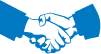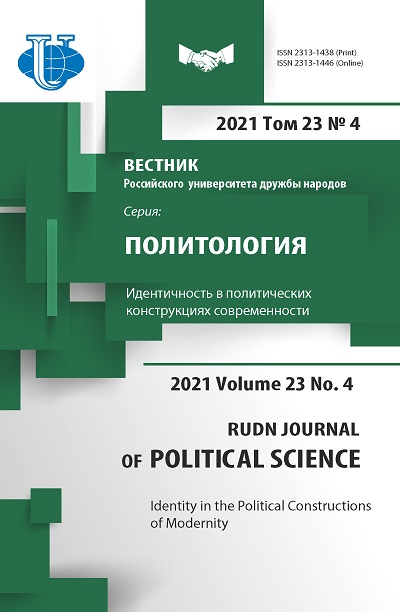Interpretation of Communism and Post-Communist Transformations in Russia: Modern Theoretical Discussions
- Authors: Gutorov V.A.1, Shirinyants A.A.2
-
Affiliations:
- Saint Petersburg State University
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 23, No 4 (2021): Identity in the Political Constructions of Modernity
- Pages: 525-544
- Section: THE DIMENSIONS OF IDENTITY IN MODERN RUSSIA
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/29529
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2021-23-4-525-544
- ID: 29529
Cite item
Full Text
Abstract
The analysis of discussions on various aspects of the evolution of the modern state, the specifics of post-communist transformations and the role that Marxism and the tradition of radical socialist thought can play in the near future in their search for a way out of the crisis generated by the agony of the neoliberal global world order. As a starting point for the analysis, theoretical articles published in the second edition of the collection “Communism, Anticommunism, Russophobia in post-Soviet Russia. 2nd ed., Add. / Auth.: P.P. Apryshko et al. - Moscow: World of Philosophy, Algorithm, 2021 (607 p.) were selected. A comparative analysis of the polemical works of domestic scientists, political theorists and philosophers with those discussions that for many decades have been conducted by their colleagues abroad clearly indicates that today none of the existing ideologies, as well as the paradigms of economic and socio-political theory, can pretend to be the only recourse. The experience of recent decades clearly excludes the very possibility of transforming the economy and society on the basis of a certain universal synthetic model. In post-communist Russia, the heat of political passions, which stimulates the extreme polarization of political programs for overcoming the crisis, also hinders the achievement of agreement and the search for a solution acceptable to all.
Full Text
Введение Непосредственным поводом для нашей работы стал выход в свет второго издания сборника «Коммунизм, антикоммунизм, русофобия в постсоветской России» (2-е изд., доп. / авт. кол.: П.П. Апрышко и др. М.: Мир философии, Алгоритм, 2021. 607 с.). Опубликованные в нем теоретические статьи и литературные эссе, яркая политическая публицистика, философские диалоги и мемуарные очерки представляют собой убедительное свидетельство того, что идеи принявших в нем участие отечественных ученых, философов и литераторов не только актуальны, но и вполне созвучны с теми дискуссиями, которые вот уже не одно десятилетие ведутся их коллегами за рубежом. Центральное место в сборнике занимает анализ природы социально-экономического строя и политической системы, сложившейся в России в результате Октябрьской революции 1917 г., а также той роли, которую играли коммунистические идеи в формировании их идентичности внутри страны и системе международных отношений. «Если судить только по названию книги, - отмечают в предисловии редакторы книги П.П. Апрышко и А.П. Поляков, - может сложиться впечатление, что она представляет собой эхо довольно отдаленного времени, когда критика антикоммунизма была атрибутом всех учебных программ по общественным наукам и одним из основных направлений государственной пропаганды. Однако такое впечатление будет ошибочным. Предлагаемая книга по своей сути - о нынешнем этапе истории, взгляд на его содержание и направленность в свете исторического опыта, взятого во всей его полноте. Подчеркиваем этот последний момент, он принципиально важен. Ибо не только в пропаганде, публицистических выступлениях, но и в текстах, претендующих на научность, присутствует тенденция сознательного искажения очень многого из Великого Октября, опыта строительства и развития нового общества в СССР, других странах. А ведь то была целая эпоха - великая эпоха противостояния социализма и капитализма. Она и сейчас не ушла полностью из жизни ни России, ни человечества в целом» [Коммунизм… 2021:5]. Переосмысление русской революции На наш взгляд, мысли о том, что стремление посткоммунистических элит выкорчевать из общественного сознания любые позитивные ассоциации, связанные с Октябрьской революцией, является неправомерным и безнадежным в интеллектуальном и политическом плане, занимают воображение и привлекают внимание не только российских ученых. Например, в своей работе «Ленин жив! Переосмысление русской революции. 1917-2017» британский политолог Филип Канлифф отмечает: «Сто лет спустя после русской революции, которая должна была смести капитализм, глобальный капитализм остается нетронутым и неоспоримым. СССР, государство, основанное русской революцией, лежит на свалке истории. Поражение русской революции развеяло надежды на революционные социальные преобразования посредством захвата государственной власти. Оно положило конец мечтам о радикально лучшем мире, в котором устранены социальные разделения и всякое угнетение. Ее поражение обнажило тщетность стремления человечества изменить общество и сознательно формировать свою судьбу» [Cunliffe 2017:5]. «И все же, - продолжает Канлифф, - как ни странно, эпический триумф капитализма оставил нам лишь ограниченное представление о его многочисленных преимуществах и достижениях. Чудеса массового потребления продолжают рутинно бранить как грубый материализм. Экономический рост и индустриализация рассматриваются как поляризующие и разрушительные по своей природе. Чудесная синергия глобальной урбанизации рассматривается как марш трущоб и убожества или, для разнообразия, как распространение провинциальной низости существования. Бесконечные чудеса промышленного сельского хозяйства считаются ядовитыми и разрушительными, в то время как постоянные улучшения в сфере коммуникации воспринимаются как отчуждающие и навязчивые» [Cunliffe 2017:5]. Переводя проблему в область массового сознания и социальной психологии, британский политолог приходит к выводу о том, что «мы съеживаемся перед перспективой планетарной катастрофы и экологического коллапса. Нас мучает каждое новое научное открытие и возможность большего контроля, который оно порождает. Мы живем в коллективном страхе перед чудесами ядерной энергетики и болезненно поглощены фантазией о том, что однажды наши собственные творения могут доминировать над нами, когда роботы возьмут верх, а компьютеры начнут осознавать себя. Учитывая все это, простительным выглядит желание понять - а не было ли разрушено что-нибудь еще вместе с поражением русской революции» [Cunliffe 2017:5]. Два полюса оценок коммунизма Широко представленные в современном мире попытки решения обозначенных Ф. Канлиффом проблем имеют множество измерений, и их практически невозможно свести к некоему знаменателю, в том числе и идеологическому. На наш взгляд, вот уже многие десятилетия спектр или, вернее, континуум многообразных оценок коммунизма по-прежнему располагается между двумя крайними суждениями, играющими роль условных пунктов, которые также могут варьироваться во времени и интеллектуальном пространстве. Первое из них уже давно было сформулировано Джорджем Оруэллом в рецензии на книгу Ф.А. Хайека «Дорога к рабству»: «Капитализм ведет к очередям за пособиями по безработице, борьбе за рынки и войнам. Коллективизм ведет к концентрационным лагерям, поклонению вождям и войнам. Из этого не существует выхода до тех пор, пока плановая экономика не сможет быть каким-то образом объединена со свободой интеллекта. Это может произойти только в том случае, если в политике будут возрождены понятия справедливого и безнравственного» [Orwell 2017:82]. Вторая, диаметрально противоположная, «базовая» характеристика коммунизма обозначена в книге Майкла Хардта и Антонио Негри «Империя»: «Сегодня продуктивность, богатство и создание социальных излишков принимают форму совместной интерактивности через языковые, коммуникативные и эмоциональные сети. Таким образом, как представляется, нематериальный труд в выражении своей собственной творческой энергии обеспечивает потенциал для своего рода спонтанного и элементарного коммунизма (Курсив наш. - В.Г., А.Ш.)» [Hardt, Negri 2000:294, 413]. Оба крайних пункта обрисованного выше континуума, как правило, являются источниками многообразных этических оценок коммунистической идеи и опыта ее практической реализации в различных регионах мира. Этические оценки присутствуют в работах ученых скрыто или явно. Они могут выражаться в негативных или позитивных констатациях, проявлять себя в соответствующих приоритетах и расстановке акцентов: одни факты выступают на передний план, другие отодвигаются или просто игнорируются. Например, в современных отечественных работах, написанных с радикальных православных позиций, обычно преобладает чисто обвинительный уклон. «Исходя из марксистско-ленинской идеологии, - отмечает историк В.М. Лавров, - компартия проводила политику социального расизма и геноцида - физического уничтожения предпринимателей и дворянства, старой русской интеллигенции и духовенства, трудовых крепких крестьян и казаков… Социальный расизм коммунистов означал и антирусский расизм» [Лавров 2018:34]. «Большевизм, - пишет историк и публицист Л.П. Решетников, - ставил своей целью уже не только смену русского цивилизационного кода, а полное уничтожение России как исторического государства, превращение ее в плацдарм для мировой революции» [Решетников 2019:145]. Односторонность таких оценок очевидна. Например, философ В.М. Межуев, решительно опровергая в ходе дискуссии, организованной в апреле 2004 г. журналом «Вестник аналитики» на тему «Постсоветский либерализм: кризис или крах?», гипотезу политолога А.С. Ципко о «большевистских корнях» анти-патриотизма российских псевдолибералов образца 1990-х гг., в частности, отмечал: «К большевикам намного ближе те, кто считают себя сегодня радетелями традиционной России. Большевики не были либералами, это верно, но не были и анти-патриотами, и анти-государственниками. Их патриотизм (они называли его советским) был не либеральным, а, скорее, консервативным, сохранявшим веру в спасительную силу централизованной, основанной на ничем не ограниченном насилии власти, что и помогло им создать одну из самых мощных держав ХХ века» [Гаман-Голутвина и др. 2004:243]. Не следует также забывать, что попытки возложить исключительно на большевиков ответственность за крах имперской России явно противоречат историческим фактам, и их этический пафос довольно сомнителен. На этом тезисе постоянно настаивал Н.А. Бердяев. «Русский народ, - подчеркивал философ, - не захотел выполнить своей миссии в мире, не нашел в себе сил для ее выполнения, совершил внутреннее предательство. Значит ли это, что идея России и миссия России… оказалась ложью? Нет, я продолжаю думать, что я верно понимал эту миссию. Идея России остается истинной и после того, как народ изменил своей идее, после того, как он низко пал. Россия, как Божья мысль, осталась великой, в ней есть неистребимое онтологическое ядро, но народ совершил предательство, соблазнился ложью… Я знал, что в русском народе и в русской интеллигенции скрыты начала самоистребления. Но трудно было допустить, что действие этих начал так далеко зайдет. Вина лежит не на одних крайних революционно-социалистических течениях. Эти течения лишь закончили разложение русской армии и русского государства. Но начали это разложение более умеренные либеральные течения. Все мы к этому приложили руку» [Бердяев 1990b:III-IV]. Неолиберальные реформы Многие выводы авторов сборника «Коммунизм, антикоммунизм, русофобия в постсоветской России» имеют явный полемический оттенок и в этом плане они также полностью вписываются в контекст современных международных научных дискуссий об особенностях советской коммунистической модели. Главная причина повсеместного обострения споров по данному вопросу лежит на поверхности. Продолжающиеся вот уже несколько десятилетий попытки новых посткоммунистических элит интегрироваться в глобальный капиталистический рынок путем реализации катастрофической по своим последствиям неолиберальной программы экономических реформ постоянно стимулируют крайнюю поляризацию не только политического и идеологического, но и научного дискурса. «Более апологетические описания „реформ“ изображают их как прагматичный и необходимый, хотя и болезненный, метод выхода из позднесоветского кризиса, модернизации страны и перехода к рыночной экономике. Янош Корнаи описывает это как возвращение на путь капиталистического развития из социалистического тупика, навязанного странам коммунизмом… Нелиберальная и антилиберальная критика „реформ“ еще более беспощадна. По мнению консерваторов, „реформы“ являются синонимом безжалостного уничтожения самобытности России и самих основ ее исторического существования, бросая все ее материальные и моральные ценности в некую „черную дыру“. Для левых авторов „реформы“ - это „второе издание“ в России „неравномерного и комбинированного“ капитализма - зависимого, экономически неэффективного, политически авторитарного и разрушительного для науки и культуры - который сохраняет значительные элементы докапиталистических и некапиталистических форм экономической деятельности. Одним словом, „реформы“ по большому счету были возвращением к тому типу общественного строя, который был характерен для Российской империи до большевистской революции» [Kapustin 2016:11]. Ученые и политики, изучающие причины кризиса и фактического краха российской неолиберальной модели рыночной экономики, вполне естественно стремятся анализировать труды специалистов, в которых исследуется аналогичный, не менее травматический по своим последствиям опыт реализации неолиберальных реформ в различных регионах современного мира. Интерес других групп ученых (к ним относятся и авторы указанного выше сборника) сосредоточен преимущественно на ретроспективном анализе внутренних причин кризиса советской политической и экономической системы и попытках выявить всю совокупность субъективных и объективных факторов, сделавших крах коммунистической модели неизбежным и до известной степени закономерным. Тем не менее, на наш взгляд, между обозначенными позициями различных групп ученых существует немало точек соприкосновения. Например, изучение современных российских экономических и социальных реалий на фоне кризисных тенденций в экономике и социальной политике в Западной и Восточной Европе так или иначе стимулирует стремление к сравнительному анализу советской и западной моделей «государства всеобщего благосостояния», возникших в послевоенный период и на протяжении нескольких десятилетий демонстрировавших свою эффективность. «Коммунистическая формация» Изучение конкретных причин эрозии и распада СССР, анализ природы посткоммунистических трансформаций и той роли, которую играли политические элиты в деструктивных процессах на рубеже 1980-1990-х годов образуют в совокупности один из наиболее важных сегментов современного исследовательского поля. Сборник «Коммунизм, антикоммунизм, русофобия в постсоветской России» не является в этом плане исключением. Его авторы стремятся дать обстоятельные ответы на вопросы, которые более десятилетия назад были очень емко обозначены в книге Стивена Роузфилда и Стефана Хедлунда «Россия с 1980 года: упорная борьба с вестернизацией»: «Советская цивилизация рухнула. Это был вердикт ее лидеров и суд истории. Какими бы ни были его достоинства, их затмили материальные и духовные недостатки системы. Что же пошло не так? Был ли большевизм дегенеративной формой русской идеи? Находятся ли русские на более низкой стадии развития? Или же вина ложится на социализм? Невзирая на любые ответы, следует спросить: куда же Россия держит путь: к американскому демократическому свободному предпринимательству, социальной демократии Европейского Союза, Московии, славянофильскому анархо-популизму или некоему пятому пути по китайскому образцу?» [Rosefielde, Hedlund 2008:XXI]. В наши дни большая часть зарубежных и отечественных специалистов уже не склонны уделять избыточное внимание различным экзотическим версиям анализа исторических корней и своеобразия русского коммунизма, например концепции «нового средневековья», инициированной Н.А. Бердяевым в 1920-е гг., а в послевоенный период активно развиваемой М.С. Восленским, В. Шляпентохом, Д. Лестером и др. [Бердяев 1990а; Восленский 1991:583-586, 600-602, 606-609; Shlapentokh 1996:393-411; Lester 1998:193-203]. Отрицая «историческую самодостаточность» российского коммунистического проекта, многие аналитики стали вновь довольно энергично поддерживать уже давно сформировавшуюся гипотезу, в соответствии с которой возникший в СССР экономический уклад вполне может рассматриваться в качестве одной из многочисленных форм государственного капитализма [Althusser 2014:13, 31, 43-44, 53-56; Therborn 1978:23-31, 148-153, 162-171; Therborn 2008:60, 68, 84, 117, 147, 169; Therborn 1995; ср. Aron 1970:58; Ellul 1964:183-184; Alford, Friedland 1985:26, 139, 143, 227-238, 359, 362; Wallerstein 1984:124-125; Mann 1988:24-25, 47-48, 160-161; Zimmermann, Werner 2013:203; см. также: Musacchio, Lazzarini 2014:2-4, 283-290; Coffey, Thornley 2009; Buchwalter, 2015]. Одна из последних довольно примечательных попыток представить развернутую аргументацию, направленную на отрицание существования в СССР «коммунистической формации» и самой дихотомии «капитализм/коммунизм» в качестве исторических реалий, встречается в эссе Б.Г. Капустина под характерным названием «Народ при отсутствии народа, или Взгляд на посткоммунизм снизу», опубликованном несколько лет назад в одном из сборников издательства «Рутледж» «Социальная история посткоммунистической России». «Визуализация посткоммунистической трансформации как перехода от плана к рынку или от тоталитаризма к демократии, - пишет автор эссе, - означает попытку сыграть в гипостазирующую игру, в которой абстрактные понятия объективируются и получают независимое существование… Несмотря на постоянные трудности с обеспечением четкого социологического описания доминирующего класса СССР, известного как номенклатура, нет сомнений в том, что политическая экономия советского общества была основана на отчуждении этим классом прибавочного продукта, производимого трудящимися. Он также был организован вокруг накопления капитала и воспроизводил основные формы неравенства и подчинения, характерные для капиталистических обществ. В то же время многие советские методы контроля над трудом были более грубыми и менее эффективными, чем те, которые типичны для „нормального“ капитализма, не говоря уже о варварском угнетении крестьянства и его принудительной „кабальной службе“ (смягченной только в 1974 г., когда колхозникам были выданы внутренние паспорта)». «Мы также не можем сомневаться в том, - продолжает Капустин, - что значительная часть национального продукта существовала и находилась в обращении в товарной форме; и этот труд в основном был наемным и проявлял все признаки „отчуждения“ и подчинения капиталу как „ранее накопленный труд“, как его описывал Маркс применительно к „классическому капитализму“», и приходит к выводу о том, что «СССР был капиталистическим или государственно-капиталистическим обществом (несмотря на свою „идеологию“ или, возможно, даже благодаря ей), и, следовательно, в постсоветский период не могло быть никаких капиталистических преобразований». Логика аргументации Капустина проста: «Мы можем говорить только о естественном колебании маятника от одного способа накопления капитала к другому, от государственного капитализма к (в основном) частному капитализму, а не об эпохальном сдвиге. „Двойственность“ советского общества проистекает из сочетания угнетения и „наследия Октября“» (Октябрьской революции), которое власти никогда не сводили только к ритуальной легитимации статус-кво. Рабочий класс никогда не был „гегемоном“ или „ведущей силой“, но его „социалистическое первородство“ выглядело как нечто большее, чем просто циничный образ речи, используемый его угнетателями… Посткоммунистическая трансформация была проектом, направленным на устранение двойственности советского общества путем уничтожения „наследия Октября“. Решающий урон ее легитимизирующей роли был нанесен в период перестройки. Набор новых идеологических конструкций, таких как „демократия“, „общечеловеческие ценности“ и „вступление в общеевропейский дом“, вытеснили „наследие Октября“ как основы легитимности правящих элит… Приватизация „народной собственности“ создала „экспроприированный“ пролетариат в собственном смысле этого слова и как абстракцию „персонификации рабочей силы“, с одной стороны, и хозяев, олицетворяющих капитал, с другой» [Kapustin 2016:25, 26, 13-14, 27, 28, 29; ср.: Crouch 2013:220]. Трактовка Б.Г. Капустиным советской мифологемы «гегемонии пролетариата», на наш взгляд, сохраняет преемственность с аналитикой марксизма Н.А. Бердяева, отмечавшего, что «в русской коммунистической революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея пролетариата, миф о пролетариате» [Бердяев 2008:294]. Разумеется, остается открытым вопрос, насколько «естественным» можно считать «колебание маятника от одного способа накопления капитала к другому» в посткоммунистической России и возможно ли рассматривать трансформацию советской модели номенклатурного «государственного капитализма» в направлении «дикого рынка» и «первоначального накопления» как вполне закономерную стадию эволюции российской государственности, сохраняющую преемственность с предшествующими стадиями национального развития? Данный вопрос неоднократно поднимался в научной литературе с середины 1990-х гг. «Как раз в тот момент, - отмечал философ Г. Рормозер, один из наиболее влиятельных теоретиков современного немецкого консерватизма, - когда в России оказалась несостоятельной социалистическая система планового хозяйства, Запад и ФРГ, в частности, заняты поиском методов государственного планирования, то есть, по сути дела, коммунистических методов. Ибо государственная индустриальная политика означает не что иное, как употребление государством средств налогоплательщиков для того, чтобы отрасли производства, которые не находят спроса на рынке, все-таки, несмотря на это, поддержать ради сохранения рабочих мест. Спор о методах, если заглянуть за кулисы, продолжается. Участники поменялись ролями. В России практикуется анархическая система экономики, при которой каждый действует как в американской вольной борьбе любыми средствами, без правил, стараясь схватить, сколько сумеет, украв у другого. Это чистейшая рыночная анархия, если вообще можно говорить о какой-то экономической системе в России, свободной от государственной бюрократии. А в Германии, наоборот, государство играет сегодня такую роль, которая несовместима ни с какими принципами рыночной экономики. Что принесет нам экономическое объединение Европы, решают бюрократы. Запад все более прибегает к методам бывшего Советского Союза, хотя и в сочетании с другими элементами и без тотальных идеологических притязаний» [Рормозер, Френкин 1996:215]. Выводы Рормозера вполне могут свидетельствовать о том, что основным результатом отечественных трансформаций на рубеже 1980-1990-х гг. стало радикальное изменение вектора в развитии страны. Фактически был инициирован процесс вытеснения России на периферию мировой экономики и политики в условиях глобальной конкуренции, который никак нельзя именовать «объективным» и «спонтанным», поскольку субъективные установки новых российских элит играли в его рамках совершенно определенную и немаловажную роль. Например, в статье С.Н. Мареева «Теория коммунизма К. Маркса», входящей в сборник «Коммунизм, антикоммунизм, русофобия в постсоветской России», приводятся довольно веские аргументы, свидетельствующие о том, что социальная стагнация была запрограммирована в рамках процесса экспроприации «социалистической собственности», который западные политологи обычно именуют лицензированным пиратством (licensed piracy): «Та общественная собственность в государственной форме, которая была у нас, как раз являлась всеобщей частной собственностью. И поскольку она по сути своей все-таки частная собственность, то она и становится добычей бюрократии („номенклатуры“). Номенклатурно-бюрократическая приватизация, как она произошла у нас в 90-х гг. прошлого века, просто юридически оформила то, что существовало фактически… И то и другое ведет к отчуждению: в одном случае к отчуждению производителя от вещных условий производства, которые находятся в собственности государства и делаются по существу собственностью государственных чиновников, в другом - к отчуждению производителя от производителя, которые связаны только через рынок, и, опять же, к отчуждению производителя от средств производства, которые теперь концентрируются в руках частных лиц, в том числе и бывших партийных и советских работников, из которых и сформировался в основном наш нынешний олигархический капитал» [Коммунизм… 2021:15-16, 35]. Государственный капитализм Каковы же исторические перспективы современной отечественной модели государственного капитализма и насколько реальной выглядит сама возможность формирования в посткоммунистической России полноценных структур демократического государства? Для того чтобы ответить на данные вопросы, необходимо хотя бы кратко обозначить некоторые существенные моменты эволюции государственного капитализма в западном мире, прежде всего в США. В своей работе «Призрачная демократия» Карл Боггс, видный американский политический теоретик левого направления отмечает: «К двадцатому веку, особенно после великого рыночного краха 1930-х годов, более эффективно организованный и управляемый капитализм становится установленным фактом современной жизни, будь это фашизм, социал-демократия или кейнсианский либерализм, как в Соединенных Штатах. Данное явление, понимаемое как постепенная конвергенция корпоративной и государственной власти, которое можно было бы назвать „государственным капитализмом“, было проанализировано такими теоретиками, как Макс Вебер и Йозеф Шумпетер, наряду с мыслителями, связанными с австро-марксизмом и Франкфуртской школой критической теории. В это же время подтвердилось и пророчество Маркса относительно неумолимого движения капитализма к концентрированной и централизованной власти… Для Маркса пришествие рационализированного капитализма не было равнозначно государственному капитализму, основанному на социальных приоритетах, глубокой вовлеченности государства в экономику и регулирование классовых конфликтов. Это была структура власти, которую Маркс, мировоззрение которого определялось реалиями XIX века, не мог предвидеть» [Boggs 2011:92]. Во второй половине ХХ века дальнейшая эволюция новой системы власти была всесторонне проанализирована в работах Ч.Р. Миллза. Анализируя ситуацию в послевоенной Америке, Миллз особенно акцентировал внимание на слиянии корпоративных, государственных и военных интересов в условиях формирования структур военизированного государственного капитализма, обеспечивающих гегемонию США в мировой политике, включая и ее идеологическую составляющую [Mills 1956:12, 23, 212, 275]. На рубеже XX-XXI вв. обозначенные выше тенденции фактически не претерпели каких-либо существенных изменений. «В большинстве областей дебатов по вопросам публичной политики, - отмечает британский политолог К. Крауч, - их участники - политики и академические ученые - фокусируют внимание на конфронтации между государствами и рынками. Это особенно верно в отношении разногласий по поводу государства всеобщего благосостояния, поскольку так называемая маркетизация предшествующих государственных монополий на услуги здравоохранения и других аспектов социальной защиты, пенсий, образования и некоторых других областей доминирует в политике вот уже на протяжении двадцати лет. Это часть более общего феномена триумфа подчеркнуто ориентированных на рынок неолиберальных политических подходов над социал-демократическими подходами, ориентированными на государство. Однако… в противоположность идеологически чистому неолиберализму фактически существующая его разновидность вовсе не так уж привержена свободным рынкам, как это часто говорят. Скорее, она всецело предается утверждению господства гигантской корпорации над общественной жизнью. Конфронтация между рынком и государством, которая, как кажется, доминирует в политическом конфликте во многих обществах, скрывает существование этой третьей силы, являющейся более мощной, чем любая другая, и трансформирующей функционирование их обеих. Полярность на деле оказывается треугольником (Курсив наш. - В.Г., А.Ш.). Политика начала двадцать первого века продолжает тенденцию, инициированную в предыдущем веке. Скорее, усиливаясь и вовсе не будучи ослабленной кризисом, она вообще утратила конфликтность и превратилась в серию комфортных взаимовыгодных компромиссов между всеми тремя силами. Здесь налицо вызов демократии, поскольку политические процессы и принятие решений уходят из поля пристального внимания общественности в область, где действуют только экономические и политические элиты. Поэтому демократия и рынок могут иногда даже в совокупности казаться их жертвами… По мере того, как все большее количество жизненных сфер оказывается затронутым неолиберальным резонерством, резко усиливается тенденция к аморализму общественного существования» [Crouch 2013:219, 229]. В работе экономиста Дани Родрика «Парадокс глобализации» (2012) разработанная Краучем концепция «треугольника» представлена в виде следующей «трилеммы»: «Как нам справиться с напряжением между национальной демократией и глобальными рынками? У нас есть три варианта. Мы можем ограничить демократию в целях минимизации международных транзакционных издержек, не обращая внимания на экономические и социальные удары, которые время от времени наносит глобальная экономика. Мы можем ограничить глобализацию в надежде на укрепление демократической легитимности у себя дома. Или же мы можем глобализировать демократию за счет национального суверенитета. Это дает нам меню с правом выбора способов реконструкции мировой экономики. Данное меню точно схватывает фундаментальную политическую трилемму мировой экономики: мы не можем одновременно иметь гиперглобализацию, демократию и национальное самоопределение. Мы можем иметь не более двух из трех вариантов. Если мы выбираем гиперглобализацию и демократию, нам придется отказаться от национального государства. Если мы должны сохранить национальное государство, но также стремимся к гиперглобализации, тогда нам придется забыть о демократии. И если мы хотим объединить демократию с национальным государством, то это означает - прощай глубокая глобализация» [Rodrik 2012:200]. С обозначенной Д. Родриком трилеммой Россия столкнулась только в конце 1980 - начале 1990-х годов в эпоху горбачевской «перестройки» и так называемых «бархатных революций». На раннем этапе сталинской экономической модернизации и даже в эпоху реформ 1960-1970-х гг. национальный суверенитет был гарантирован многими факторами, в том числе отсутствием демократии как таковой. В этом плане СССР мало чем отличался от других автаркических режимов, лидеры которых рассматривали модернизацию в качестве наиболее приоритетной политической цели. Как справедливо отмечал американский социолог Тим Макданьел, «...коммунистические режимы в целом могут быть сгруппированы с некоторыми некоммунистическими государствами, такими как Турция Ататюрка, в качестве осуществляющих модернизацию однопартийных диктатур. Хотя вполне подходит называть таких правителей, как Сталин и Ататюрк, автократами, такая автократия имеет отличие: не стремясь к личному правлению, основанному на традиционной легитимности, эти правители рвут с прошлым, пропагандируя идеологии обновления и обеспечивая массовое участие посредством развития массовых политических организаций... Такие автократические системы мобилизации ясно доказали способность создать основы современного индустриального общества. В определенном, самом крайнем случае, продемонстрированном сталинской системой, они действовали, фактически уничтожая отдельное существование гражданского общества - факт, указывающий на ту огромную цену, которую эти режимы были готовы платить за свою версию прогресса» [McDaniel 1991:10]. В своем полемическом эссе «Советский социализм: по Марксу, Ленину, Сталину?», входящем в сборник «Коммунизм, антикоммунизм, русофобия в постсоветской России» П.П. Апрышко также приходит, на наш взгляд, к совершенно справедливому заключению о том, что сформировавшаяся в СССР сталинская модель социализма, функционировавшая до середины 1980-х гг., не могла быть «ничем иным, кроме как диктатурой Коммунистической партии, играющей руководящую роль во всех сферах жизни страны. Партия выдвигает из своих рядов вождей, которым делегирует полномочия осуществлять руководство всем и вся. Возможно, на этапе строительства основ социализма такая концепция имела под собой реальные основания» [Коммунизм… 2021:82, 85]. Авторитаризм без альтернативы В новейшей западной научной литературе существует немало концепций и даже целых теорий, в рамках которых сложившая в Советском Союзе авторитарная модель государственного управления рассматривается в качестве неизбежной и в итоге предопределенной исторической зависимостью страны от избранного много столетий назад пути, альтернативы которому практически не существует. Одной из наиболее популярных является гипотеза, разработанная С. Хедлундом в книге «Российский путь зависимости: народ с беспокойной историей» (2005). «Суть этой гипотезы предполагала, что те институциональные модели, которые возникли в Московии пятнадцатого и шестнадцатого веков, содержат большую часть, если не все ключи, необходимые для раскрытия легендарной мистики, которая будет окружать последующие события в России. Вполне очевидный вывод заключался в том, что необходимо было сформулировать теорию, чтобы объяснить, каким образом такие фундаментальные институциональные модели могут сохраняться на протяжении стольких веков… Размышляя в этом направлении, я был одержим одним отрывком из книги Роберта Патнама „Чтобы демократия сработала“, в котором он предполагает, что судьба юга Италии может преподать некоторые важные уроки также и для стран „третьего мира“ и бывших коммунистических государств Евразии: „Без норм взаимодействия и сетей гражданского участия гоббсовский результат Меццоджорно - аморальная семейственность, клиентелизм, беззаконие, неэффективное правительство и экономический застой - кажется более вероятным, чем успешная демократизация и экономическое развитие. Палермо может представлять будущее для Москвы“» [Hedlund 2005, XI-XII]. Смысл развиваемой Хедлундом «рабочей гипотезы» состоит в итоге в следующем: «К середине семнадцатого века Россия, по сути, обрела свою форму, ту форму, которая будет сохраняться - во всех своих основных аспектах - на протяжении более двух последующих столетий. В более ограниченном смысле можно даже утверждать, что одна и та же форма сохранялась на протяжении всего советского периода и в эпоху Ельцина… Такой подход напоминает определение „патримониального“ государства, данное Максом Вебером: когда государь организует свою политическую власть… столь же необходимым способом, посредством которого он осуществляет свою власть над своими домочадцами, тогда мы говорим о патримониальной государственной структуре… В таких случаях политическая структура становится по существу идентичной структуре гигантского княжеского земельного поместья» [Hedlund 2005:125; ср.: Weber 1988:33-34]. В более поздней работе «Невидимые руки, российский опыт и социальная наука: подходы к пониманию системного провала» шведский экономист счел необходимым придать своей гипотезе еще больший архаический оттенок и ввести новые факторы, характеризующие «исторический путь» России и фатальную зависимость от него: «В нашем предыдущем обзоре российского опыта мы довольно близко следовали подходу „теории непрерывности“, стремясь проиллюстрировать модель устойчивого институционального воспроизводства на протяжении длительного временного периода. Основу этого подхода составляет идея Ричарда Хелли о повторяющихся „революциях служилого класса“. Согласно его представлению, именно „повторение революций служилого класса и перераспределение ресурсов в направлении гарнизонного государства“ является движущей силой развития и формирует „возможно, самый яркий образец в современной российской истории“» [Hedlund 2011:246-247; см. также: Hellie 2005:89; Hellie 1971; Hellie 1982]. Полемизировать с Р. Хелли, С. Хедлундом и сторонниками их метафорики относительно того, является ли посткоммунистическая Россия «патримониальным государством» и представляет ли собой современная российская бюрократия некий «подвид» или гибрид сталинской номенклатуры с московскими «служилыми людьми» эпохи первых Романовых, на наш взгляд, так же бесполезно, как и спорить с В. Шляпентохом или Д. Лестером о степени схожести российских чиновников и новоявленных олигархов с феодальными баронами раннего западноевропейского средневековья. Дискуссии такого рода вряд ли, на наш взгляд, могут способствовать решению серьезных проблем, связанных с анализом политической и социально-экономической системы, характеризующей посткоммунистическую стадию российской истории. Диктатура пролетариата Возвращаясь к сборнику «Коммунизм, антикоммунизм, русофобия в постсоветской России», инициировавшему нашу работу, хотелось бы выделить еще один примечательный момент. Речь идет о трактовке идеи диктатуры пролетариата в статьях, посвященных теоретическим проблемам революционного марксизма. Концепция диктатуры пролетариата долгое время оставалась основой марксистской политической теории до тех пор, пока один из руководителей германской социал-демократии Эдуард Бернштейн, «попав под влияние английских фабианцев в годы изгнания в Лондоне, [не] пришел к выводу о том, что ортодоксальный марксизм, которого он придерживался, больше не соответствует фактам современной истории. В 1890-х годах он подверг марксистскую теорию серии критических замечаний, из которых возникла его собственная „ревизионистская“ теория» [Schorske 1983:16; см. также: Hunt 1964:17-18; Bernstein to Brandt… 1987:21-33, 45-52]. После Октябрьской революции 1917 г. и раскола международного рабочего движения идея пролетарской диктатуры, включенная в программу Коминтерна (1919), становится главным символом революционного коммунизма до возникновения еврокоммунистического направления во второй половине 1970-х гг., инициировавшего процесс «социал-демократизации» коммунистических партий Западной Европы. Тем не менее с теоретической точки зрения понятие «диктатура пролетариата» по-прежнему рассматривается большинством современных сторонников и теоретиков коммунистического направления в качестве базового критерия, позволяющего отличать классический марксизм от его различных девиантных трактовок. Так, в работе «Диктатура пролетариата» Э. Балибар, подводя итоги своего анализа, специально отмечает: «Если ленинские аргументы верны и если дело не только в словах - а в это уже реально никто больше не верит - то диктатура пролетариата действительно является концепцией, которая составляет существенную часть марксистской теории классовой борьбы, и ее нельзя отделить от нее, не поставив целиком под сомнение эту теорию. Сама идея о том, что в истории и стратегии коммунистических партий диктатура пролетариата может быть “устаревшей”, не имеет значения для марксиста. Ведь, как мы видели, диктатура пролетариата - это не особый метод, особая модель или особый “путь перехода” к социализму. Это историческая тенденция, которая ведет от капитализма к коммунизму через переходный период социализма в условиях империализма» [Balibar 1977:154]. В этом плане нельзя не обратить внимания на тот очевидный факт, что в уже цитированной выше статье С.Н. Мареева диктатура пролетариата упоминается преимущественно в историческом контексте. «Если частная собственность, - отмечает Мареев, - является основой эксплуатации человека человеком, то с уничтожением этой основы должна исчезнуть также эксплуатация человека человеком и т.д. Но в каких конкретных формах будет существовать общественная собственность, в каких конкретных формах будет происходить распределение и потребление, - на эти вопросы Маркс и Энгельс ответить даже и не пытались. И не пытались сознательно, потому что они ясно сознавали невозможность дать конкретные ответы на эти вопросы. „Не вдаваясь в утопии, - писал Ленин, - Маркс от опыта массового движения ждал ответа на вопрос о том, в какие конкретные формы эта организация пролетариата, как господствующего класса, станет выливаться, каким именно образом эта организация будет совмещена с наиболее полным и последовательным ‘завоеванием демократии’“. Именно поэтому „Маркс подвергает в ‘Гражданской войне во Франции’ самому внимательному анализу“ опыт Парижской Коммуны - этой первой исторической формы диктатуры пролетариата» [Коммунизм… 2021:62-63]. При этом автор явно не намерен рассматривать в теоретическом плане совершенно конкретный вопрос, поставленный в начале его работы - в каком именно виде можно было бы реализовать общественную собственность во Франции в начале 1870-х гг., чтобы она не стала (как и в России) «добычей бюрократии», которая в эпоху раннего модерна, по справедливому замечанию А. де Токвиля, за несколько столетий приняла в этой стране поистине чудовищные формы. Историческая канва преобладает и в статье П.П. Апрышко. «В конкретных условиях России того времени, - отмечает автор, - вероятность мирного осуществления социалистической революции была нулевой, поскольку в стране полностью отсутствовали государственные и общественные институты, способные обеспечить такой сценарий. Да и сам Ленин не придавал большого значения эволюции воззрений Маркса и Энгельса по вопросу о социалистической революции, путях ее осуществления. Лишь в работе „Государство и революция“, написанной в период между Февралем и Октябрем, он касается возможности мирных социалистических преобразований в Англии и США. Однако считает такую возможность не правилом, а исключением. В основе этой позиции - взгляд Ленина на государственную власть прежде всего как на диктатуру того или иного класса. Соответственно буржуазное государство, по Ленину, есть диктатура буржуазии, в рамках которой демократические институты не более чем декорация. Такое понимание сущности государства практически исключает допущение мирных социалистических преобразований» [Коммунизм… 2021:77]. Сам характер рассуждения свидетельствует, что вопрос о том, возможны ли мирные социалистические преобразования в современных Великобритании и США, как бы спонтанно снимается автором с «повестки дня». Еврокоммунизм Как это ни парадоксально, но в определенном плане идеи и позиции авторов и редакторов цитируемого сборника, на наш взгляд, перекликаются с некоторыми базовыми идеями еврокоммунизма. Этому, на наш взгляд, способствует и явный параллелизм между современной идейной атмосферой, характеризующей поиск альтернатив глобальному неолиберальному порядку, и попытками теоретиков еврокоммунизма разработать новую политическую стратегию с целью идейной консолидации левых сил и различных направлений марксистской мысли. Еще в 1980 г. в теоретическом сборнике, посвященном актуальным проблемам еврокоммунистического дискурса, его редакторы Карл Боггс и Дейвид Плотке отмечали: «Сегодня левые в целом и марксизм в частности, похоже, страдают от полной неспособности нарисовать убедительную альтернативу либеральному капитализму в Северной Америке, Западной Европе и в других местах. Старые подходы устарели или потерпели серьезное поражение, а новые, по крайней мере политически эффективные, как представляется, крайне мучительно и медленно обретают свои очертания. Еврокоммунизм в той мере, в которой он достиг связного ощущения идентичности, представляет собой политическое образование, которое в разгар развивающегося кризиса может заполнить эту пустоту и преодолеть неудачи и ограничения прошлого. В своем стремлении нащупать социалистический выход из нынешнего тупика он охватывает ряд идеологических и стратегических тем, которые, как представляется, отличают его как от классического ленинизма, так и от различных форм социал-демократии: отказ от традиционной повстанческой политики, авангардной партии и мифа о „диктатуре пролетариата“; приверженность идее построения „социального блока“ сил, основанного на мультиклассовом переходе к социализму, а не на жесткой пролетарской ориентации; участие в различных видах политической борьбы, происходящей в рамках существующих представительных институтов; приверженность созданию массовой партии, которая будет по-новому формировать цель социализма, и, наконец, принципиальная поддержка социального и политического плюрализма - не только для настоящего, но и для любого будущего социалистического строя» [The Politics… 1980:7]. Аналогичные идеи мы встречаем и в тех новейших работах, авторы которых явно не склонны рассматривать еврокоммунистические идеи исключительно ретроспективно, но, напротив, стремятся акцентировать их актуальность для современного политического дискурса и практики. Как отмечает Я. Балампанидис в работе «Еврокоммунизм: от коммунистической к радикальной европейской левой», еврокоммунистическая программа «третьего пути» представляла собой первую сознательную попытку определить во второй половине ХХ века основной вектор концепции путей к социализму, которая в свое время была предметом острого спора между Вторым, «Вторым с половиной» и Третьим Интернационалами (1919-1921 гг.). Сегодня «радикальные левые, как представляется, сформировали общий контур, включающий в себя явное неприятие неолиберального капитализма, предпочтительный акцент на государственном вмешательстве с целью обеспечения полной занятости, защиты труда, перераспределения. Короче говоря, сегодняшние радикальные левые, похоже, развивают мощную материалистическую идентичность, привлекая элементы старой кейнсианской парадигмы с государством в качестве главной движущей силы и больше не обсуждая классовый характер государства, перспективу разрушения государственного аппарата или риск социал-демократизации, по крайней мере, до тех пор, пока социал-демократия оставляет незащищенным и уязвимым пространство слева от себя, для которого она когда-то обеспечивала как программное, так и идеологическое прикрытие… Еврокоммунистический „момент“ - это историческое связующее звено, объединяющее прошлое и настоящее европейских левых. Макроскопически еврокоммунизм был политическим проектом, посредством которого левая политика в Европе осуществила окончательный переход от революционного прошлого к совершенно иной парадигме» [Balampanidis 2018:230-231; ср.: Weil Kapitalismus… 2014:116-137]. Заключение Представленный выше анализ дискуссий по различным аспектам эволюции современного государства, специфики посткоммунистических трансформаций и той роли, которую могут в ближайшей перспективе играть марксизм и традиция радикальной социалистической мысли в поисках выхода из кризиса, порожденного агонией неолиберального глобального миропорядка, отчетливо свидетельствует, что сегодня ни одна из существующих идеологий, равно как и парадигм экономической и социально-политической теории, не могут претендовать на роль монопольного спасительного средства. Опыт последних десятилетий явно исключает саму возможность преобразования экономики и социума на основе некоей универсальной синтетической модели. Об этом еще в конце 1990-х годов очень убедительно предупреждал Эдвард Люттвак, автор довольно популярного термина «турбокапитализм»: «По сравнению с рабством почившей коммунистической экономики, аморального бюрократического социализма и гротескными провалами националистической экономики, турбо-капитализм в целом превосходит их материально и, по крайней мере, морально им не уступает, несмотря на все его разрушительные воздействия на общество, семьи и саму культуру. Однако признание его имперского господства над всеми аспектами жизни, от искусства до спорта и всех форм предпринимательства, не может быть кульминационным достижением человеческого существования. Исчезнет и турбо-капитализм» [Luttwak 1998:236; см. также: Haseler 2000:185-186]. Невозможно утверждать, какой порядок придет на смену «турбокапитализму», и на данный момент ответ на этот вопрос остается по-прежнему прерогативой преимущественно национального дискурса. В современной России накал политических страстей, стимулирующий крайнюю поляризацию политических программ выхода из кризиса, также препятствует достижению согласия и поиску приемлемого для всех решения. И все же, на наш взгляд, и в настоящее время трудно опровергнуть вердикт, вынесенный в начале ХХ века Н.А. Бердяевым: «Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа» [Бердяев 2008:295]. Похоже, что отечественная история развивается «по Бердяеву» и российский народ, продолжая переосмысливать свое прошлое, пока находится в самом начале пути.
About the authors
Vladimir A. Gutorov
Saint Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: gut-50@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8063-2558
Doctor of Science in Philosophy, Professor, Head of the Department of Theory and Philosophy of Politics, Faculty of Political Science
Saint Petersburg, Russian FederationAlexander A. Shirinyants
Lomonosov Moscow State University
Email: jants@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6949-2256
Doctor of Science in Political Sciences, Professor, Head of the Department of History of Social and Political Doctrines of the Faculty of Political Science
Moscow, Russian FederationReferences
- Berdyaev, N. (1990a). The new Middle Ages. Reflections on the fate of Russia and Europe. Moscow. (In Russian).
- Berdyaev, N. (2008). Russian idea. Saint Petersburg. (In Russian).
- Berdyaev, N.А. (1990b). The fate of Russia. Experiments on the psychology of war and nationality. Moscow. (In Russian).
- Voslenskij, M.S. (1991). Nomenclature. The ruling class of the Soviet Union. Moscow. (In Russian).
- Gaman-Golutvina, O. et al. (2004). Post-Soviet liberalism: Crisis or collapse? Vestnik analitiki, 3, 208-252. (In Russian).
- Apryshko, P.P. et al. (2021). Communism, anti-communism, Russophobia in post-Soviet Russia. Moscow. (In Russian).
- Lavrov, V. (2018). The Orthodox view of Lenin’s experiment on Russia. Moscow. (In Russian).
- Reshetnikov, L.P. (2019). Back to Russia. Moscow. (In Russian).
- Rormozer, G., & Frenkin, А.А. (1996). The new conservatism: A challenge for Russia. Moscow. (In Russian).
- Alford, R.R., & Friedland, R. (1985). Powers of theory. Capitalism, the state, and democracy. Cambridge.
- Althusser, L. (2014). On the reproduction of capitalism. Ideology and ideological state apparatuses. London; New York.
- Aron, R. (1970). Marxismes imaginaires: D’une sainte famille à l’autre. Paris. (In French).
- Balampanidis, Y. (2018). Eurocommunism: From the communist to the radical european left. London; New York.
- Balibar, E. (1977). On the dictatorship of proletariat. London: Atlantic Highlands, New York.
- Boggs, C., & Plotke, D. (Eds.). (1980). The Politics of Eurocommunism: Socialism in Transition. London; Basingstoke.
- Boggs, С. (2011). Phantom democracy: Corporate interests and political power in America. New York.
- Buchwalter, A. (2015). Hegel and Capitalism. Albany.
- Coffey, D., & Thornley, C. (2009). Globalization and varieties of capitalism. New labor, economic policy and the abject state. New York.
- Crouch, C. (2013). From markets versus states to corporations versus civil society? In A. Schäfer & W. Streeck (Eds.), Politics in the age of austerity (pp. 219-238). Cambridge.
- Cunliffe, Ph. (2017). Lenin lives! Reimagining the Russian revolution. 1917-2017. Winchester, UK; Washington, US.
- Ellul, J. (1964). The technological society. New York.
- Fletcher, R. (Ed.). (1987). Bernstein to Brandt: A Short History of German Social Democracy. London; New York.
- Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Cambridge, Massachusetts; London.
- Haseler, S. (2000). The super-rich: The unjust new world of global capitalism. New York.
- Hedlund, S. (2005). Russian path dependence: A people with a troubled history. London; New York.
- Hedlund, S. (2011). Invisible hands, Russian experience, and social science: Approaches to understanding systemic failure. New York.
- Hellie, R. (1971). Enserfment and military change in Muscovy. Chicago; London.
- Hellie, R. (1982). Slavery in Russia, 1450-1725. Chicago; London.
- Hellie, R. (2005). The Structure of Russian Imperial History. History and Theory, 44, 88-112.
- Hunt, R. (1964). German Social Democracy 1918-1933. New Haven; London.
- Kapustin, B. (2016). A People in the Absence of the People, or a View of Postcommunism from Below. In P. Dutkiewicz, R. Sakwa & V. Kulikov (Eds.), The Social History of Post-Communist Russia (pp. 11-40). London; New York
- Lester, J. (1998). Feudalism’s revenge: The inverse dialectics of time in Russia. Contemporary Politics, 4(2), 193-203.
- Luttwak, E. (1998). Turbo-capitalism: Winners and losers in the global economy. New York.
- Mann, M. (1988). States, war and capitalism. Oxford; Cambridge.
- McDaniel, T. (1991). Autocracy, modernization and revolution in Russia and Iran. Princeton, New Jersey.
- Mills, C.W. (1956). The power elite. New York: Vintage Books.
- Musacchio, A., & Lazzarini, S.G. (2014). Reinventing state capitalism. Leviathan in business, Brazil and beyond. Cambridge, Massachusetts; London.
- Orwell, G. (2017). Capitalism and communism: Two paths to slavery. In Political Writings of George Orwell. Prabhat Prakashan.
- Rodrik, D. (2012). The globalization paradox: Why global markets, states, and democracy can’t coexist. Oxford; New York.
- Rosa, H., Lessenich, S., Kennedy, M., & Waigel, T. (2014). Weil Kapitalismus sich ändern muss. Wiesbaden. (In German).
- Rosefielde, S. & Hedlund, S. (2008). Russia since 1980: Wrestling with westernization. New York, 2008.
- Schorske, C.E. (1983). German social democracy, 1905-1917: The development of the great schism. Cambridge, Massachusetts; London.
- Shlapentokh, V. (1996). Early feudalism - The best parallel for contemporary Russia. Europe-Asia Studies, 48(3), 393-411.
- Therborn, G. (1978). What the ruling class do when it rules? London; New York.
- Therborn, G. (1995). European modernity and beyond. The trajectory of European societies, 1945-2000. London; Thousand Oaks; New Delhi.
- Therborn, G. (2008). From Marxism to Post-Marxism? London; New York.
- Wallerstein, I. (1984). The politics of the world-economy. The states, the movements, and the civilizations. Cambridge.
- Weber, M. (1988). Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Russland. In J. Winckelmann (Ed.), Gesammelte politische Schriften (pp. 33-68). Tübingen. (In German).
- Zimmermann, J., & Werner, J.R. (2013). Regulating capitalism? The evolution of transnational accounting governance. New York.
Supplementary files