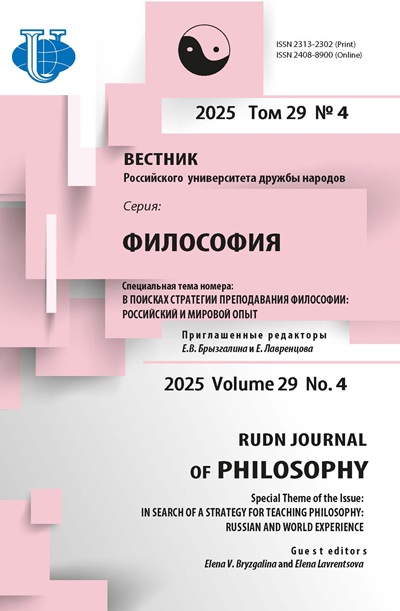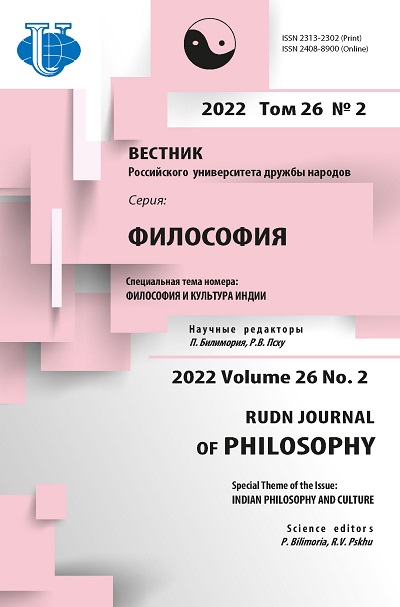Vol 26, No 2 (2022): INDIAN PHILOSOPHY AND CULTURE
- Year: 2022
- Articles: 17
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/issue/view/1557
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2022-26-2
Full Issue
INDIAN PHILOSOPHY AND CULTURE
Towards Methods and Tasks of the Digital Indology
Abstract
The article describes the state of affairs and prospects for research and development in the domain of active use of digitalization and computer programming in the study of the Indian intellectual tradition. The term “Digital Indology” is used this term as an analogy of the expression “Digital Humanities”. Here, it will be understood as the reception and study of philosophical and other classical texts of Ancient and Medieval India with the usage of digital technologies, mathematical statistics, contextual analysis methods alongside with the traditional well-established approaches of philosophy and the humanities. The main trends in the development of digital philosophical Indology are being outlined (viz. the formation of a unified computer database of Indian classical texts, the development of special programs that allow setting and solving new pertaining to the content, as well as historical tasks in the study of various texts of various groups, etc.) The use of mathematical statistics and the methods of contextual analysis are suggested as typical auxiliary methods while analyzing classical texts of India. We do not close our eyes to the possible hidden dangers of a possible fascination with digital methods. Our brief manifesto of Digital Philosophical Indology is to define it exclusively being tool for classical Indological research, which retain its specific philosophical objectives and goals.
 237-244
237-244


Exclusivism, Inclusivism or Gradualism? Udayana and the Plurality of World-Outlooks
Abstract
It is an issue of already longstanding significance in philosophy of religion after John Hick, that is of differing models of religious consciousness, in the frame of interreligious relations which is tackled in the paper but it is done on the basis of the texts of a concrete philosopher and the narratives around his figure. One of the most eminent Naiyayikas, Udayana (11th C.A.D.), is singled out, as the author of the very renown composition in verse Nyāyakusumaňjali offering arguments for the existence of God (Īśvara) in the framework of polemics with the anti-theistic schools and the anti-Buddhist fundamental compendium Ātmatattvaviveka, along with the stories about his very resolute and victorious struggle against Buddhism in the epoch of the latter’s final extirpation from India. The author comes to conclusion that the features of exclusivism, inclusivism and gradualism are detected in his texts and traditions around him and, therefore, any univocal authentication of his attitude to otherwise-minded and those of other faiths is impossible. While participating in the supplantation of Buddhism from India, Udayana displays very resolute exclusivism. When he addresses the educated audience sermonizing his philosophical theism, he uses purely inclusivistic strategy of uncovering implicit knowledge of Īśvara even with those very far removed from the truth. And when he attempts to locate Nyāya on the map of philosophical world-views he uses gradualism (along with implicit inclusivism) as “philosophy of ascent” of the truth from lower to higher levels. As is impossible as well to mark out of his attitudes the so-called pluralism (the conception of equivalency of religions) considered by Hick as fundamental advantage of Eastern religions over the Western ones. Comparativistic parallels along with differences (Calvin’s conception of “the seed of religion”, Rahner’s conception of anonyme Christians and Hegel’s gradualism are taken into account) and some specification of the main categories of interreligious relations are also offered in the paper.
 245-258
245-258


Visvabandhu Tarkatīrtha’s “The Nyāya on True Cognition (pramā)”. Translated from Sanskrit and Bengali with explanatory notes
Abstract
The following publication includes the translation of the paper “The Nyāya on True Cognition (pramā)” by late Mahāmahopādhya pandit Visvabandhu Tarkatīrtha (1916-2006), translated from Sanskrit and Bengali, supplemented with an introduction (including the short biographical note) and additional explanatory notes by J.L. Shaw. The text aims to discuss the Nyāya conception of truth ( pramātva ), which is a property of cognition. According to Gaṅgeśa, the founder of Navya-Nyāya, the truth cannot be considered as a class-essence ( jāti ) because there will be a defect called ‘ sāṅkarya ’ between truth ( pramātv a) and the class-essence perceptual apprehendedness ( sākṣātva ). Visvabandhu Tarkatīrtha has clarified the concepts of truth and true cognition in Navya-Nyāya, explaining the complex character of the partitiveness of truth and introducing the definitions of such characteristics of the object as non-pervasive ( avyāpya-vṛtti ) and pervasive ( vyāpya-vṛtti ). Moreover, he has also claimed that the property of being the qualificand ( viśeṣyakatva ) and the property of being the qualifier ( prakārakatva ) are related by the relation of mutual determiner-determined ( paraspara-nirūpya-nirūpaka ).
 259-284
259-284


On the Possibility оf a Dual-Natured Self
Abstract
In this paper I examine compatibilism and incompatibilism about whether the self can be both a subject and an object in the same awareness at the same time. While this is an old debate that many traditions of philosophy have contributed to, my point of departure is the work of A.C. Mukerji (an Indian philosopher of the modern era) who worked on the possibility of self-awareness by articulating, what he called, the paradox of ego-centricity. I also consider Patañjali (an Indian philosopher of the classical era), Maurice Merleau-Ponty (a phenomenologist), and Arindam Chakrabarti (a contemporary Indian and Analytic philosopher) on the debate over compatibilism. First, I present Mukerji’s paradox, then I critically examine Patañjali and Merleau-Ponty’s arguments against incompatibilism. I move on to bring Mukerji’s paradox into contact with Chakrabarti’s arguments in favor of compatibilism. I critically examine Chakrabarti’s arguments in favor of compatibilism and against incompatibilism. While insightful and powerful, I argue that they can be resisted; and should be considered alongside Mukerji’s paradox. I close by offering an argument for compatibilism based on an analogy with particle-wave duality in quantum physics and the relation between conceivability and metaphysical modality.
 285-304
285-304


Jaina Ethics and Meditation: Self Purification Process through Karmic Cycle
Abstract
The main concern in this paper is to explore the relationship between Jaina ethics and meditation techniques proposed in the Jaina scriptures and its foundations. Meditative practices have been practiced in Jaina tradition for centuries. We also find a difference between the interpretation of scriptures (especially Digambara and Svetambara) regarding meditation, and it also sometimes gets translated into the practice of meditation. In the case of Jaina tradition, it is challenging to separate ethics from the spiritual path of liberation and meditation as a practice. In this paper, based on Tattvartha Sutra , Uttaradhyayana , and Acaranga Sutra, I have tried to show that ethics in its restricted sense can be seen as only one aspect of meditation, but in its broader sense, the whole spiritual path suggested in the Jaina scriptures can be seen as meditation. The fourteen stages suggested in the Jaina scriptures can be considered the stages of ethical path or meditation. We can see preksha dhyana - a recent form of meditation that translates these stages into more acceptable to the laymen - a popular and simple form of the spiritual path in modern times. Nevertheless, in the end, the ultimate aim remains the same - self-purification through the Karmic cycle.
 305-324
305-324


Buddhist Ethics in Treatises of Post-Canonical Abhidharma
Abstract
The aim of the article is to define the tendencies of elaboration of ethical problems in early medieval exegetical texts - treatises of post-canonical Abhidharma. Ethics as a specific philosophical discipline concerning morals was not specifically developed because of cosmological character of Buddhist philosophy. Explication of the ethical discourse presented in treatises of eminent early medieval Indian Buddhist exegetics Vasubandhu (4-5 cc.), Asaṅga (4 c.) and Yaśomitra (8 c.) showed that specific for ethics questions on the highest good, sense of human life, the nature and sources of morals, freedom of will etc. were solved in post-canonical period. According to the religious doctrine they interpreted the highest good as the benefit of liberation ( mokṣabhāgīya ) from the fetches of suffering. The Buddha’s moral instructions known as prātimokṣa is aimed at the attainment of the highest good. Therefore the essence of morality has nothing to do with saṃsāra, and human society forming and perishing in cosmic cycles cannot be the source of moral norms. According to historiosophical myth, human beings get the first instructions on righteous behavior in deep antiquity from charismatic Universal ruler ( cakravartin ) coming to the world as the forerunner of the Buddha. He explains ontological contrariness of the good and the evil but is not the Teacher of the truth. Freedom of will cannot manifest itself spontaneously in a human being attached affectively to saṃsāra. Such an individual falsely takes his ignorant self-will for the freedom of will. Hearing the sermons of salvific teaching is the condition for the rising of free will impulse.
 325-341
325-341


Inclusivism, Perspectivism and Pluralistic Tendencies in the History of Indian Culture
Abstract
This article provides a survey of approaches and conceptual means elaborated in recent decades in the studies of pluralistic tendencies in Indian culture. The concepts of inclusivism, perspectivism, antologizing and polyphony are discussed in a close relation with the specific context in which they were introduced, as well as with the implicit presuppositions of the scholars who elaborated them. In particular, the interpretations of inclusivism introduced by Paul Hacker and Gerhard Oberhammer were inextricably intertwined with the views on Indian religions these scholars developed. The concept of perspectivism was introduced in a philosophical context, mainly with respect to Bhartṛhari’s and Jaina philosophy. Antologizing and polyphony can be characterized as a more cautious way to conceptualize pluralistic tendencies in Indian traditional discourse, because they focus on narrative strategies that enable expressing alternative views in the frames of a single text. From a historical point of view pluralistic tendencies might be stipulated by the diverse social reality in Ancient India where heterogeneous cultural phenomena coexisted in a process of mutual reinterpretation and adaptation. Another possible presupposition of perspectivism could be the cyclic concept of time that was predominant in Indian traditional discourse. In Indian intellectual systems pluralistic practices were usually legitimized with the view that there are different levels of truth. Though instances of inclusivism can be discovered in the cultures of different regions, it was in India that inclusivism became a dominant trend in the cultural history.
 342-352
342-352


Mārganāṭyam: Ancient Indian Theater in India Today. Philosophy, Discipline and Artistic Experience
Abstract
The article is the first exploration of Mārganāṭyam, a new tradition in the performing arts of modern India, created (and still in the process of the development) from the beginning of the XXI century by an outstanding researcher of musical, theatrical and dance culture, Kalamandalam Piyal Bhattacharya (Kolkata, West Bengal) and his students. It is based on the many years of the author’s personal observations, interaction, interviews and discussions with the participants of “Chidakash Kalalay. Centre of Art and Divinity”, an artistic community based on the direct transfer of knowledge and skills from teacher to students, which has developed around Piyal. The features of the method of reconstruction of the ancient Indian theater, the flexible application of the legacy of the past in modern conditions are under study. Particular attention is paid to the artistic interpretation and comprehension of the Indian philosophical heritage, and above all the concepts and worldview of Nyaya and Vedanta systems, transferring them to the space of scenic images. The presented material demonstrates that an integrated approach to the artistic heritage, a metatheater, combined with individual pedagogical unfold of the personality of the artists, creates the possibility of recreating the long-vanished tradition and complex philosophical issues in a way that is well understood today, relevant and reflects the essential needs of modern creators and viewers of the Indian theater at large.
 353-368
353-368


The Body of Shiva and the Body of a Bhakta: the Formation of a New Concept of Corporeality in Tamil Śaiva Bhakti as a Tool and Path for the Liberation of the Bhakta
Abstract
The author analyses the change in the Tamil Śaiva bhakti concept of corporeality showing that understanding the body of a bhakta as the main obstacle to connecting with the body of Śiva based on the attitude of rejecting one's corporeality has much in common with Buddhist and Jain ideas about the body. Therefore, the main task of the bhakta was to liberate from his body, its elimination or transformation (remelting the physical body as an impure body, as an obstacle body on the way to union with God). They solved this task in various ways, including various practices of ecstatic behaviour and self-harm. The concept of kaya siddhi put forward by Tirumūlar is the idea of a perfect body, potentially immortal and homologous to the body of Śiva. He also formulated and developed sophisticated techniques for using the physical body of a sādhaka as the primary tool for achieving liberation based on yoga techniques and working with the mind of an adept. The result achieved was presented in the description of Tirumūlar's own mystical experience. As a result, he achieved the state of the super material body of yoga-deha , the ideal of which is the manifest body of Śiva as Naṭarāja. The new iconography of Naṭarāja formed in the visionary insights of bhaktas, who described their darśans in their hymns. Then it became the basis for forming a new iconology of Naṭarāja and the cult of images of the bhaktas themselves embodied in the intensive temple construction of the Chola Empire. In combination with new ritual practices, the Tamil philosophy of Śaivism had formed as a tripartite religious and philosophical canon of Śaiva Siddhānta. This canon included the poetic canon of Śaiva bhakti (Paṉṉiru Tirumuṟai), the agamic temple ritual, and 14 philosophical treatises of Śaiva Siddhānta (Meikaṇṭar Shastras).
 369-381
369-381


Sri Bhagavadacharya’s Approach to Commenting on and Propagating of Vishishtadvaita-Vedanta within the XXth century’s Ramanandi Tradition
Abstract
Bhagavadacharya (1879-1977) was the central figure in the Renaissance of Ramanandi tradition in the 20th century. He dedicated his life to gaining independence for his school from Ramanuja Sampradaya, whose leaders regarded Ramanandis as “third-class” members of the movement mostly because of the lack of shastric scholarship and inter-caste commensalities among the latter. To achieve this goal, Bhagavadacharya wrote commentaries on most of the Prasthāna-traya (the triple canon of Vedānta) as well as many other works popularizing the Ramanandi version of Vishishtadvaita. He widely used his knowledge of philosophy in shastric debates with his opponents among whom were not only followers of Ramanuja but also a famous Advaitin guru and political activist Swami Karpatri whom he allegedly defeated in a dispute which concerned the rights of Harijans (the so called untouchables) initiated into Vaishnava tradition to enter temples and share communalities with the so-called “pure Hindus”. In my paper, I will present key philosophical and practical ideas of Bhagavadacharya based on my research conducted in the library of Bhagavadacharya Smarak Bhavan (Ayodhya) in August 2021. It will include basic details related to the acharya’s background and activities as well as analysis of his teachings within the frames of his main scope of Vishishtadvaita’s propagation among Hindus in general and Ramanandis in particular.
 382-391
382-391


HISTORY OF PHILOSOPHY
Buddhism as Teaching of the “Axial Age” in the Work of Alexander Men
Abstract
The article analyzes the interpretation of Fr. Alexander Men (1935-1990) of Buddhism as teaching of the “Axial Age”. It is based on his seven-volume work “History of Religion: In Search of the Way, Truth and Life” (1970-1983). First defines the methodology used by Fr. Alexander, which is comparative and hermeneutic in nature. At the same time, he proceeds from a theistic-Christian value position, which, nevertheless, allows him respectfully treats other religious-philosophical traditions. The originality of the author’s interpretation of Buddhism is determined, both its adequate features and one-sided, set by the value orientation. The concepts of transcendence and transcendent are differentiated, which allows conducting a comparative analysis of Buddhism and Christianity, assessments given by Fr. Alexander. The denial of the transcendent in Buddhism does not mean the absence of transcendence, especially in understanding the status of nirvana, which is defined purely apophatically. In the Indian worldview, he finds five essential principles that make Buddhism and Christianity related, despite all the difference in their positions: apophaticism, denial of the highest value of earthly goods, recognition of the high dignity of personal asceticism in spiritual life, the concept of “karma” as retribution (it is the aspect of retribution that is emphasized), the idea of salvation-liberation as the main goal of religion. These principles, in his opinion, “constitute a strong bridge connecting Eastern religious experience with the Gospel”. The work of A. Men contributes to the expansion of the cultural horizon, liberation from both nationalist and Eurocentric points of view, contributes to the development of a dialogue that is so necessary right now. It is noted that the “Axial Age” concept by K. Jaspers as a whole allows avoiding one-sided assessments, revealing the common source of all axial teachings, which can be defined as “a breakthrough to the transcendent”.
 392-401
392-401


Spinoza in the Light of Classical and Contemporary Western Philosophy
Abstract
The article concerns the main lines of reception of the philosophical ideas of B. Spinoza. Estimates of the work of this thinker, his role and importance have undergone significant changes in the course of the development of Western European and Russian philosophical thought. It focuses on the study of the transformations occurred in the approach and nature of evaluations of the main philosophical ideas of Spinoza in the Western European philosophical space, primarily in Germany and France. At the same time, we can state that the peak of interest in the philosophy of Spinoza in these national traditions seriously diverges in time. Initially, we can talk about the predominance of interest in Spinoza’s philosophy on the part of German-speaking thinkers. For a long time, Spinoza’s philosophy was characterized as atheistic and, in connection with this, was subjected to fierce criticism. It is the German enlighteners who are credited with reviving interest in Spinoza’s philosophy at a new level. At the same time, the philosophical views of this thinker not only cease to be assessed as atheistic, but are sometimes perceived in the exact opposite way - as imbued with genuine religious faith. F. Schleiermacher can be considered here as a striking example of such an approach to Spinoza’s philosophy. In the future, interest in Spinoza’s philosophy was maintained in the German-speaking philosophical space due to the reception of his ideas by Hegel, Feuerbach, and Neo-Kantians. In French-language philosophy, interest in Spinoza wakes up much later - in the middle-second half of the 20th century, which is associated primarily with such name as Deleuze. However, this “French Renaissance” of Spinoza’s philosophy can be considered as no less significant than the Renaissance of the age of German Enlightenment. It was “French Spinozism” that brought the study of Spinoza’s philosophy to the international level, significantly expanding their conceptual framework.
 402-417
402-417


Nietzsche, Hamsun, and Sacred Violence
Abstract
This article deals with the analysis of neo-mythological and pantheistic subjects in the works of Friedrich Nietzsche and Knut Hamsun. The analytical comparison of Nietzsche’s philosophical concepts and Hamsun’s literary psychologism is poised to find an underlying understanding of human nature at the confluence of ethics and aesthetics - of goods and beauty, of evil and ugly. A precise definition of the aesthetic categories “Apollonian” and “Dionysian” is carried out based on Nietzsche’s work “The Birth of Tragedy from the Spirit of Music”. The relevance of the Dionysian culture’s phenomena is based on the Nietzschean belief in an Übermensch within the modern mindset. The concept of “Dionysus” finds its continuation in the postmodern philosophy of Georges Bataille and Maurice Blanchot, in such archaic emotional and aesthetic aspects of human essence as violence and sacrifice understood in an extremely abstract sense. The authors stress that modern culture’s interest in violence and sacrifice is rooted in Nietzsche’s idea of Dionysius in the meaning of one of the beginnings of any segment of European culture. The foundations for overcoming postmodernism in the 21st century and the subsequent development of aesthetic views can be found in an attempt to revise the foundation of European culture through rethinking the concept of Übermensch-Zarathustra-Dionysus.
 418-426
418-426


Immanuel Kant “on the Borders” of A. Bely’s Symbolism
Abstract
The occasion of the 100th anniversary of I. Kant’s death was a colossal impulse for many researchers of Immanuel Kant’s legacy. One of the goals of the paper is to introduce one of the less known anniversary critical texts, which appeared in the Russian intellectual milieu. It attempts to disrupt the usual approach regarding the interpretation of Bely’s comprehension of Kant’s legacy, i.e., Kant as a skeleton of philosophy or a police officer of thinking. The paper points to a more systematically conceived scale of Bely’s reflections of Kant. From Bely’s point of view, Kant is the author of firm grounds for the shaping of thought. On the unstable background of philosophy, which during the historical development of thought succumbed to erosion, it is Kant’s philosophy that serves as the stabilizing base. Bely tries to highlight that Kant’s epistemology forms distinctively outlined the foundations of a knowledge of the world and philosophical comprehension not only of history but also of symbolism. The symbolism of Andrei Bely.
 427-438
427-438


PRACTICAL PHILOSOPHY
Digital Dialogue in Learning: Cognitive, Social, Existential Features and Risks
Abstract
Digitalization of socio-cultural phenomena, including the education system, generates transformations of their qualitative characteristics and parameters, which requires research from the standpoint of methodological analysis and assessment of their possible consequences on humans and society. A significant element of the digital environment, in general, and educational, in particular, is the dialogue, the role of which has both cognitive and ideological, existential, social aspects. The purpose of the research is a philosophical analysis of the digital transformation of dialogue in the context of the educational process, an assessment of its potential and impact on the individual. The research methodology has a complex, interdisciplinary character and is associated with the application of an existential approach to understanding the essence of dialogue (M. Bakhtin, M. Buber, G. Marcel, E. Levinas), the theory of the development of individual thinking by L.S. Vygotsky, developed by the author of the theories of electronic (digital) culture and based on modern developments in the field of the introduction of digital tools in education. The study shows that dialogue in the digital learning environment becomes not so much a form of rapprochement, integration of subjects, as a form of autonomy, isolation, individuals, which changes the nature of learning and has social and existential consequences. This creates the need to transform the digital learning environment when using it from the position of supplementing it with ethical, socio-psychological and emotional components and support tools for the student. Based on the existential-axiological analysis, the positive and risky features of digital dialogue as one of the phenomena of electronic culture and online learning tools are revealed. The concept of digital dialogue in learning, the characteristics of its features, functions, role and influence on the learner in the digital environment are presented. The difficulties of dialogic learning characteristic of the digital environment are revealed, recommendations of a methodological and methodical nature for application in the education system are presented.
 439-453
439-453


Moral Sanctions: Two Traditions of Understanding
Abstract
The paper is aimed at providing general outlines of the more than two-century history of the theory of moral sanctions. It rests on a thesis about unity of all disciplines studying morality. The aim of the paper has been achieved trough an analysis of how some basic concepts were borrowed and basic ideas were transformed. The first tradition links moral sanctions with public condemnation. Some of its adherents simply identified public condemnation with moral sanction. This opinion prevailed until the middle of the XXth century. Later it was suggested that a sanction becomes genuinely moral only when a transgressor herself is sensitive to condemnation because she recognizes that she deserves it and feels shame, guilt or remorse. It means that an external side of the sanction has to be complemented by an internal one. The first tradition presupposes a deep and thorough analysis of an external side of the moral sanction, i.e. various forms of sanctioning behavior (avoidance, censure, denunciation, reproach, scolding etc.) The second tradition was initiated by J.S. Mill and H. Sidgwick, it includes among moral sanctions the very negative emotions of self-appraisal. For adherents of this tradition, model and most important moral sanctions are internal: guilt and remorse. Characteristics of internal (autonomous) and external (heteronomous) sanctions were established in the XXth century anthropology. Later this distinction became current in the contemporary ethics.
 454-469
454-469


SCHOLARLY LIFE
 470-477
470-477