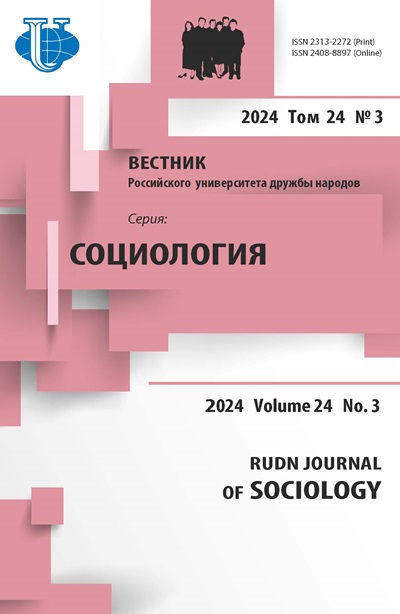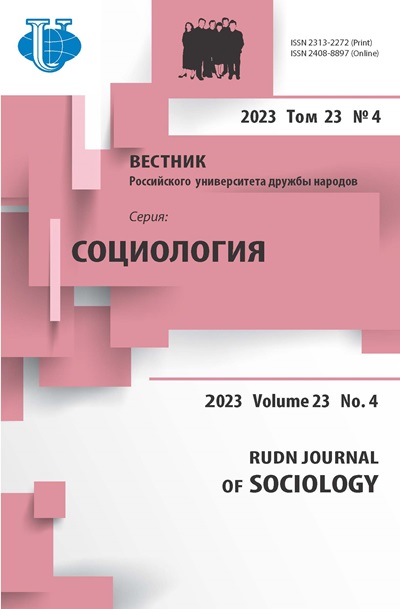Консолидация российского общества в условиях современных вызовов: историко-социологический и ценностно-мировоззренческий контексты
- Авторы: Горшков М.К.1,2, Тюрина И.О.2
-
Учреждения:
- Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Институт социологии ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 23, № 4 (2023)
- Страницы: 720-739
- Раздел: Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/37269
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-4-720-739
- EDN: https://elibrary.ru/FQZJXO
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Гражданская идентичность - один из ключевых ресурсов сплочения российского социума. В ее основе лежит историческое самосознание народа, общая историческая память, солидарная коммеморация значимых исторических событий и достижений государства и общества. Гражданская идентичность российской нации сконцентрирована вокруг советского наследия: российская реальность наполнена советскими реминисценциями и маркерами исторической памяти, многие из которых выступают «скрепами» дифференцированного социального пространства. Однако советский период все более отдаляется, обрастая мифами и упрощенными интерпретациями, обостряется внимание к трактовке неоднозначных событий советской истории, что может повлечь критическую ревизию советской ценностной парадигмы в отношении исторического наследия и политики памяти, стать катализатором центробежных настроений, породить угрозы безопасности и целостности государства. От того, какие маркеры идентичности будут доминировать в массовом сознании россиян и какими будут важнейшие референтные группы самоидентификации, зависит эффективность государственных институтов и перспективы структур гражданского общества. Как следствие, особую актуальность обретает изучение исторического сознания и памяти россиян как базовых начал национального консенсуса, выявление особенностей посткризисного исторического мировоззрения разных групп российского социума. На основе данных мониторинговых исследований ИС ФНИСЦ РАН (массовые опросы, проведенные в 2020-2023 годы на репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке; N = 2000) и комплексного подхода оценивается состояние исторического и ценностного сознания россиян в условиях современных вызовов: интерес к истории и фактическим сведениям о ней, восприятие исторических периодов и ведущих исторических деятелей; отношение к отечественной истории, формированию общероссийской идентичности и к роли в этом процессе семейной памяти; «новое видение» России и ее будущего, тренд на переосмысление обществом идеи перемен и пути развития страны, понимаемого в массовом сознании через концепт самобытной модели мироустройства и цивилизационного суверенитета; представления о ключевых социальных группах, способствующих или препятствующих развитию страны, и задачах, которые предстоит решить на пути созидания России будущего. Основные выводы представлены в статье в виде постулатов.
Полный текст
Одним из ключевых ресурсов сплоченности современного российского общества является гражданская (государственно-гражданская) идентичность — осознание принадлежности к сообществу граждан России, чувство солидарности с ними; образ «мы», объединяющий россиян и определяющий их взаимосвязанность традициями, ценностями, единством исторических судеб и образа жизни, языка и культуры, эмоциональными состояниями, способность действовать сообща, уверенность в поступательном развитии страны [см., напр.: 5; 6; 21 и др.]. В основании гражданской идентичности, в структуре которой выделяют три базовых компонента — когнитивный, ценностный и эмоциональный, лежит историческое самосознание народа — сложный духовно-практический феномен, отличающийся в том числе ориентацией на отсутствие исторической целостности в объяснении и интерпретации событий прошлого, конкретностью, подверженностью политико-идеологическому воздействию и деятельным началом [14. С. 91] и включающий в себя множество разнокачественных (рациональных, нравственных, эстетических, эмоционально-чувственных) элементов: общая память о прошлом и его оценки, осознанное или неосознанное чувство единства исторической судьбы и порожденное им «родство по истории», знание значимых достижений государства и общества, национально-государственных символов, исторических героев и традиций [см., напр.: 1; 7; 11; 15 и др.]. Историческое самосознание народа играет важнейшую роль в определении человеком и группой своей идентичности и потому влияет на выбор политических, социальных и иных предпочтений: «Единое историческое сознание — это целый комплекс… исторических событий, единая оценка которых отточена веками общей исто рической судьбы, а признание этой оценки и обозначает… принадлежность к народу; это и вполне реальное ощущение человеком причастности собственной… судьбы к чему-то большому, значимому, великому, причастности современных поколений к исторической судьбе своего народа, понимание ими собственной исторической и нравственной ответственности за свою землю и свой народ перед прошлыми и будущими поколениями» [13. С. 35].
Историческое сознание — явление устоявшееся, опирающееся на традиционные ценности, идеалы и смыслы, но одновременно и весьма пластичное — поддающееся влиянию изнутри, меняющееся в зависимости от внешних обстоятельств и контекста. Будучи многогранным и многоуровневым, в структуре общественного сознания оно «фиксирует… аспекты стабильности и изменчивости в их временном бытии», совмещает в себе «все три модуса исторического времени — прошлое, настоящее и будущее»: становление исторического сознания происходит в процессе взаимодействия субъекта (социальных общностей и индивидов) с развивающейся исторической реальностью [10. С. 17–20]. Источники формирования исторического сознания — стихийного или управляемого — как разновидности знания обществом своего прошлого и современности разнообразны: историческая память, фольклор, религиозные учения, мифология, официальные государственные концепции, реализуемые через систему образования, культуру, средства массовой коммуникации, научные интерпретации, произведения литературы, искусства и пр. Подвержено оно и влиянию отдельных социальных групп, обозначающих свои исторические приоритеты в качестве «общезначимых», что делает историческое сознание «ареной борьбы различных социально-политических сил с целью утверждения определенных целей исторического развития, ведь борьба за историю — это всегда борьба за настоящее и будущее» [13. С. 33].
Характеризуя суть и содержание исторического сознания как фактора становления современного российского социума, подчеркнем отсутствие единой трактовки данного термина [см., напр.: 3; 12; 14; 19; 22 и др.]. Так, Ж.Т. Тощенко полагает, что «оно представляет собой совокупность идей, взглядов, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии, присущем и характерном как для общества в целом, так и для различных социально-демографических, социально-профессиональных и этносоциальных групп, а также отдельных людей» [23. С. 3]. Ю.А. Левада утверждает, что понятие это охватывает «все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает… свое прошлое… воспроизводит свое движение во времени» [9. С. 305]. Приведенные дефиниции не исчерпывают всего их спектра: в литературе представлены и другие подходы к пониманию содержания исторического сознания — онтологический, гносеологический, аксиологический, антропологический, деятельностный и пр. [см.: 10; 14; 22].
Всплеск интереса к историческому сознанию, его становлению, формированию лежащей в его основе общей исторической памяти — «определенным образом сфокусированного сознания, которое отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим», являющейся «выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства для возможного его использования в деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу общественного сознания» [23. С. 3], был зафиксирован в последние десятилетия на фоне процессов, начавшихся в России на рубеже XX–XXI веков и обусловивших фундаментальные социокультурные изменения — ожививших «историческое чувство», способствовавших переосмыслению истории, переоценке социально значимых ценностей и символов, хранящихся в историческом сознании [12]. Вместе с тем проблематика эта не нова: необходимость обращения к ней и учета многочисленных условий и факторов, влияющих на функционирование исторического сознания и памяти, признавалась еще на ранних ступенях развития общества — в эпоху, когда история воспринималась в качестве «наставника», обеспечивающего образцы для социализации, своего рода «памяти народа», формирующей его сознание, а позже — как способ познания мира, средство просвещения и развития личности [16].
В советский период понятие исторического сознания было разработано в отечественных социально-гуманитарных науках относительно слабо. Научные труды, посвященные его гносеологической природе, взаимосвязи с историческим знанием, закономерностям генезиса и становления, социальной природе и функциям, появляются лишь в конце 1970-х — начале 1980-х годов и носят общефилософский характер. Со второй половины 1980-х годов советское обществоведение обращается к теории исторического сознания как формы сознания общественного, в том числе к выделению его уровней и образующих их компонентов (знание истории, исторический опыт, социальное прогнозирование и пр.), к проявлению исторического сознания в переходный период, значимости исторического сознания, его взаимосвязи с исторической правдой и т.п. Постперестроечный период характеризовался появлением фундаментальных трудов по различным аспектам рассматриваемого феномена: «обществоведческую литературу тех лет, в которой ставились и решались вопросы, связанные с понятием и различными сторонами функционирования исторического сознания, можно условно разделить на три группы: (1) работы, посвященные общим теоретическим проблемам исторического сознания и отдельным его сторонам; (2) философская литература о сущности, содержании, структуре социокультурного кризиса переходного периода, отражающая, в том числе, и характер исторического сознания в сложившихся условиях; (3) философские труды, рассматривающие непосредственно проблему исторического сознания в переходный период отечественной истории» [10. С. 11].
Изучение исторического сознания и памяти не ограничивается их теоре тическим осмыслением — предпринимаются многочисленные попытки рассмотреть их «сквозь призму эмпирики», оценить особенности исторического сознания населения. Однако социологическое измерение состояния и динамики исторического сознания, прежде всего исторических символов и оснований исторической гордости, осуществляется крайне редко. Вместе с тем, как показывают исследования Института социологии (ИС) ФНИСЦ РАН, историческая память оказывает влияние на эмоционально-смысловые структуры идентичности, а через них — на массовое сознание и поведенческие практики. В то же время исторические представления формируют специфическую когнитивную структуру, которую можно определить как исходную матрицу понимания [2]. Преемственность поколений и консенсус в оценке предшествующих исторических эпох — естественные условия социального воспроизводства и конструктивной коммуникации. Это означает, что, если в обществе по каким-либо причинам — социальным или геополитическим — возникает потребность заново отрефлексировать свою идентичность, актуализируется и запрос на определенную интерпретацию истории [2. С. 335].
Многолетние массовые опросы россиян демонстрируют, что гражданская идентичность современной российской нации сконцентрирована вокруг советского наследия. С начала 1990-х годов ключевые символы и поводы коллективной гордости практически не меняются — победа советского народа в Великой Отечественной войне и последующее восстановление страны, великие деятели отечественной науки, культуры и искусства. Реальность россиян полна советскими реминисценциями и маркерами исторической памяти, многие из которых выступают «скрепами» социума. Однако с каждым годом советский период все более отдаляется, обрастая упрощенными интерпретациями, а в ситуации внешнеполитической изоляции России обостряется внимание недружественных ей государств к трактовке неоднозначных событий советской истории, что провоцирует внутриполитические дискуссии о советском наследии, ревизию и пересмотр ценностной парадигмы в части политики памяти, объединяющей этнокультурно многообразный российский социум.
Общее советское прошлое определяет главным образом самосознание старших поколений, тогда как для молодежи оно относится скорее к сфере исторической памяти. Учитывая фиксируемую сегодня тенденцию частичной утраты «глобальными идентичностями» своего влияния, тот особенно заметный в молодежной среде факт, что идентичности эти зачастую уступают чувству общности в группах низовой самоорганизации и регулярной коммуникации, а также падение уровня исторических знаний и сужение культурного кругозора молодых людей, можно утверждать: особую значимость обретают вопросы сохранения исторической памяти как основы культурной преемственности поколений и национально-гражданской идентичности, а, значит, переосмысления гуманитарной компоненты образовательных программ в школах и вузах. Меняется и социальная среда, которая начинает играть роль не столько «хранителя» национальных образцов культуры, языка, традиций и ценностей, сколько «посредника», задающего тематическую направленность межкультурной коммуникации. Это способствует актуализации в этнокультурных группах собственной идентичности, в том числе через поддержку соответствующих политических проектов, и может стать катализатором центробежных настроений и конфликтов.
Акцент на вопросах, связанных с диагностикой массового исторического и ценностного сознания россиян, был сделан научным коллективом ИС ФНИСЦ РАН в период 2020–2023 годов (1). Основные выводы исследований, проведенных в это период, представлены в статье в виде постулатов — положений, которые принимаются за истинные в силу теоретической или практической необходимости, — и соответствующих комментариев (эмпирических обоснований) к каждому из них (2).
- В большинстве своем российские граждане проявляют очевидный интерес к мировой и особенно отечественной истории. Во многом это обусловлено значимой ролью исторического прошлого в консолидации населения как на локальном, так и на страновом уровне, в условиях повышенной опасности и рисков для судеб отечества. Заинтересованность в исторических знаниях заметно выше в группах высокообразованных, хорошо обеспеченных россиян, активно использующих современные информационные технологии. Главные источники исторических сведений практически для всех социально-демографических групп — исторические художественные и документальные фильмы, телесериалы, семейные архивы и Интернет (особенно в молодежной среде) (Табл. 1).
Таблица 1. Источники информации об истории России, сентябрь 2020 года, %
Источники информации |
|
Исторические художественные фильмы и сериалы | 45 |
Исторические документальные фильмы | 40 |
Воспоминания и рассказы родных, близких, семейные истории | 32 |
Интернет-ресурсы, посвященные исторической тематике | 26 |
Исторические романы, художественная литература | 25 |
Посещение музеев, туристические поездки, экскурсии | 24 |
Школьные и вузовские учебники истории | 21 |
Историческая научная литература, исторические исследования | 19 |
Специализированные программы и ток-шоу на телевидении | 13 |
Мемуары, воспоминания видных исторических деятелей | 12 |
Компьютерные игры с историческими сюжетами | 4 |
Историей не интересуются | 17 |
Наряду с этим выделяется «ядро» серьезных почитателей истории (око ло 20 %), для которых основным источником исторических знаний и сведений является научная литература, вплоть до специальных исследований. Существование этой группы сдерживает попытки «пересмотра» и фальсификации отечественной истории: ее представители — по сути, ведущие субъекты адекватного восприятия исторических символов и ключевых событий исторического прошлого.
- В массовом сознании россиян история страны определяется не переходными этапами, связанными с конкретными реформами, правителями или политическим строем, а ключевыми событиями, которые соотносятся с коренными изменениями условий жизнедеятельности людей. Так, переломным событием, определившим ход отечественной истории в советский период, россияне считают Великую Отечественную войну и одержанную в ней героическую победу советского народа (Рис. 1). Что касается досоветской истории, то в представлениях россиян она тесно связана с православием, поэтому определяющее значение для нее имеет Крещение Руси. Среди оказавших значительное влияние на историческое развитие страны событий современности наши сограждане называют прежде всего воссоединение Крыма с Россией.
Рис. 1. События, оказавшие наибольшее влияние на историческое развитие России, сентябрь 2020 года, %
- Одна из тревожных тенденций нашего времени — общее снижение уровня исторической компетентности по мере смены поколений. Данный процесс имеет место практически во всех странах, особенно в молодежной среде. В России его проявления отчетливо коррелируют с переходом к постсоветской школе, основанной на принципе предоставления «образовательных услуг». В целом россияне воспринимают свою историческую компетентность умеренно критически (Рис. 2): вполне компетентным себя видит примерно каждый десятый, а это в два раза меньше доли опрошенных, которые интересуются событиями и явлениями прошлого. Немногим более половины полагают, что имеют об отечественной истории общее представление, примерно треть считает себя малосведущими в исторических вопросах.
Рис. 2. Как россияне оценивают свое знание истории России, сентябрь 2020 года, %
- Всеобъемлющая цифровизация и информационная открытость создают благоприятные условия для поиска заинтересованными гражданами достоверных исторических фактов и их источников, прежде всего о прошлом своей семьи. Восстановление разрушенной историческими перипетиями семейной истории и фамильной памяти оборачивается порой неожиданными находками, в том числе свидетельствующими об исторической несправедливости в отношении членов семьи: знание семейной истории, информированность об участии родных в знаковых исторических событиях питают чувство гордости за историю страны, а отсутствие семейной памяти делает ее восприятие более драматичным. В семейном опыте значительного числа россиян пересекаются противоречивые оценки одних и тех же исторических периодов, что, однако, не приводит к неоправданно критическим оценкам прошлого, а, напротив, мотивирует к его познанию и принятию, не фокусируясь на травмирующих событиях национальной истории. Подавляющее большинство россиян (86 %) интересуется историей своей семьи, причем каждый третий — деятельно, стараясь узнать новые факты биографии родных.
- В российском обществе растет и укрепляется убежденность, что от трактовки прошлого зависит будущее, поэтому «борьба за прошлое» имеет огромное политическое значение, в том числе международное. Россияне в большинстве своем настаивают на противодействии искажению исторической правды, особенно если речь идет о Великой Отечественной войне: около 40 % объявляют себя сторонниками решительной полемики с теми, кто допускает фальсификацию исторических фактов, еще треть предпочитает популяризировать понимание истории в фильмах и литературных произведениях, в СМИ и социальных сетях — в сумме это свыше 70 % опрошенных. Порядка 8 % россиян предлагают не обращать внимания на недоброжелателей, и только один из двадцати пяти готов безоговорочно принять критику в адрес страны.
Значительная доля россиян (чуть менее 40 %) полагает, что историческое знание специфично и не относится к категории «вечных истин», поэтому оценки исторических личностей и событий могут меняться. Вместе с тем каждый второй испытывает потребность в устойчивых ориентирах и «общем историческом нарративе», считая необходимым наличие универсальных оценок по крайней мере в отношении основных исторических вех и эпизодов. Тем самым социологическая диагностика фиксирует общественный запрос на целостную интерпретацию ключевых исторических фактов и символов отечественной истории.
Не менее важно и то, что попытки убедить российское общество в необходимости пересмотра и переоценки истории страны на основе ее западных версий не встречают поддержки у подавляющей части россиян и зачастую, в условиях резкого обострения отношений между Россией и Западом, объясняются злонамеренными мотивами — от стремления преуменьшить российский вклад в мировую историю до намерения спровоцировать на постсоветском пространстве конфликты. Лишь пятая часть опрошенных (19 %) допускает, что исторический ревизионизм в отношении России обусловлен желанием донести до общественности достоверную информацию.
В контексте проблемы исторической правды встает вопрос об интеллектуальной и гражданской честности. Отстаиваем ли мы принятую в России версию истории потому, что она «наша»? Или важнее ее соответствие действительности? Как следует из данных в Таблице 2, доля сторонников отказа ворошить трагические страницы отечественной истории, поскольку это раскалывает общество и мешает его консолидации, составляет около 30 %. Тех же, кто отдает приоритет исторической правде как полной и честной картине хода событий, как бы горька она ни была, почти в два раза больше, что говорит о выраженном запросе россиян на историческую достоверность и справедливость в условиях «непроясненности» в обществе отдельных сюжетов истории страны.
Таблица 2. Суждения о соотношении истории и политики, сентябрь 2020 года, %
Суждения |
|
Нельзя постоянно «ворошить» трагические страницы нашей истории, это только раскалывает общество и мешает его консолидации | 29 |
Нынешнему поколению россиян нужно полнее и честнее рассказывать и о героическом прошлом страны, и о трагических страницах истории России и СССР | 61 |
Затруднились ответить | 10 |
- В российском социуме нарастает тренд на деидеологизацию истории, который проявляется в двух направлениях: в снижении в общественном мнении остроты противостояния советских и «антисоветских» версий интерпретации отдельных исторических периодов; в изменении доминирующих позитивных или негативных оценок роли ключевых политических деятелей в истории страны. Этот процесс не означает завершения идеологического противостояния в «персонально-историческом» контексте, поскольку продолжающиеся острые идеологические дискуссии фокусируются сегодня и на актуальной повестке, и на том, что происходило в прошлом. Это говорит о необходимости регулярного социологического мониторинга восприятия обществом отечественной истории. Накопилось немало аргументов в пользу того, что такой мониторинг — эффективный инструмент социальной диагностики состояния государственно-гражданской идентичности и ее влияния на массовое оценочно-ценностное отношение к событиям и процессам как прошлой, так и сегодняшней действительности.
Историческое сознание, включающее историческую память и восприятие национально-государственной символики, не только выступает в качестве основания гражданской идентичности, но и органично связано с ценностно-мировоззренческим осмыслением современности через призму как общественных, так и индивидуальных интересов. Следующие постулаты обосновывают роль оценочно-ценностных и идейно-мировоззренческих составляющих в консолидации российского социума.
- После того, как с начала 2000-х годов пошло на спад увлечение части общества идеями либерализма и построения демократии по западным образцам, в массовом сознании стало укрепляться новое видение России и ее будущего. Путь, которым следует сегодня страна, оценивается большинством ее граждан как верный, а в перспективе — ведущий к положительным результатам (74 %). Около 40 % настроены на перемены в обществе, значит, нынешний курс соответствует запросу как тех, кто ожидает перемен, так и тех, кто ориентирован на стабильность. При этом наблюдается новое прочтение, своего рода переосмысление обществом самой идеи перемен и пути развития страны, их взаимосвязи: еще три года назад «перемены» означали для многих поиск иного курса, а сегодня выбранный путь и «перемены» более не противоречат друг другу. Нынешний «путь» России — это в значительной степени ожидаемые «перемены».
Из образа этого «пути» уходят смыслы, связанные с движением страны в направлении прозападной модели развития. 8. В настоящее время путь России понимается в массовом сознании как самобытная модель мироустройства и цивилизационного суверенитета (78 %; только 22 % полагают, что Россия должна жить по тем же правилам, что и западные страны). Подобное понимание характерно для всех возрастных групп, кроме части молодежи до 25 лет (Рис. 3). Не отрицая ценности идеи демократии (при этом 65 % согласны, что индивидуализм, либерализм и западная демократия представляют собой ценности, россиянам не подходящие), российское общество переосмысливает ее основные принципы, относясь к ним куда более адекватно, чем это предполагает демократия западного образца. Соглашаясь с тем, что демократия невозможна без оппозиции, россияне, тем не менее, хотят видеть в последней не политическую альтернативу действующей власти, а конструктивного партнера властей. Отношение к закону носит для большинства опциональный характер: практически все годы постсоветских реформ приоритетом является справедливость. По мнению многих россиян, свобода слова для СМИ и блогеров может быть ограничена, если они нарушают интересы государства. Разумеется, в обществе есть и те, кто последовательно придерживается демократических ценностей в их западном варианте, однако они составляют меньшинство (не более четверти опрошенных).
Рис. 3. Установки на прозападную или особую российскую цивилизационную модель, март 2022 года, %
- Как в результате воссоединения Крыма с Россией, так и в настоящее время, в ходе проведения СВО на Украине, имеет место консолидация российского общества по ключевым вопросам настоящего и будущего страны. Динамика показателей ценностно-мировоззренческого сознания россиян после событий двух рубежных годов — 2014 и 2022 — отражает сходные представления о консолидации на фоне решительных действий международного значения, предпринимаемых Россией: укрепляется уверенность, что страна идет в правильном направлении, усиливается поддержка власти; вне рамок общественного согласия по важнейшим вопросам дальнейшего развития и устройства страны остаются россияне, не поддержавшие проведение СВО на Украине, — группа сравнительно небольшая, и до событий 2022 года выделявшаяся неприятием политического курса страны. Есть и еще одно важное обстоятельство — из сложившегося в 2022 году мировоззренческого консенсуса «выпадает» часть российской молодежи в возрасте до 25 лет, чем нынешняя обстановка отличается от ситуации 2014 года: тогда многие молодые россияне хотя и были в чем-то более критичны и либеральны, но в целом придерживались тех же базовых оценок, что и общество в целом, а сегодня они находятся в особой позиции (Рис. 4), полагая, пусть и не в большинстве своем, но чаще, чем представители остальных возрастных групп, что нынешний путь ведет страну в тупик, и ей следует жить по тем же правилам, что и современные зарубежные страны.
Рис. 4. Динамика оценок основного вектора развития страны, март 2022 года, %
- Смысложизненные установки россиян, касающиеся жизни человека и принципов, которыми он руководствуется, демонстрируют более высокую устойчивость по сравнению с представлениями о векторе развития страны, ее цивилизационной модели и государственном устройстве. «Смыслы для себя» менее подвержены изменчивости и составляют тот мировоззренческий базис, на который люди опираются в условиях высокой социальной турбулентности. Тем не менее, и в «смыслах для себя» наблюдаются некоторые изменения: они не ярко выражены количественно, но их согласованность свидетельствует об общем тренде, в котором проявляется защитная реакция общества на текущую ситуацию. С одной стороны, снижается восприятие себя как самодостаточных «кузнецов своего счастья». С другой стороны, усиливается внешний локус контроля — осознание себя как зависимых от государственной поддержки и внешних обстоятельств. Анализ структурных изменений, образующих тренд на снижение субъектности, демонстрирует, что наиболее уязвимы и подвержены им малообеспеченные россияне, жители глубинки, прежде всего поселков городского типа, а также когорта 46–55 лет. В атмосфере сужения пространства субъектности укрепляется значимость свободы — повышенная чувствительность к ней фиксируется в группах, испытывающих дефицит свободы в разных смыслах этого слова. Во-первых, это «лояльные западники» (декларирующие поддержку власти и пути, по которому идет страна, но желающие при этом видеть Россию устроенной по модели западной демократии) и те, кто полагает, что основные угрозы для России находятся внутри страны. Во-вторых, это те, кто испытывает «несвободу действий», прежде всего 26–35-летние россияне, заменившие под давлением внешних обстоятельств установку на самоактивность и самореализацию на приспособление к сложившейся ситуации.
Выявленный тренд на снижение субъектности выводит на постулат 11: последние девять лет (с весны 2014 года), которые сопровождались кризисами разной природы и санкционной войной против России, болезненно сказались на материальном положении подавляющего большинства россиян. В наименьшей степени пострадали полярные доходные децили — самые бедные (благодаря государственным мерам помощи бедным и малообеспеченным) и наиболее высокодоходные (благодаря высокой ресурсообеспеченности, позволяющей успешно адаптироваться к новым условиям). Результат — доходное неравенство населения в массовых слоях остается глубоким: разрыв медианных доходов верхнего и нижнего децилей шестикратный (Рис. 5). В наибольшей степени — и объективно, и субъективно — от турбулентности последних лет пострадало материальное положение низко- и среднедоходных слоев.
Длительное ухудшение материального положения значительной части россиян (включая период пандемии) весьма опасно, поскольку его негативная динамика сказывается на восприятии текущего положения дел — как в катастрофической оценке ситуации в стране в целом (8 %), так и в отношении к санкциям Запада. Это означает, что, во-первых, негативные умонастроения и оценки базовых жизненных аспектов носят главным образом не идеологический, а прагматически-утилитарный характер; во-вторых, расширение группы с нисходящей динамикой материального положения может способствовать более масштабному распространению негативных установок.
Рис. 5. Медианные среднедушевые доходы в децилях массовых слоев (2022, руб.)
Если укрупнить разные стороны жизнедеятельности в несколько блоков, отражающих повседневную жизнь людей, различные аспекты их занятости, место в социальной иерархии, отношения с ближайшим кругом и то, чего человек ожидает от повседневной жизни, то вырисовывается неудовлетворенность россиян взаимодействием с обществом в целом, с действующими в нем институтами макроуровня и результатами их функционирования. Это недовольство не только ситуацией у себя на работе, но и возможностями выражать свои взгляды, получать качественную медицинскую помощь, иметь социальные гарантии в случае утраты рабочего места и пр. Что же касается оценки своего положения в социальной иерархии, то в массе своей россияне им удовлетворены. 7 % ощущают себя социальными аутсайдерами, для них характерно более мрачное видение своего будущего и в целом тяжелое социально-психологическое состояние с доминированием чувств беспокойства, страха, отчаяния или паники. Ощущающие себя социальными аутсайдерами резко критичны по отношению к реализуемой сегодня стратегии развития России. В этом отношении они, как бы парадоксально это ни выглядело, солидаризируются с некоторыми «звездами» российского шоу-бизнеса, оказываясь с ними, хотя и по разным причинам, в едином маргинальном «вне-мейнстриме» в отношении к СВО.
- В российском обществе сравнительно давно сложился консенсус относительно ключевых социальных групп, способствующих или препятствующих развитию страны. Помимо крестьян и рабочих, к способствующим большинство относит предпринимателей, средний класс, молодежь, военных и руководителей предприятий. Как следует из данных Таблицы 3, положительная роль интеллигенции признается сегодня заметно реже, что может говорить о невыполнении ею в глазах общественного мнения тех социальных функций, которые на нее возлагаются. Не улучшает ситуацию и реакция части отечественной интеллигенции на проведение СВО.
Таблица 3. Мнение россиян о влиянии на развитие страны разных социальных групп, март 2022 года, % (3)
Социальные группы | Способствуют развитию | Препятствуют развитию |
Рабочие | 94 | 5 |
Крестьяне | 93 | 6 |
Средний класс | 92 | 7 |
Предприниматели | 90 | 10 |
Молодежь | 88 | 11 |
Военные | 83 | 16 |
Руководители предприятий и фирм | 80 | 19 |
Интеллигенция | 78 | 21 |
Сотрудники правоохранительных органов | 65 | 34 |
Государственные чиновники | 42 | 57 |
Неожиданно, что при довольно высокой степени консенсуса относительно доверия ключевым институтам и роли в развитии страны основных социальных групп, россияне сравнительно невысоко оценивают уровень взаимовыручки в обществе — в среднем на 5 из 10 баллов, что не согласуется с уровнем доверия ближайшему окружению и объективными показателями готовности наших сограждан прийти на помощь друг другу, которые, напротив, очень высоки. Практически все россияне рассчитывают на получение хотя бы хозяйственно-бытовой помощи и готовы оказывать ее сами, что объективно свидетельствует о высоком потенциале взаимовыручки (повсеместное расширение волонтерского движения, различных благотворительных и гуманитарных акций). Уровень межличностного доверия среди россиян также высок (Табл. 4): наибольшим доверием пользуются представители ближайшего круга — семья, родственники и друзья. За период 2022–2023 годов уровень межличностного доверия («доверяют полностью»), особенно самым близким, несколько снизился, что, видимо, отчасти объясняется неоднородностью отношения к событиям на Украине.
Таблица 4. «Насколько Вы доверяете своему ближайшему окружению?», 2021–2022, %
Окружение | Доверяют | Доверяют отчасти | Не доверяют | В окружении таких нет | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Члены семьи | 91 | 88 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Родственники | 69 | 62 | 29 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Друзья | 56 | 49 | 40 | 44 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Коллеги | 18 | 18 | 49 | 50 | 13 | 16 | 20 | 16 |
Соседи | 18 | 14 | 55 | 55 | 25 | 29 | 2 | 2 |
- Обращаясь к задачам, которые обществу предстоит решить на пути созидания России будущего, большинство, как и ранее, выдвигает на первый план борьбу с коррупцией (42 %), в разряд несомненных приоритетов («тройку лидеров») входит создание эффективной наукоемкой экономики (36 %) и преодоление избыточных социальных неравенств (35 %). В последние годы заметно увеличилась доля россиян, указывающих в числе основных приоритетов укрепление суверенитета России и ее позиций на мировой арене (с четверти до трети — в 2021 и 2022 году соответственно). Уменьшение санкционного давления на страну, похоже, не является для большинства предметом особой озабоченности. В целом сложившиеся в массовом сознании представления об актуальных задачах, стоящих перед страной, на протяжении двух десятилетий практически не менялись: помимо названных к ним относятся обеспечение равенства всех перед законом (31 %) и увеличение бюджетного финансирования социальной сферы (медицины, образования, культуры) (30 %). Вопросы либеральной повестки (демократическое обновление, расширение прав и свобод, возможностей для предпринимательства и т.п.) остаются на периферии внимания и не воспринимаются как значимые в плане коллективного целеполагания.
Традиционные социально-демографические характеристики — род занятий, уровень доходов, место проживания и т.п. — в большинстве своем оказывают на социальные установки и политические умонастроения незначительное влияние: сторонники разных представлений о желаемом будущем России распределены по перечисленным категориям в примерно одинаковых долях. Самым сильным и значимым сегментирующим признаком выступает личный выбор между двумя принципиально разными стратегиями развития страны: одна группа составляет явное меньшинство (15 %) (условные «новые западники») и желает, чтобы Россия следовала по западному пути; другая группа охватывает подавляющее большинство (условные «государственники»), предпочитающее собственный, самобытный путь развития страны.
Две указанные группы отличаются восприятием нынешнего миропорядка и видением того, какие действия в будущем следует предпринять. «Новые западники» выделяются оторванностью от исторического прошлого страны, демонстрируют недоверие ко всем уровням власти, чувствительны к вопросу защиты прав и свобод человека и не способны мириться с ущемлением прав меньшинств ради защиты интересов и прав большинства, чаще других не поддерживают государственные решения последнего времени и убеждены, что Россия в принципе идет не тем путем. «Государственники», наоборот, глубоко чтят историю, причем не только страны, но и своей семьи. Историческая память выступает, по их мнению, одной из важнейших основ социальной солидарности. Будучи лояльными властям и доверяя их решениям, «государственники» чаще поддерживают внешнеполитические решения последнего времени и не опасаются западных санкций, полагая, что они принесут российской экономике пользу. «Государственники» — основные сторонники большей централизации власти в стране, они исходят из того, что только государство, опирающееся на внутренне сплоченный социум, способно отстоять право России быть сильной и процветающей.
Примечания
(1) Массовые опросы населения были проведены осенью 2020 года, весной 2021–2022 годов и летом 2023 года по репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке. Объем выборочной совокупности — 2000 респондентов, репрезентирующих взрослое население (18+) по параметрам пола, социально-профессионального статуса, образования и типа населенного пункта проживания.
(2) Анализ результатов исследований и сделанные на их основе выводы см. в [8].
(3) В таблице не указаны затруднившиеся с ответом, поэтому сумма ответов по строке может быть меньше 100 %.
Об авторах
Михаил Константинович Горшков
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН; Институт социологии ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: m_gorshkov@isras.ru
доктор философских наук, академик Российской академии наук, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, директор Института социологии ФНИСЦ РАН ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, Москва, 117218, Россия; ул. Большая Андроньевская, 5, стр. 1, Москва, 109544, Россия
Ирина Олеговна Тюрина
Институт социологии ФНИСЦ РАН
Email: irina1-tiourina@yandex.ru
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник научно-организационного отдела ул. Большая Андроньевская, 5, стр. 1, Москва, 109544, Россия
Список литературы
- Андреев А.Л. Историческое самосознание. Теория. История. Практика. Красноярск, 2002.
- Андреев А.Л. Историческое самосознание современного российского общества // Вестник РАН. 2021. Т. 91. № 4.
- Воробьева И.В. Историческая память и историческое сознание россиян: современное состояние и тенденции // Труды СПбГИК. 2015. Т. 208.
- Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Историческое сознание молодежи // Вестник РАН. 2010. Т. 80. № 3.
- Дробижева Л.М. Российская идентичность: поиски определения и динамика распространения // Социологические исследования. 2020. № 8.
- Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Общероссийская идентичность в социологическом измерении // Вестник российской нации. 2021. № 1-2.
- Историческая память и российская идентичность / Под ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М., 2018.
- Историческое сознание россиян: оценки прошлого, память, символы (опыт социологического измерения) / Под ред. М.К. Горшкова. М., 2022.
- Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Памяти Юрия Александровича Левады / Сост. Т.В. Левада. М., 2011.
- Леопа А.В. Историческое сознание в условиях социокультурного кризиса. Красноярск, 2011.
- Мерзлякова И.Л. Историческое сознание российского общества в условиях социально-политической модернизации в конце XX - начале XXI вв. М., 2021.
- Мерзлякова И.Л. Функции исторического сознания в условиях модернизации современного российского общества // Вестник ДонГТУ. 2012. Т. 12. № 4.
- Перевезенцев С.В. Историческое сознание: опыт типологизации // Словесноисторические научные чтения им. Т.Н. Щипковой. Гуманитарные науки и отечественное образование. История, преемственность и ценности / Под ред. А.В. Щипкова. М., 2020.
- Пичугин В.Г. Историческое сознание общества: основные подходы к определению методологического статуса // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2022. Т. 11. № 3А.
- Приходько Е.А., Лебедева С.О. Историческая память и историческое сознание // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2010. № 1.
- Путилова Е.Г. Историческое сознание и историческая память: соотношение понятий на современном этапе // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10. Ч. II.
- Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. 2004. № 5.
- Репина Л.П. События и образы прошлого в исторической и культурной памяти // Новое прошлое. 2016. № 1.
- Репинецкая Ю.С. К вопросу о содержании понятий «историческое сознание» и «историческая память» // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 1.
- Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А. Направления исследований исторической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2014. № 2.
- Содержательные основы российской идентичности. Региональный и этнокультурный контексты / Отв. ред. Е.М. Арутюнова, С.В. Рыжова. М., 2021.
- Сыров В.Н. В каком историческом сознании мы нуждаемся: к методологии подхода и практике использования // Вестник ТГУ. История. 2013. № 1.
- Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.
Дополнительные файлы