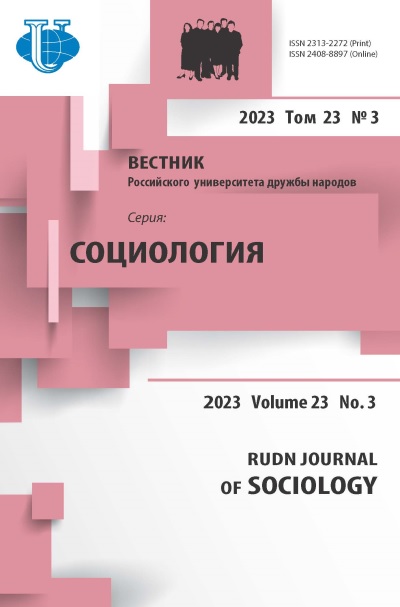Герои и героизм как репрезентации коллективной памяти
- Авторы: Подлесная М.А.1, Шевченко О.К.2, Ильина И.В.3
-
Учреждения:
- Институт социологии ФНИСЦ РАН
- Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
- Тюменский государственный университет
- Выпуск: Том 23, № 3 (2023)
- Страницы: 503-524
- Раздел: Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/36333
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-3-503-524
- EDN: https://elibrary.ru/WXMCXE
- ID: 36333
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлены результаты междисциплинарного философско-социологического исследования героизма. В теоретической вводной части проведен семиотический анализ понятия героизма с точки зрения концепта хронотопа в западноевропейской культуре, обозначены константы отечественной семантики понятий героя, героизма и героического, прослежена динамика изменения смыслов героического, поступка и подвига. Социологический подход, продолжая философское осмысление героизма, рассматривает данный феномен через социальное отношение, следуя в заданном Н.К. Михайловским направлении. Для осмысления связи героя и толпы задействованы такие социологические подходы, как креативная и реляционная теории социального действия и положения реляционной социологии П. Донати. В эмпирической части представлены результаты социологического опроса 1350 россиян разных поколений в восьми федеральных округах. Основная цель статьи - рассмотрение понятий героя и героизма как репрезентаций коллективной (исторической) памяти. Эмпирическое исследование состояло из двух разделов: один посвящен коллективной памяти россиян и историческим знаниям, второй - героям и героизму в оценках советского и постсоветского поколений. Результаты первой части опроса показывают в целом угасание коллективной памяти, причем события более древней истории вызывают меньше интереса и по ним меньше знаний, чем, например, по советскому периоду. Превалирующая часть значимых событий российской истории воспринимается как триумфальная, а не травматическая, а большинство военных кампаний, в том числе нынешних, - через фигуру победителя, а не побежденного. По мнению респондентов, героизма в прошлом было больше. Героизм связывается с такими качествами личности, как сила, активность, чувство долга, спасение других не ради корысти, способность не опустить руки даже в самой сложной ситуации. Сам герой воспринимается не только как спаситель, но и как правдолюбец, что особенно значимо для советских поколений.
Полный текст
В последние годы тема героизма становится все более актуальной, о чем говорят и опросы общественного мнения. Так, по данным ВЦИОМ от 22 декабря 2022 года, специальная военная операция стала основным событием года для 62 % россиян, и появился запрос на «героя-защитника страны», в качестве которого военнослужащий в горячих точках (54 %) назывался в 2,7 раза чаще, чем годом ранее, второе место заняли медики, третье — спасатели МЧС. Характерно, что сегодня герой для россиян — это человек, готовый принять удар на себя во время пандемии или военных действий [7], т.е в ситуации повышенного риска и опасности.
Примечательно, что тема героизма уже звучала на рубеже XIX–XX веков в отечественной и зарубежной научной литературе и связана, прежде всего, с работами Н.К. Михайловского и Г. Лебона. Два независимых исследования, которые методологически были выстроены по-разному (Михайловский был сосредоточен на своем «субъективном методе», Лебон — на методе наблюдения), имели нечто общее — рассматривали те социальные вызовы, которые во многом определили интерес к героизму. Для Михайловского это была реакция на последствия таких общественных событий, как «холерные беспорядки» (показали недоверие народа к власти в ситуации карантинных мер и ограничений, сегодня таких «бунтовщиков» назвали бы антиваксерами) и еврейские погромы. В этой реакции проявилось не только «постреформенное разочарование русской либерально-демократической интеллигенции», но и «наступление “века масс” взамен ожидаемой эпохи “просвещенного народа”» [4. С. 11–12]. Триггером исследовательского интереса Лебона к толпе и ее героям также стали западноевропейские события конца XIX века, в том числе детские переживания периода Парижской коммуны 1848 года, который свидетельствовал о массовом протестном движении и неизбежном наступлении «века толпы» [4. С. 11].
В отечественной традиции изучения героизма, заложенной Михайловским, во главу угла ставятся «отношения героя и толпы» [4. С. 15], т.е. герой и толпа неотделимы друг от друга и рассматриваются в определенной связке. Исследователя интересует, прежде всего, характер этих отношений, который либо способствует, либо ограничивает проявление индивидуальности (народ и толпа у Михайловского различаются). Подходя к изучению героя безоценочно, не наделяя его исключительно положительными качествами, Михайловский так определяет его главную черту: герой — тот, кто «первым “ломает лед” …делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы со стремительною силою броситься в ту или другую сторону» [18. C. 285]. Для него герой важен не как проводник этических принципов или иных идеалов, а тем эффектом, который он оказывает на массовое сознание и движение. Подобный универсальный взгляд на героя предлагает нам, в научном плане потомкам Михайловского, либо продолжить эту исследовательскую традицию, либо дать иное определение герою. Эта задача тем интереснее, что могут происходить как диахронные, так и синхронные изменения героизма, и крайне важно понять, что в итоге остается неизменным, а что корректируется [25].
Мы решили исследовать героизм в двух равнозначных для нас плоскостях — теоретическое осмысление и эмпирическая оценка социальных представлений о героизме. Мы предположили (в отличие от Михайловского, у которого герой носит универсальный характер и наделен способностью давать импульс толпе), что у каждого поколения есть свои герои и свои представления о героизме, введя в исследование так называемую диахронную переменную. В результате наша работа была разделена на два этапа: теоретический анализ и анализ эмпирических данных разведывательного исследования.
Начнем с ответа на вопрос, насколько героизм универсален — для всех цивилизаций, культур, наций и этносов всех времен. Можно ли если не отождествлять, то уподоблять языческий героизм Гильгамеша в поисках бессмертия с, например, христианским героизмом апостола Павла, также жаждавшего бессмертия? И стоит ли вводить фактор «бессмертие» («смерть») в контекст универсального героического явления, или же это локальный оттенок героического действия, характерный, например, для средиземноморского ареала, но чуждый доколумбовым цивилизациям Южной Америки? С формальной точки зрения ответ «да»: там и там героизм; фактор смерти всегда важен для героического поступка; во всех культурах и цивилизациях есть страдающий герой, а апофеоз страдания — смерть (тип смерти и вариации послесмертия не существенны для универсального взгляда на проблему, это локальные отличия). Везде и всегда идет напряженный поиск бессмертия, а различия в фактуре поступков — следствие разницы времен и цивилизаций. О метафизической стороне дела можно не упоминать — это все та же «малозначащая» специфика отдельной цивилизации (даже при обращении к святости акцент делается не на теологии или догматике, а на внешних актах мученичества/ преданности идее [10. C. 70]). По крайней мере так выглядит героизм в рамках европоцентричного историко-семантического анализа, который выступает нормой для тотального большинства исследователей как в контексте осмысления методологии [2. C. 168–171], так и в специализированном историческом исследовании [10].
Героизм есть некое состояние или свойство определенного лица, которое обязательно фиксируется в некоем неписанном реестре, необходимом для коллективного признания действий героическими. Лицо это чаще всего индивидуально-физическое, но допускается, хоть и редко, коллективное лицо (социальный класс, город, этнос, нация, государство). Разумеется, в древнейшем прошлом, когда формировались структуры мифа, а позднее фиксировались в письменных источниках, такого фундаментального различия не наблюдалось, что позволило, например, создать реестр единых первофрагментов для разнообразных мифо-религиозных сюжетов [16. C. 3]. Можно обнаружить ряд шаблонов в европейском язычестве и авраамической традиции и поместить туда героев [14], но данная схема не будет, например, работать для Японии. Но мы ведь говорим о универсуме единого пространства-времени, поэтому выход видится в проработке собственной историко-этимологической линии и выведении констант отечественной семантики героя, героизма и героического — только после этого имеет смысл сравнивать и выходить на мировую философско-семантическую арену в поисках совершенствования собственных смыслов.
Необходимость такого подхода подтвердила дискуссия специалистов в области героического, прошедшая несколько лет назад в Москве. Участники были буквально смяты мощной, продуманной и обоснованной (шестисотстраничными академическими трудами) англофильской концепцией героического: «Карлейл, Кэмпбелл… Джордж Лукас стали источниками смысловых сфер героического, проблемы технологии создания героев, разницы героев “серого большинства” и “аристократического большинства”, трансфера от героя к знаменитости (селебрити) и обратно» [11. C. 200–201].
В противовес мы предлагаем концепцию хронотопа, восходящую к текстам Бахтина [3]: «хронотоп героя» — это исследовательская конструкция, позволяющая определить пространственно-временную фактурность героического как ризоматическую сеть техник явленности героического в нарративах (в социально-философских текстах и в повседневных практиках). В функционировании героической сети и процедурах построения разнородных хронотопов героя важно восприятие героического (геройского) с позиций естественного языка. Мы опираемся на работы Хайдеггера, определявшего язык как «Дом Бытия», Бибихина — с его «словом как голосом события», Лакана, утверждавшего, что «бессознательное структурировано как язык», и устойчивое мнение отечественных исследователей [12. C. 1]. Речь идет о разнице не дефиниций, а смысловых полей лексемы, ее пространственно-временного осознания, интуиций героического в разных языках. Нарратив формирует особую конфигурацию взаимоотношений между временем и пространством героического в том или ином формате. Нарратив создает смыслы для наблюдателя (в фукольдианском понимании — как теоретика, агента практической реализации отношений и повседневного потребителя нарратива на уровне обыденного сознания) в пределах его (наблюдателя) естественного языка. Значит, возможности пространственно-временной определимости героического в конкретном языке задают пределы нарратива и точки конфликтов национальных нарративов. Классический пример — стратегии конструирования, восприятия, бытования, эмоционального оклика, эстетического выражения и т.п. советского/американского/китайского/французского героя и т.д.
То, где бытуют хронотопы героев, — регион бытования, и с онтологической очевидностью его уместно разделить на участок дисциплины и участок действия. Участок дисциплины — это пространство, где взаимодействуют системы понятий, представлений, образов и метафор о пространственно-временных характеристиках героического. Средой формирования, распада и трансформации систем понятий является нарративное поле дисциплины, т.е. среда, где идут процессы формирования пространственно-временного представления о героическом. Участок действия имеет событийный формат — это реальное пространственно-временное бытие героев и героического как бытие сущего.
Иными словами, единого явления «герой» или «героическое» не существует — речь идет о некоем исследовательском конструкте, крайне чувствительном к естественному языку, нарративной среде формирования героического и каналам передачи пакетов информации от события (участок действия) к идеалу (участок дисциплины).
Хронотопы могут сосуществовать, схлопываться, растворятся, поглощаться, соприкасаться, но проследить их линейную эволюционную преемственность крайне маловероятно, практически невозможно в силу разнесенности исходных данных — от языка до эмоциональных констант этноса или культурно-исторического типа. Достаточно условно, используя естественный язык, мы сможем уяснить некие предельные основания бытования хронотопов в рамках того или иного поля, т.е. определить внешние контуры группы хронотопов.
Так, для русского мира можно обозначить следующую пунктирную границу: до XVIII века термин «герой» в русском языке отсутствовал; с точки зрения специалистов XIX века его следует пояснять через термин «богатырь древнейших времен» или «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец» (согласно В.И. Далю). Следовательно, героизм как видимый атрибут героя, его состояние и отпечатывающиеся в бытийном пространстве «следы» до XVIII века был лишен французских наслоений. Позже происходит диффузия как минимум двух хронотопов — до заимствованного и после заимствованного. Очевидно также, что витязь домонгольской Руси и его героизм отличается от богатыря (наслоение тюркско-степного смысла «батыр») эпохи до создания московского государства Иваном III и т.д. вплоть до настоящего дня. Герой-витязь живет в ином пространстве деяний, его время свершений принципиально иное, чем, например, у героя-стахановца советской эпохи. Однако уже в годы Великой Отечественной войны эти понятия сливаются: «Из одного метала льют медаль за храбрость и медаль за труд».
Вернемся к вычерчиванию предельных контуров героизма посредством естественного языка. Для этого мы обратились к словарю ассоциаций, выбрав из множества ответов первые пять, которые выдает система анализа (табл. 1). Очевидно, что героизм (герой, героическое) в русском языке принципиально не соотносится, например, с понятием подвижничество: в первом случае поступок ограничен социальным пространством и структурой бытия, связан с насилием над другими, а во втором случае решающее значение имеет долгий поступок, становление и возрастание в реальности путем насилия над своим естеством. Соответственно, реальность подвига не есть геройский поступок — это совершенно разные бытийные структуры. Скажем, подвиг имеет большую длительность — вплоть до бесконечности: «Ваш подвиг будут помнить всегда» (но странно звучит фраза «Ваш геройский поступок будут помнить всегда»). Также присутствует пространственная разница — подвиг более объемен, масштабен: подвиг 28 панфиловцев или подвиг под Сталинградом — деяния, отражающиеся в физическом и морально-психологическом масштабе на всю войну, а поступок рядового Иванова, не бросившего товарища в битве под Смоленском, — геройский.
Таблица 1. Героизм в значениях естественного языка
Каким бывает героизм | Что может героизм; что можно сделать с ним | Ассоциации | Синонимы | Гиперонимы |
массовым | стыдиться | борьба | геройство | способность |
настоящим | проявить | бой | доблесть | качество |
беспримерным | пропасть | поле |
| черта |
трудовым | существовать | война |
| добродетель |
личным | заслужить | битва |
|
|
Таким образом, все, что выходит за эти границы, является агрессией хронотопов, созданных в ином языке и иной нарративной стратегией, их инфильтрацией в пространство наших смыслов или «перехватом» каналов информации из участка действия в участок дисциплины. Перехват каналов передачи пакетов информации приводит к тому, что поступки, отпечатавшиеся в реальном мире, могли бы быть названы героическими, но при контроле за каналами формирования нарратива приобретают, например, формат метафоры глупости, незначительности или преступления.
Социологическое осмысление героизма
В классическом веберовском прочтении социального действия социолог имеет дело, прежде всего, с целерациональным, ценностнорациональным и традиционным (опривыченным) действием, оставляя за скобками аффективное действие, находящееся на границе между осмысленностью и эмоциональным импульсом [5. C. 88]. В изучении героизма действие является не только основным в отношениях между героем и толпой (как сказал бы Михайловский), но и в определенном смысле фактом проявления героя, его рождения в этом качестве для других. Действие героя при этом может быть спонтанным и аффективным. С 1990-х годов нормативно-ценностная детерминированность ослабевает, и действие начинает определяться как реакция человека на неожиданную ситуацию — появляются креативная и реляционная концепции социального действия, смещающие поиск с мотива и нормы на творческий потенциал действия, который зависит от ситуации. И креативность связывается, прежде всего, с ситуацией, в которую попадает индивидуальный/коллективный актор. Хотя реляционный подход отмечает, что современный актор действует в быстро меняющемся контексте, а не просто зависит от ситуации, вывод делается практически тот же, что и в креативной теории: результат — нечто новое, сопряженное с творческим решением, что меняет образцы действия.
Выделенное Вебером в качестве отдельного типа аффективное действие в креативной и реляционной теориях выглядит как первая, интуитивная попытка зафиксировать в действии нечто большее, чем ценностный или рациональный мотив. Более того, само действие сегодня вряд ли можно рассматривать как формируемое чем-то одним — это комплекс реакций (интегрированное понимание социального действия Х. Йоаса [26. C. 30]), в том числе творческого, эмоционального потенциала, на конкретную ситуацию или череду событий. В изучении героя это особенно важно, так как его действие во многом зависит и от ситуации, и от реакций на нее. Креативность героя, его способность к творческой рефлексивности и преобразованию ситуации играет важную роль.
Особое значение, помимо непосредственно действия героя, имеют отношения между героем и толпой: героический поступок может совершаться и без свидетельства толпы, но и в этом случае главным является отношение. Отклик толпы на поступок героя порождает особую степень признания и доверия, в отдельных случаях с последующим решением следовать за героем, действовать вместе с ним. Согласно реляционной теории П. Донати, социальное отношение — это «особый эффект взаимности между взаимосвязанными членами» [17], поэтому он упоминает, прежде всего, лидера, харизмат в веберовской терминологии, подчеркивая, что «социальные отношения не создают лидера самого по себе, они создают лидера путем добавления социальной ценности качествам и способностям конкретных людей» [13. C. 19].
«Добавленная ценность» — это увеличение кого-то или чего-то в результате совершения действия, т.е. в момент отношений [13. C. 99–100]. Итогом таких отношений может стать как реляционное благо — увеличение реляционных параметров (степень взаимности, сотрудничества, доверия, близости, улучшение самочувствия в целом и т.д.), так и реляционное зло.
Важно, что вступление в отношение подразумевает, что, «во-первых, одна сущность имеет символическую сущность с другой сущностью (refero), а во-вторых, между ними возникает сцепка, или структурная связь (religo)» [13. C. 100]. Подобная связь возникает, если человек активен, а не пассивен, саморефлексивен и обладает этическими и эстетическими качествами. Культура как система устоявшихся понятий и сложных процессов символизации определяет социальные отношения: символическое наполнение «героя» сегодня — это не только «область отношений между великим человеком и теми, кто следует по его шагам» [18. C. 282], но и готовность принять удар на себя в ситуации риска и опасности, которая доминирует в семантическом наполнении героизма в настоящее время (например, медики во время пандемии). Причем если смотреть на происходящее через призму морфогенетических процессов, возникающих на основе реляционных отношений, в героизм сегодня так или иначе вовлечена значительная часть страны — денежные сборы, гуманитарная помощь, духовная поддержка (например, письма) воинам, пострадавшим и т.д.
В приводимых Донати примерах реляционных отношений, результатом которых является реляционное благо, есть общая черта — они складываются, как правило, при равных возможностях и позициях участников и зависят исключительно от качества их отношений, а не опыта — будь то инициатива родителей, пожелавших совместно заботиться о детях, или школьное образование с привлечением сил муниципалитета по частной инициативе. Все это примеры равных участников отношений, пусть и с разной степенью доверия по причине их разной природы (пара, дружба, члены благотворительной организации и др.). Когда же мы говорим о герое, то его позиция порождает импульс, задает вектор отношений, вскрывает и меняет реальность. В этом смысле реляционная теория лишь обозначает аспект лидерства, не останавливаясь на нем и видя реляционные отношения, прежде всего, в горизонтальных связях, тогда как героизм предполагает начальную точку (в том числе временную), в которой проявляется позиция героя и с которой начинаются отношения, дающие развитие морфогенетическим процессам. Налицо эмерджентность, но стимул ей дает герой, автономность которого носит индивидуалистический и реляционный характер.
Что касается хронотопа, то следует отметить его особенности в эпоху модерна и постмодерна и значимость для глобального мира (с определенными оговорками). В первую очередь, хронотоп связан с идентичностью, которая столь изменчива, что человек не может найти себя, во вторую — с по строением не существующего в природе социального мира (искусственной реальности, в том числе игровой) в ответ на развитие технологий и утрату смыслов социальных отношений, интереса к подлинной реальности (настоящему). Отсюда неизбежность иного типа взаимодействия и «социальной молекулы после-модерного типа» [13. C. 42]. Для Донати очевидно, что модерн одновременно продолжается и разрушается — настоящее время он называет переломный моментом.
Обозначенные изменения влекут за собой поиск героя, который амбивалентен (его поступки можно трактовать как одновременно героизм и злодейство) и практически не отождествляется со «стереотипно-позитивной» интерпретацией [24. C. 451] — вполне в духе размышлений Михайловского. Сегодня с трудом можно назвать героем (по крайней мере на это указывают американские и западноевропейские исследования [32]) того, в чьих поступках скрыта корысть или психическое отклонение, — это квазигероизм или лжегероизм [24. C. 458]. В настоящее время возникает путаница не только в определении героя, но и в том, как противоречиво он выявляется, что мы связываем с особенностями семантик хронотопа модерна, в котором ментально и когнитивно находятся исследователи. Отметим при этом, что особое место сегодня занимают не столько сказочные, мифологические герои, изучение которых было актуально в начале XX века [21], сколько медийные и киногерои [27]. Это еще одна особенность хронотопа модерна, который стал условно глобален благодаря развитию информационных технологий.
Мы сосредоточимся на понятии коллективной (исторической) памяти применительно к изучению героизма, поскольку она не только определяет межпоколенческую связь, но и передает символы и образцы, отобранные коллективом, группой, обществом как наиболее значимые и закрепленные в определенной культуре [см. подробнее в: 20]. Данный концепт связан, прежде всего, с именем Б. Гизена, одного из основоположников культурсоциологии, который, в том числе в соавторстве с Дж. Александером, посвятил ряд работ [30; 31; 33–35] теме героизма и памяти. Для нас важно, что коллективная идентичность конструируется не только действующими в настоящий момент поколениями, но и предшествующими — благодаря так называемой политике памяти часть событий может подвергаться забвению, часть — актуализироваться, бережно сохраняться. Забываются не только травматические, но и позорные, преступные страницы истории, причем не только внутри общества, но и благодаря внешним влияниям — политика памяти может осуществляться извне, порождая конфликт в конструктах и контурах исторической памяти, выдвигая на авансцену истории в качестве героев тех, кто еще вчера рассматривался как преступник.
Гизен предлагает своеобразную матрицу, где одна переменная — субъект/объект, другая — способность преодолевать трудности и препятствия. Он выделяет четыре фигуры исторической или коллективной памяти: победитель (сакрализованный субъект, управляющий миром), побежденный герой (сохраняющий субъектность, но не способный справится с трудностями), жертва (не может противостоять препятствиям и теряет субъектность), преступник (делает жертвами других и теряет субъектность в отсутствии сакрализации его поступков в глазах других). Репрезентация той или иной фигуры памяти в обществе происходит посредством сакрально-профанных, триумфально-травматических «ритуалов». По сути, это первая попытка рассмотреть память через ритуалы репрезентации, в которой заложен большой эвристический потенциал [29. C. 116]. Травму Гизен связывает с таким предельным событием, как смерть, триумф — с рождением и преодолением. На уровне исторической, коллективной памяти это означает, что наличие триумфальных и трагических репрезентаций соответствующим образом конструирует память — вызывая желание жить или умирать, быть в потенции к будущему или иметь постоянный источник уходящей силы и оставаясь в безвременье.
У каждого поколения и эпохи есть свои презентации героев и героизма, и в эмпирическом исследовании мы хотели понять, что меняется в представлениях разных поколений, а что остается неизменным, каковы базовые константы в представлениях россиян о героизме. Основной целью эмпирического исследования стало изучение героя и героизма как репрезентаций коллективной (исторической) памяти россиян. Для этого авторы искали ответы на следующие вопросы:
- Что можно сказать о коллективной (исторической) памяти россиян? В какой семантике она сегодня сформирована? В каких «фигурах» (победителя, побежденного героя, жертвы или преступника) видятся чаще всего события отечественной истории?
- Какие события российской истории воспринимаются разными поколениями как препятствия, которые надо преодолеть? Какие из этих событий относят к травматическим, т.е. близким к смертельным, ранящим, а какие — к триумфальным, возрождающим нацию? Каких событий в оценке россиян было больше?
- Кто сегодня является героем для россиян, в том числе для поколения Z? Присутствует ли героизм сегодня или остался в прошлом?
- Кого чаще относят к героям — военных, гражданских или «социальных», готовых жертвовать репутацией, статусом и т.д.? Есть ли качественные различия у героев разных поколений?
- Имеют ли герои и героизм как репрезентации коллективной памяти поколенческую специфику? И если имеют, то какую именно?
- Каковы нынешние страхи россиян?
Коллективную (историческую) память мы трактуем в традиции М. Хальбвакса — как память коллектива, не выходящую за его пределы и представленную репрезентациями и конструктами этой памяти, ее образца ми, которые были отобраны коллективом, группой, обществом как наиболее значимые и потому сохраняющиеся и передающиеся следующим поколениям. Любой отказ от сохранения коллективной памяти, нарушение ее поколенческой преемственности мы рассматриваем как потерю памяти или разрыв с ней. Коллективная (историческая) память сохраняется посредством традиции и истории как корпуса знаний и письменной фиксации воспоминаний: «история обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память» [28. C. 52]. Иными словами, история — фермент неизбежного диалектического изменения традиции под воздействием фактора «герой». Изменение может проходить как по реестру созидания и совершенствования, так и по реестру разрушения и деградации, поэтому крайне важен вопрос, что передается сегодня молодым поколениям россиян в качестве репрезентаций коллективной памяти, особенно тех событий, где ослабевает (по давности лет) сама традиция передачи и происходит затухание памяти, а герои и героическое теряют субьективное очарование — совершенствование и рост традиции превращается в регресс, в один из видов исторического забвения [1. C. 439–443].
Мы использовали типологию поколений, предложенную В.В. Радаевым (табл. 2), где основными характеристиками выступают период рождения и период взросления: предполагается, что в возрасте 17–25 лет происходят судьбоносные события в жизни человека (как правило, закончена учеба, создаются семьи), а социальные изменения оказывают влияние на формирование личности и ее последующие выборы.
Таблица 2. Типология поколений по В.В. Радаеву
Поколения | Период рождения | Период взросления | |
Советские | Мобилизационное | 1938 и ранее | 1941–1955 |
Поколение оттепели | 1939–1946 | 1956–1963 | |
Поколение застоя | 1947–1967 | 1964–1984 | |
Постсоветские | Реформенное | 1968–1981 | 1985–1999 |
Поколение миллениалов | 1982–2000 | 2000–2016 | |
Поколение Z | 2001 и позднее | 2017 и позднее | |
С января по март 2023 года в восьми федеральных округах было проведено разведывательное исследование понимания героизма россиянами разных поколений. Опрос проводился посредством онлайн-анкетирования, т.е. выборка стихийная. В опросе приняли участие 1350 человек из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из присоединенных к России территорий — Луганской и Донецкой областей. В Центральном округе было опрошено 25 % респондентов, в Северо-Западном — 15 %, в остальных округах — по 10 %. Онлайн-анкетирование прошли мужчины (40 %) и женщины (60 %), представители советского (25 %) и постсоветского поколений (75 %). Постсоветское поколение представлено большинством, что позволяет проводить сравнительный анализ ответов внутри поколения — реформенного поколения, миллениалов и поколения Z. Мы провели процедуру взвешивания данных и ответы первых трех поколений объединили в одну категорию — «ответы советских поколений» [22. C. 49].
Коллективная память и историческое знание россиян
Первый блок вопросов был посвящен выявлению памятных исторических событий, исторических знаний и оценок разных исторических событий. Один из первых вопросов анкеты затрагивал субъективную оценку знания истории России: «Оцените, насколько, как вам кажется, вы знаете историю России?». Предлагалось несколько вариантов ответа, один из которых свидетельствовал о прекрасном знании истории: респондент может преподавать этот предмет, знает с пробелами, у него отсутствуют системные знания истории страны. Почти 70 % опрошенных знают историю с пробелами, 13 % — очень хорошо (могли бы преподавать, подискутировать с историком, экспертом), 11 % оценили свои знания как неудовлетворительные (практически не имеют представления об истории России), 7 % затруднились с ответом. Очень хорошо знающих историю России среди мужчин оказалось заметно больше (21 %), чем среди женщин (13 %), и представители советского поколения чаще выражали уверенность в отличном знании истории (43 %), чем постсоветские поколения: реформенное — 15 %, миллениалы — 12 %, поколение Z — 9 %. Несколько неуверенная оценка своих знаний истории России представителями постсоветского поколения может быть связана как с реальным отсутствием знаний вследствие преобразований системы школьного образования, так и с возрастными особенностями (жизненный опыт и позиция молодых не позволили им дать более высокую оценку). Безусловно, это требует детального изучения, с включением в выборку большего числа респондентов советского поколения, но, вероятно, наши данные подтверждают, что в СССР история преподавалась системно, не размывалась мелкими вопросами, представляющими интерес для узких специалистов, что в итоге давало уверенность в своих знаниях и формировало устойчивую мировоззренческую позицию.
Еще один вопрос анкеты выявлял субъективную оценку знания разных разделов истории — начиная с предпосылок образования государства у восточных славян и заканчивая современностью. Примечательно, что меньше всего оказалось незнающих историю СССР (17 %), а больше всего — далекое прошлое России, период основания и становления русского государства. Больше всего ответов «совсем или скорее не знаю» получено в разделе «предпосылки образования государства у восточных славян» — 42 %. Схожие результаты мы получали, опрашивая школьников и студентов: период Древней Руси «не актуализирован ни для подростков, ни для студенческой молодежи… С определенными эпохами хочется сохранять преемственность, с другими, напротив, обнаружить разрыв; у школьников и студентов этот разрыв связан с периодом Древней Руси. А связь обнаруживается с советским периодом, школьники и вовсе выделяют этот период как наиболее интересный и запоминающийся» [20]. Таким образом, одна из устойчивых репрезентаций коллективной памяти россиян — угасание памяти (что естественно по причине давности событий), несколько отстраненное усвоение знаний о предпосылках возникновения Руси (в экспертном сообществе еще и нестройное их освещение), но более тесная связь с советским прошлым. Вероятно, это свидетельствует не только об интересе россиян (часть которых застала советское прошлое) к отдельным разделам отечественной истории, но и о соответствующих предпочтениях школьных учителей и, возможно, самой министерской программы.
Основным источником знаний по отечественной истории у респондентов остается школьная программа (71 %), исторические книги и литература (54 %), Интернет (52 %), лишь во вторую очередь вузы (45 %) и СМИ, телепередачи, историческое кино и т.д. (30 %), в еще меньшей степени родители (20 %), блогеры, подкасты (14 %) и социальные сети (13 %). Следует признать, что преимущественно в школе, а не в семье или в вузе, складывается представление об истории страны и происходит формирование коллективной памяти. Интернет и СМИ являются немаловажными источниками подобных знаний, но не единственными, что говорит о необходимости комплексного подхода к передаче знаний по истории — посредством школы, исторической литературы, Интернета и СМИ.
Опираясь на идеи культурсоциолога Б. Гизена, мы задали вопрос об оценке ряда событий отечественной истории, среди которых были как военные кампании, так и достижения науки и культуры. Респонденты должны были оценить каждое из них в категориях триумфального (дающего силы, обеспечивающего расцвет нации) или травматического (оставляющего без сил, ведущего к смерти, упадку), но была и возможность уйти от однозначной оценки. Мы пытались выяснить, насколько россияне оценивают события своей истории как триумфальные или травматические, и каких событий видят в ней больше. События были отобраны по критерию значимости для страны с точки зрения решения геополитических и национальных задач. Значительная часть предложенных событий отечественной истории оценивается россиянами как триумфальные, что свидетельствует о восприятии истории страны в целом в позитивном, жизнеутверждающем ключе. К таковым были бесспорно отнесены: борьба с татаро-монгольским игом (54 %) — меньше всего затруднившихся с ответом (17 %) говорит о том, что событие воспринимается однозначно триумфальным; освоение целины в СССР, которое вызвало у части опрошенных затруднения с оценкой (31 %), но все же больше половины (52 %) признало ее триумфальной; борьба с польскими и шведскими интервентами в период Смутного времени 1598–1618 годов (48 %). Примечательно, что триумфальным считается и «создание ядерного оружия в СССР в 1949 году», набравшее наибольшее количество ответов (66 %). Это не только косвенно свидетельствует об особом внимании россиян к советскому периоду истории, но и о том, что в ситуации нынешних геополитических угроз наличие у страны ядерного оружия вызывает одобрение у всех поколений (табл. 3). Очевидно, что чем моложе респонденты, тем больше среди них затрудняющихся ответить, и хотя тех, кто считает данное событие триумфальным не меньше половины, от поколения миллениалов к поколению Z их доля сокращается.
Таблица 3. Оценки «создания ядерного оружия в СССР в 1949 году» (%)
Поколение | Триумфальное | Травматическое | Затрудняюсь ответить |
Советское поколение | 74,9 | 10,3 | 14,8 |
Постсоветское/Реформенное | 76,9 | 9,4 | 13,7 |
Постсоветское/Миллениалы | 60,2 | 14,7 | 25,1 |
Постсоветское/Поколение Z | 50,6 | 22,2 | 27,2 |
К бесспорно травматическому событию, повлекшему негативные последствия для страны, россияне относят распад СССР в 1991 году (68 %). Это лидер среди травматических событий, к которым также отнесены «отречение от престола Николая II» (49 %) и «Октябрьская революция 1917 года» (42 %), т.е. события, предшествующие созданию СССР. Кажется, что в этом есть противоречие, однако мы полагаем, что россияне воспринимают как травму все то, что связано с гибелью и убийством — одной ли царской семьи или значительной части народа: всех «своих» по-человечески жалко, поэтому эти события воспринимаются как травматичные. В целом еще одной репрезентацией коллективной памяти россиян является восприятие наиболее значимых событий российской истории как триумфальных, а не травматических.
Заимствуя еще одну идею Гизена, мы задали вопрос, в качестве какой фигуры (победителя, жертвы, побежденного героя, преступника) воспринимается респондентами Россия как участница крупных войн и военных кампаний. Мы намеренно не использовали вариант «затрудняюсь ответить», чтобы не дать респондентам возможность уйти от оценки в довольно сложном вопросе (рис. 1). Основная часть военных кампаний, в которых участвовала Россия, воспринимается гражданами через образ победителя, прежде всего, Великая Отечественная война 1941–1945 годов (90 %). Наибольшие сомнения в предложенном списке вызывает Первая мировая война (1914–1918), оценки которой размыты: очевидно, что эта военная кампания воспринимается россиянами неоднозначно — им трудно оценить и ее последствия, и роль России в ней. Можно было бы предположить, что это связано с давностью события, но еще более далекая Отечественная война 1812 года получила однозначную оценку «победителя» (82 %). Видимо, в истории как корпусе знаний присутствуют разные оценки этих двух войн — более однозначные для одной и более размытые (с вопросами и нюансами) для другой; кроме того, в Отечественной войне 1812 года Россия оборонялась, а в Первой мировой была участницей коалиции против Германии, а победитель в представлениях россиян не может быть участником сговора. Кроме того, Первая мировая война по своим последствиям для России отличалась как от Отечественной войны 1812 года, так и от Великой Отечественной войны, став прологом не только к распаду Российской империи, революции и гражданской войне, но и к коренному изменению всей социальной жизни — от самодержавной монархии и зарождающегося капитализма к авторитарному обществу советского модерна с его идеей нового человека. Примечательно, что высокие оценки как победителя получила и военная операция в Сирии (с 2015 года), которая до сих пор не закончена.
Рис. 1. Оценки военных кампаний России через образы (%)
Распределение ответов на этот вопрос позволяет сделать следующий вывод о репрезентации коллективной памяти россиян: основная часть военных компаний, в том числе нынешних, воспринимается через образ победителя, причем там, где Россия была вынуждена обороняться, данная оценка однозначная, т.е., согласно культурной традиции, действия и отношения подлинного победителя не предполагают сговора и участия в сомнительных договоренностях — это, прежде всего, защита и оборона.
Герои советского и постсоветского поколений
Второй блок вопросов был посвящен содержанию понятий героя и героизма. На вопрос «Есть ли в вашем окружении люди, которых можно назвать героями?» 57 % ответили утвердительно, 17 % — отрицательно, а каждый четвертый затруднился с ответом. Женщины чаще (57 % против 51 %) отвечали утвердительно, а отрицательных ответов и затруднений с ответом было больше у самого молодого поколения Z. Респонденты полагают, что в истории, в прошлом было больше героизма (51 %), причем для советского поколения это менее очевидно, поскольку они наблюдают проявления героизма и сегодня (33 %), чего нельзя сказать о представителях постсоветского, особенно реформенного поколения (7 %). Только 15 % убеждены, что героизм присутствует и в нашей современной жизни, что, в совокупности с данными предыдущего вопроса, видимо, свидетельствует об убеждении опрошенных, что не только героизм чаще встречался в прошлом, но и героев сегодня значительно меньше. С точки зрения репрезентаций коллективной памяти это может означать некоторую идеализацию прошлого через образы героев и героизма.
Отвечая на вопрос о наличии героев в своем окружении, россияне называли, прежде всего, врачей и медиков, оказывающих помощь людям (44 %), добровольцев, поехавших в зону боевых действий для оказания посильной помощи (44 %), людей, мужественно сражающихся с тяжелой болезнью, превозмогающих боль и не теряющих бодрости духа (41 %), тех, кто не боится общественного мнения и способен говорить правду (40 %). Реже назывались спасатели МЧС (31 %), а также сотрудники полиции, юристы и адвокаты, честно выполняющие свою работу (13 %). То есть настоящими героями считаются сильные, активные люди, честно выполняющие свой долг, спасая других, не изменяющие себе ради денег или признания, способные не опустить руки даже в самой сложной ситуации. В определенном смысле это творцы реляционного блага, у которых оно получается лучше, чем у других. Причем спасение понимается россиянами явно шире, чем борьба за жизнь, — это в некотором смысле еще и поиск правды.
Поколенческие различия здесь проявляются в том, что для советского поколения герой — тот, кто говорит правду, несмотря на общественное мнение, а постсоветские поколения делают акцент на добровольчестве и достойной борьбе человека со смертельной болезнью. Видимо, главное и существенное различие поколений в том, что для советского поколения герой — это правдолюбец (борец за справедливость), а для постсоветского — человек, преодолевающий смерть и ее страх.
Что же, по мнению россиян, необходимо для совершения героического поступка? Прежде всего, такие личностные качества, как сострадание, доброта, щедрость, готовность рисковать, самоотверженность, умение преодолевать трудности, надежность, решительность (84 %), внутренняя сила, духовность (71 %), убеждения, ценности (55 %) и в последнюю очередь особенности воспитания (33 %). Героизм связывается больше с самой личностью, чем с процессом социализации, вернее роль социализации не считается главной и тем более единственной. Здесь прослеживается противоречие: школу большинство респондентов считает источником исторических знаний, но при этом меньшинство видит в ней источник формирования героизма. Следовательно, возникают вопросы о том, как эффективно инкорпорировать героическую проблематику в преподавание истории; нет ли в обществе трагического разнесения истории и героя. Причем большинство героев респонденты упорно определяют как исторических личностей в прошлом.
Усиливает выявленный парадокс и распределение ответов на другой вопрос анкеты: «Что нужно прививать, чтобы сформировать героический тип личности?». Статистически незначимое меньшинство полагает, что ничего, тогда как большинство называет ценности гуманизма и уважение каждого (64 %), патриотизм и любовь к родине (58 %), реже — духовно-нравственные религиозные ценности (38 %). По сути, россияне предложили формулу героического типа личности — «уважение другого — любовь к родине — религиозная духовность», тогда как государство и государственные институции, включая официальную историческую науку, большинство респондентов считают малозначимыми или вовсе лишними для формирования героя.
В заключение остановимся на основных страхах россиян. Понятие страха тесно связано с героизмом, поскольку страх таковым, как правило, преодолевается. Главные страхи россиян сегодня — это угроза ядерной войны (49 %), неопределенность и неизвестность будущего (41 %), угрозы терроризма и преступности (34 %), потеря стабильности и привычного образа жизни (25 %). Рост цен в магазинах, частичная мобилизация и государственный переворот пугают респондентов в гораздо меньшей степени, чем внешняя угроза, — видимо, россияне считают, что с ними можно справиться, в отличие от ядерной войны или терроризма. В страхах россиян прослеживаются и поколенческие особенности (табл. 4): респонденты советского поколения, пережившие «холодную войну» и знающие из советского прошлого о ядерной угрозе больше, чем нынешние поколения, испытывают страх перед ней чаще, чем постсоветские поколения (хотя и для них эта угроза — одна из главных). У реформенного поколения и миллениалов, чей возраст соответствует призывному, больше опасений мобилизации, но в целом это не главный страх опрошенных.
Таблица 4. Главные страхи россиян (в %)
Поколение | Угроза ядерной войны | Неопределенность | Угроза терроризма | Потеря стабильности | Рост цен в магазинах | Частичная | Государственный | Победа Украины в СВО |
Советское | 59,9 | 47,3 | 37,9 | 25,6 | 14,1 | 9,2 | 15,7 | 13,4 |
Реформенное | 41,9 | 36,3 | 28,6 | 23,1 | 26,1 | 24,4 | 19,7 | 11,1 |
Миллениалы | 45,3 | 39,8 | 34,9 | 26,3 | 30 | 27,8 | 17,4 | 13,5 |
Поколение Z | 48,7 | 39,1 | 33,6 | 22,9 | 22,2 | 18,7 | 18,5 | 13,3 |
На вопрос о том, что объединяет сегодня людей в нашей стране, помимо языка (46 %), государства (34 %) и обычаев (23 %), россияне, в первую очередь, называют историю и память (66 %). Ни православная вера, ни тем более национальные герои не существуют в отрыве от коллективной памяти, поэтому любое забвение может нивелировать все перечисленное. Яркие примеры — атеизм в СССР, который стал возможен в результате ломки памяти и отрицания ценности православной традиции; нынешнее забвение героев и заслуг СССР, которое проявляется в том числе в сносе памятников и вандализме в странах бывшего СССР, в национал-шовинизме и подмене героев. Тревожным звонком выступает тот факт, что значительная часть населения не считает государство ответственным за историческую память, а государственные институции — значимыми для создания героев и формирования героизма. Для современного российского общества крайне важно беречь свою коллективную память, но для этого необходимо понимать, что она собой представляет. Проведенное исследование позволило нам приблизиться к этому пониманию, отметив ряд особенностей репрезентаций коллективной памяти у россиян, в том числе в отношении героев и героического.
Об авторах
Мария Александровна Подлесная
Институт социологии ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: yamap@yandex.ru
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения регионов России Института социологии Б. Андроньевская ул., 5, стр. 1, Москва, 109544, Россия
Олег Константинович Шевченко
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Email: skilur80@mail.ru
доктор философских наук, доцент Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, академик Российской академии естественных наук, председатель Крымского республиканского отделения Российского философского общества просп. Академика Вернадского, 4, Симферополь, 295007, Россия
Илона Валерьевна Ильина
Тюменский государственный университет
Email: i.v.ilina@utmn.ru
старший преподаватель кафедры общей и экономической социологии ул. Володарского, 6, Тюмень, 625003, Россия, 625003
Список литературы
- Анкерсмит Ф.В. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.
- Антропология репрезентации: память, общественные пространства и визуальность / Отв. ред. А.А. Плеханов, Н.А. Белова. М., 2021.
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Белинская Е.П. У истоков социальной психологии: сравнительный анализ «психологии масс» Г. Лебона и концепции «героев и толпы» Н.К. Михайловского // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2012. № 1.
- Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
- ВЦИОМ: Герои России: вчера и сегодня // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-rossii-vchera-i-segodnja.
- ВЦИОМ: Итоги 2022 года // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2022-sobytija-geroi-plany-na-novogodnie-prazdniki.
- Газилов М.Г. Сопоставительное исследование концепта ГЕРОЙ в русском и французском языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. № 1.
- Горелова Т.А., Хлопонина О.О. Культурный концепт «герой» как ценностный ракурс эпохи // Знание. Понимание. Умение. 2022. № 3.
- Гуторович О.В. Герой и героизм: сущность, историческая эволюция, проявление // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 8.
- Джумайло О.А. Герой своего времени, герой вне времени или герой на все времена - qui pro quo? // Новое прошлое. 2019. № 1.
- Дидковская В.Г. Подвиг, подвижник, герой // Ученые записки Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2019. № 2.
- Донати П. Реляционная теория общества: Социальная жизнь с точки зрения социального реализма. М., 2019.
- Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. М., 2008.
- Кравец П.С. Трансформация понятия героизма: от Гомера до «Marvel» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-1.
- Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. СПб., 2018.
- Маркина И.В. Реляционная социология Пьерпаоло Донати // Научный результат. Серия: Социология и управление. 2015. № 3.
- Михайловский Н.К. Сочинения. Т. 6. СПб., 1885.
- Омеличкина Е.О. Семиотические характеристики лингвокультурного типажа héros // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 4.
- Подлесная М.А., Соловьева Г.В., Ильина И.В. Историческая память: школьники и студенты об истории России // Вестник Института социологии. 2021. Т. 12. № 2.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001.
- Радаев В.В. Миллениалы. Как меняется российское общество. М., 2020.
- Соколова Б.Ю. Философия героизма в творческом наследии Л.В. Шапошниковой // Заметки ученого. 2021. № 5-1.
- Субботина М.В. Амбивалентность героя в контексте изучения социального благополучия, или поиски героического в новой социально-медийной реальности // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 3.
- Суравнева И.М., Федоров В.В. Феномен героизма. М., 2008.
- Титаренко Л.Г. Социология Ханса Йоаса // Социологические исследования. 2012. № 5.
- Троцук И.В., Субботина М.В. Оценка влияния кинематографа на социальные представления о героизме: апробация одного подхода // Коммуникология. 2018. Т. 6. № 4.
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3.
- Хлевнюк Д.О. Бернард Гизен. Триумф и травма // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2.
- Alexander J.C. On the social construction of moral universals: The “Holocaust” from mass murder to trauma drama // European Journal of Social Theory. 2002. Vol. 5. No. 1.
- Alexander J.C. Remembering the Holocaust: A Debate. Oxford University Press, 2009.
- Allison S.T. (Ed.). Heroes and Villains of the Millennial Generation. Palsgrove, 2018.
- Cultural Trauma and Collective Identity. Ed. by J.C. Alexander et al. University of California Press, 2004.
- Giesen B. Triumph and Trauma. Paradigm Publishers, 2004.
- Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual. Ed. by J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. Mast. Cambridge University Press, 2006.
Дополнительные файлы