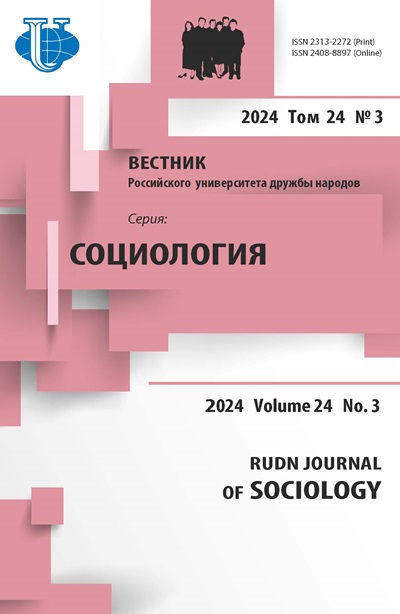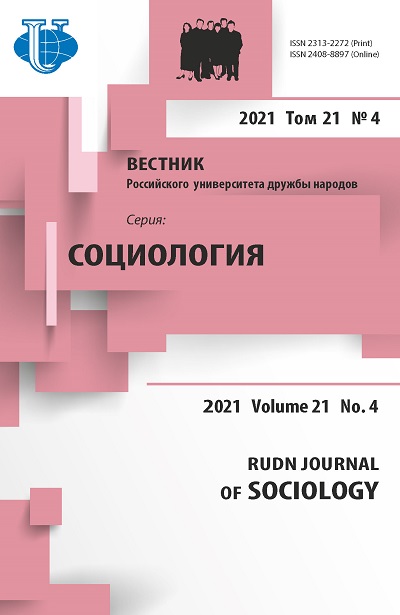Добровольчество в России: история развития и современные установки молодежи
- Авторы: Беляева Л.А.1, Зеленев И.А.2, Прохода В.А.2,3
-
Учреждения:
- Институт философии РАН
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Финансовый университет при Правительстве РФ
- Выпуск: Том 21, № 4 (2021)
- Страницы: 825-838
- Раздел: Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/29621
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-4-825-838
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается проблема участия молодежи в волонтерской деятельности - это одна из форм социальной активности и одновременно направление молодежной политики. Анализ эмпирического материала предваряет краткий экскурс в историю добровольчества в дореволюционный и советский периоды. Показано, что это движение развивалось противоречиво - в контексте социально-политических тенденций становления элементов гражданского общества и организационного влияния органов власти. Современное добровольчество (волонтерство) анализируется на основе результатов онлайн опроса городской «взрослой» молодежи, представленной двумя когортами: 18-24 и 25-34 года (N = 705 и 714). Выборки были построены по социально-демографическим и географическим распределениям групп. В результате применения математических методов анализа были выявлены масштабы участия и виды волонтерской деятельности каждой из когорт, социальные установки и реальная вовлеченность в волонтерское движение, между которыми зафиксирован ожидаемый разрыв. Некоторым объяснением разрыва может служить комплекс мотивов участия в волонтерстве. Выявлены следующие модели мотивации: модель «продвижение» связана с меркантильными и карьерными мотивами, модель «капитал» - с наращиванием человеческого и социального капитала, модель «ценности» - с внутренними убеждениями и ожиданиями общественного признания. Вторая модель особенно значима для более молодой когорты. Опрос выявил мнения молодежи как социальной группы о факторах, сдерживающих участие в волонтерстве. Молодые люди были критичны по отношению к своей группе, поставив на первое место равнодушие к проблемам общества, на второе - недостаток времени, на третье - недостаточное поощрение и общественное признание. Исследование показало, что потенциал добровольческой деятельности у молодежи значительно выше ее реального участия. Развитие этой деятельности, преодоление ее бюрократизации может стать побудительным мотивом к уменьшению социальной апатии молодежи.
Полный текст
Волонтерская деятельность является одной из современных форм социальной активности людей всех возрастов и гуманизации общественных отношений. В официальных документах констатируется, что добровольчество — способ, посредством которого в обществе поддерживаются и усиливаются такие ценности, как забота и помощь [3]. Содействие распространению и развитию волонтерской деятельности относится к числу приоритетных направлений молодежной политики, что находит отражение в официальных документах [7; 11]. Привлечение подрастающего поколения к участию в волонтерском движении стало базовым направлением деятельности профильных органов власти, фигурирует в числе основных направлений воспитания молодежи [15], декларируется как ключевая задача федеральных проектов [6]. Выполняя социальные функции участия в решении значимых проблем общества, компенсируя недостатки функционирования институциональных механизмов, волонтерство способствует консолидации общества путем установления в нем социальных связей на разных уровнях. Развитие волонтерской деятельности актуализировалось в период пандемии covid-19, когда многочисленным уязвимым категориям населения была необходима помощь, с которой не могли справиться официальные институты. Особая роль при этом была отведена молодежи — как наиболее социально активной демографической группе.
Исследование направлено на выявление установок молодых россиян относительно волонтерской деятельности, определение масштабов включенности молодежи в добровольчество, мотивов и сдерживающих факторов участия в волонтерстве. Вместе с тем полезно вспомнить о традициях добровольчества в советской и царской России, которые решали иные проблемы в те исторические периоды, но имели во многом сходные с современностью побудительные мотивы — помощь ближним, милосердие, благотворительность. Внимание, которое уделяется сейчас развитию волонтерства — добровольного участия разных групп в безвозмездном решении проблем отдельных граждан, территорий или всего общества, побуждает обратиться к практикам добровольчества, которые были распространены в дореволюционной России и Советском Союзе. К сожалению, социологический анализ этих практик и мотивов их участников затруднен в силу отсутствия соответствующей информации, но анализ исторического материала дает представление о распространенности этого явления.
С первых лет существования советского государства добровольчество развивалось в тесной связке с деятельностью органов управления — для выполнения государственных планов и общесоюзных проектов. Были созданы общественные организации, приглашавшие в свои ряды добровольцев (часто под административным давлением) и работавшие по утвержденному вышестоящими органами уставу. Рядовые члены общества привлекались на добровольной основе к выполнению строительных работ в неблагоприятных природных условиях, социально-культурному строительству, развитию здравоохранения, охране природных объектов и социалистической собственности, защите правопорядка, военному строительству, развитию физической культуры и спорта и т.д. Подобного рода работа оформлялась как деятельность в рамках институционализированных общественных структур. В исследованиях советского периода не упоминается только добровольчество по поддержке бедных и «недостаточных» семей, хотя их было в стране очень много, но забота о них ложилась на плечи государства — населению выплачивались пособия по социальному страхованию рабочих и служащих, пенсии по социальному обеспечению, пособия многодетным и одиноким матерям, пособия при потере кормильца, стипендии учащимся, предоставлялись бесплатная медицинская помощь, бесплатные и по льготным ценам путевки в санатории и дома отдыха; производился и ряд других выплат, в том числе в относительно повышенных размерах участникам ВОВ. Частная материальная помощь и помощь в случае экстраординарных событий оказывалась на добровольных началах, часто «всем миром». Хотя податели помощи нередко сами еле сводили концы с концами, но чувство милосердия, готовность оказать бескорыстную поддержку было характерной чертой простых людей.
Советский добровольческий труд представлял собой непростой феномен. В нем уживался, с одной стороны, формализм (когда, например, целыми школами и предприятиями вступали в ДОСАФ — Добровольное общество содействия армии и флоту — с внесением небольших членских взносов, или в общества охраны природы, общества спасения на водах и т.д.), а, с другой стороны, искренний энтузиазм и заинтересованность в выполнении общественно-полезных работ (освоение целины, строительство БАМа и городов в Сибири и в других отдаленных районах, тимуровское движение, помощь семьям погибших военнослужащих и тем, кто нуждался в помощи, участие в уборке урожая на селе, реставрация памятников культуры, экологические патрули и др.). Добровольное участие в общественных организациях и движениях рассматривалось как социально-политическая активность человека и всячески поощрялось, несмотря на часто формальный характер. Добровольцы реально решали многие социальные проблемы, на которые не хватало ресурсов у государства. Основной социально-демографической группой, поставлявшей добровольцев, была молодежь. К сожалению, достоверных социологических данных об отношении молодежи к своему участию в добровольческом движении не обнаружилось, а опираться на официальные оценки вряд ли целесообразно. Но можно прислушаться к мнению экспертов: «Нельзя не отметить низкую активность членов обществ, большинство которых были либо “мертвыми душами”, либо предпочитали пассивно пользоваться благами и услугами, предоставлявшимися добровольными объединениями… А излишний формализм, принудительный характер и бюрократия привели к необратимым процессам, подрыву духовных оснований самого феномена добровольчества» [5. C. 193]. Такая опасность может грозить и современному добровольческому движению, которое все больше регулируется официальными структурами.
Феномен добровольчества возник в советской России не на пустом месте — до октябрьского переворота это было широкое общественное движение, основанное на патриотизме и человеколюбии. Оно поддерживалось официальными структурами, частными лицами, включая императоров, и церковь. В него вкладывали значительные материальные средства обеспеченные слои общества, в том числе императорская семья.
По мнению историков, начало добровольческому безвозмездному труду в России было положено с принятием христианства в X веке — когда по призыву церкви начала складываться традиция помощи и поддержки «ближнего своего», а также безвозмездного труда в монастырях и богоугодных заведениях. При Екатерине II добровольцы работали в открытых ею воспитательных домах для детей-сирот и незаконнорожденных. Добровольный безвозмездный труд в рамках благотворительной помощи стал основой одной из крупнейших благотворительных организаций — Императорского человеколюбивого общества. Оно было создано в 1802 году в Санкт-Петербурге по инициативе Александра I, и со временем расширило деятельность на всю территорию страны. Основные направления деятельности общества вначале сосредоточились в двух комитетах — медико-филантропическом, занимавшемся безвозмездной медицинской помощью неимущим больным, и комитете попечительства бедных с предоставлением им материальной помощи. Члены комитетов жалования не получали, но оплачивался труд привлекаемых специалистов, в частности, сборщиков сведений о нуждающихся. К 1 января 1900 года капиталы по всем учреждениям общества составляли 7,363 млн рублей, а недвижимая собственность его оценивалась в 162,4 млн рублей. За период 1816–1901 помощью общества воспользовалось 5,207 млн человек. По данным на 1901 год, в ведении общества по всей России состояло 221 заведение, в том числе: 63 учебно-воспитательных, где призревались и обучались свыше 7 тысяч сирот и детей бедных родителей; 63 богадельни, призревавшие 2 тысячи престарелых и увечных; 32 дома бесплатных и дешевых квартир и 3 ночлежных приюта, в которых ежедневным приютом пользовались свыше 3 тысяч человек; 8 народных столовых, обеспечивавших ежедневно 3 тысячи бесплатных обедов; 4 швейных мастерских, в которых работали свыше 500 женщин; 29 попечительных комитетов, оказывавших временную помощь свыше 10 тысяч нуждавшимся; 20 медицинских учреждений, в которых бесплатно лечились 175 тысяч бедных больных. Общество получало большие благотворительные взносы от императорской семьи, знатных семей и граждан другого социального положения. Общество просуществовало до октябрьского переворота, когда было упразднено, а его капиталы и недвижимость были национализированы [17. С. 192–207].
В результате реформ Александра II добровольное участие в благотворительности, оказании материальной и иной помощи нуждающимся, поддержке больных и обездоленных приобретает более массовый характер. Основной социально-исторической чертой добровольчества стало то, что оно было важнейшим компонентом сохранения социальной стабильности в стране, где было огромное количество проблем, возникших в пореформенный период, после отмены крепостного права, но не было действенных механизмов их повсеместного решения [5. С. 74.]. В добровольчестве участвовали представители всех слоев общества, прежде всего образованного класса. С созданием земств и учреждением ими народных начальных школ, к обучению детей привлекались учителя на добровольческой безвозмездной основе, в сельских больницах земские врачи оказывали бесплатную медицинскую помощь.
В 1894 году в Москве были учреждены городские участковые попечительства о бедных, которые привлекали волонтеров для сбора пожертвований в помощь бедным, а также сведений о бедствующих семьях. К началу XX века в России действовало около 20 тысяч попечительских советов для бедных, в которых трудились добровольцы. В Санкт-Петербурге система участковых попечительств о бедных была создана в 1907 году, и везде участие волонтеров было весьма ощутимым. Благодаря им стала возможна индивидуализация и дифференциация помощи, учет реальных потребностей в материальной и другой поддержке. Волонтеры проводили опросы неимущего населения городов, фиксировали степень охвата неимущих благотворительной помощью, собирали и другие сведения. Добровольчество распространялось и на такие сферы, как защита животных и гуманное с ними обращение, посещение заключенных с целью обследования условий содержания в тюрьмах и др.
Потребность в добровольцах возрастала в периоды, когда происходили крупные общественные катаклизмы и требовалось подключение общественности. Так, в начале 1890-х годов добровольцы активно участвовали в борьбе с голодом и ликвидации его последствий. В организацию помощи голодающим крестьянам включились деятели местного самоуправления и общественных организаций разного профиля, люди различного социального и имущественного положения. Помощь голодающим оказывалась в форме сбора продовольствия и денежных средств, путем организации столовых, школ и больниц. Поддержка голодающего населения нередко осуществлялась путем организации общественных работ, которые устраивались Попечительством о трудовой помощи и Российским обществом Красного Креста (РОКК).
Мощный импульс добровольчество получило во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда монахини московской Свято-Никольской обители добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам и стали первыми в мире сестрами милосердия. К началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом и получило название «Красный крест». Проникновенные слова написал И.С. Тургенев на смерть своего друга — Ю.П. Вревской, баронессы, фрейлины императрицы Марии Александровны, которая была во время русско-турецкой войны сестрой милосердия в Крыму в полевом госпитале Российского Красного креста. «Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним» [16. С. 6–7].
Развитие добровольчества среди женщин сыграло важную роль и в других военных кампаниях, особенно в Первую мировую войну, когда на фронт и в госпитали были направлены сотни добровольцев — медсестер, прошедших подготовку на курсах Красного креста. В условиях Первой мировой войны широкое распространение получили трудовые отряды учащихся-добровольцев, которые оказывали помощь в сельскохозяйственных работах семьям тех солдат, которые были на войне, или пришли с войны покалеченными.
Таким образом, добровольческое движение довольно широко развилось в дореволюционный период при содействии государства и благотворительных организаций, получивших одобрение высшей власти, которая сознавала необходимость помощи общественности в решении социальных проблем при ограниченности ресурсов государства. Добровольчество традиционно было связано с благотворительными организациями, образуя при них массовые группы помощников в решении социальных проблем.
Добровольчество, или, если использовать современное понятие, распространившееся в России с 1980-х годов, волонтерство, используется в качестве средства воспитания молодежи и несет в себе мощный потенциал решения проблем, которые не может устранить государство и его институты в силу ограниченности ресурсов и неполноты имеющейся информации. Эта двойственная задача — привлечение к безвозмездному труду на благо отдельных людей и общества в целом и воспитание таких добродетелей, как сострадание, самоотверженность и милосердие, — решается с традиционной опорой на государственные институты, общественные организации, а также путем самостоятельных объединений в конкретных угрожающих обстоятельствах.
Согласно федеральному закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг…; добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации» [18]. До последнего времени уровень развития добровольчества в России был достаточно низок по сравнению с зарубежными странами. По мнению специалистов, в среднем не менее 3% населения стран-членов ООН участвует в добровольческой деятельности. Во многих развитых странах в добровольчество вовлечена значительная часть населения, например в США — около 27%, Великобритании — 38%, Австралии — 34%, Канаде — 45%. Добровольцы участвуют в решении широкого спектра социально-экономических проблем практически во всех сферах жизнедеятельности местных сообществ и на национальном уровне. Во многих странах созданы национальные и местные ресурсные центры по поддержке и координации деятельности добровольцев. Широко развита система международного обмена добровольческими группами в США, Германии, Франции, Италии и Японии. Добровольцы из этих стран работают в развивающихся странах мира [12. C. 19–20]. У добровольцев из России также есть перспективы более активно включиться в обмен с зарубежьем, например, в соответствии с программой ООН [14].
Общее число добровольцев в России трудно поддается учету. По различным оценкам, их число колебалось в 2019 году от 4 до 7,5 млн. По данным Министерства экономического развития, за последние восемь лет число волонтеров увеличилось более чем в пять раз. Активную роль волонтеры играют в условиях распространения пандемии сovid-19. Основную часть волонтеров составляет молодежь, и есть некоторая надежда, что участие в этой деятельности поможет преодолеть благодушную апатию молодежи, которая фиксируется специалистами [13. С. 119–138].
В определении границ молодежного возраста существуют разные точки зрения [1. С. 17–27]. Объектом нашего анализа стали две когорты городской молодежи, которых можно отнести к «взрослым» молодым: 18–24 и 25–34 года. Верхняя граница может показаться завышенной, но продолжительность жизни населения выросла, соответственно, изменилось соотношение периодов жизненного цикла, сроки учебы и самоопределение в профессии стали более продолжительными, и создание семьи часто отодвигается на более зрелый возраст. В расчет брался социальный возраст — освоение социальных ролей. Объединяет когорты то, что они прошли социализацию в постсоветский период, для них информационные технологии стали главными средствами развития, обучения и общения. Кроме того, эти «взрослые» молодые будут становиться активной силой развития общества и выдвигать свои требования к реализации принципов социальной справедливости, демократии и открытости миру.
Эмпирическая база статьи — результаты онлайн-опроса российской городской молодежи, проведенного летом 2020 года Институтом сравнительных социальных исследований с помощью метода самозаполнения анкеты (CAWI — computerized web-assisted interview) участниками онлайн панели. Выборка репрезентирует российскую городскую молодежь 18–34 лет по основным социально-демографическим и географическим параметрам. Объем выборки — 1419 человек, разделенных на две когорты: 18–24 года (N=705) и 25–34 года (N=714). Анализ проводился по вопросам анкеты, представленным в Таблице 1: использованы корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена), факторный анализ, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, Хи-квадрат (χ2) Пирсона.
Итак, участие в волонтерской деятельности хотя бы один раз за предшествующие опросу двенадцать месяцев отметило 27% городской молодежи (не принимали участия 65,3%). Полученные данные в целом согласуются с результатами других исследований, характеризующих масштабы включенности молодежи в добровольчество. По материалам ФОМ за 2019 год, относят себя к волонтерам 20% россиян в возрасте 18–30 лет, 12% считают себя бывшими волонтерами, а 67% не идентифицируют себя с волонтерской деятельностью [9]. Больше всего молодых горожан вовлечено в экологическое (11,2%), социальное (9,5%) и событийное (5,5%) волонтерство. Несколько реже упоминаются волонтерство в здравоохранении (3,9%), в области общественной безопасности (3,5%), патриотическое (3,2%), спортивное (3%) и культурное (3%). Основное различие между когортами по масштабам вовлеченности относится к событийному волонтерству: в младшей группе — каждый десятый (10%), в старшей — 3,7%.
Таблица 1. Вопросы анкеты и результаты факторного анализа
| Вопросы анкеты | Факторные нагрузки |
Фактор «Готовность» | V 5. Насколько значимой стала помощь волонтеров в о время распространения коронавируса? 1 — «Очень значимой», 2 — «Не особо значимой» | −0,8 |
V 6. Вы готовы оказать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям в связи с эпидемией коронавируса? 1 — «Готовы», «2» — «Не готовы» | −0,8 | |
V 8. Вы готовы или не готовы участвовать в волонтерской деятельности на регулярной основе? 1 — «Готовы», «2» — «Не готовы» | −0,7 | |
Фактор «Вовлеченность» | V 1. Среди Ваших знакомых есть люди, которые занимаются добровольной волонтерской деятельностью? 1 — «Есть», «2» — «Нет» | −0,4 |
V 7. Приходилось ли Вам лично оказывать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса? 1 — «Приходилось», «2» — «Не приходилось» | −0,8 | |
V 10. За последние 12 месяцев как часто Вы принимали участие в волонтерской деятельности — в составе группы или в одиночку? От 1 — «Не реже чем раз в неделю» до 7 — «Не принимали участия» | −0,9 | |
| V 3. Каковы основные мотивы людей заниматься волонтерской деятельностью? 1 — «Приносить пользу людям, участвовать в решении существующих в обществе проблем»; 2 — «Реализовать свои убеждения, ценности»; 3 — «Получить дополнительные знания, навыки, профессиональный опыт»; 4 — «Расширить круг общения, завести новых знакомых и друзей, жить активно»; 5 — «Возможность получить рекомендации, приглашения на мероприятия, поездку и др.»; 6 — «Продвинуться, сделать карьеру»; 7 — «Получить общественное признание, уважение окружающих» |
|
Анализ методом главных компонент; метод вращения — варимакс; объясняемая дисперсия = 62,7% (компонента 1 — 44,4%; компонента 2 — 18,3%).
Для выявления социальных установок молодежи в отношении волонтерской деятельности был проведен факторный анализ, выявивший два фактора: «готовность» и «вовлеченность». Мы интерпретируем их в соответствии с концептуальными моделями социальной установки [4; 20. С. 102–10], согласно которым аттитюд — это «аффект (чувства), поведение (намерение), познание (мысли)». Исходя из того, что установка — это «благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция на что-либо или на кого-либо, которая выражается в мнениях, чувствах и целенаправленном поведении» [8. С. 154], можно сказать, что фактор «готовность» представляет собой «склеившиеся» эмоциональную компоненту и «намерение» (оценка и готовность к участию), а «вовлеченность» — поведенческий аспект (включенность и регулярность участия в волонтерской деятельности, наличие в окружении респондента волонтеров). Описательные статистики по переменным, составляющим эмоциональную и поведенческую компоненты представлены в Таблице 2. «Готовность» молодых горожан оказалась выше, чем реальный опыт участия. Выявленное несоответствие можно интерпретировать как проявление «парадокса Лапьера» — расхождения между социальной установкой и реальным поведением применительно к социально одобряемым действиям. В старшей группе оказывали безвозмездную помощь 20,9% опрошенных, а 45,3% отметили готовность к участию в волонтерской деятельности. Среди респондентов 18–24 лет доли несколько меньше, но разница между показателями сохраняется (11,7% и 34,1%), т.е. в обеих когортах выявлено наличие волонтерского потенциала. По выраженности поведенческой компоненты представители когорт значимо не различаются, но имеют место статистически значимые различия в выраженности эмоциональной компоненты — старшая группа выражает большую «готовность» участия, чем младшая (rs=0,15**).
Таблица 2. Описательные статистики по переменным, составляющим эмоциональную и поведенческую компоненты (%)
|
| Всего | Когорта 1 | Когорта 2 | Значимость различий (χ2) |
«Готовность» | Доля респондентов, считающих, что помощь волонтеров во время распространения коронавируса стала очень значимой | 50,7 | 39,7 | 55,1 | <0,001 |
Доля респондентов, готовых оказать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям в связи с эпидемией коронавируса | 42,1 | 34,1 | 45,3 | <0,001 | |
Доля респондентов, не готовых участвовать в волонтерской деятельности на регулярной основе | 43,7 | 54,8 | 39,3 | <0,001 | |
«Вовлеченность» | Доля респондентов, имеющих среди знакомых людей, занимающихся волонтерской деятельностью | 50,3 | 57,7 | 47,4 | <0,001 |
Доля респондентов, которым приходилось лично оказывать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса | 18,3 | 11,7 | 20,9 | <0,001 | |
Доля респондентов, за последние 12 месяцев, хотя бы раз принимавших участие в волонтерской деятельности — в составе группы или в одиночку | 27 | 25 | 27,7 | =0,284 |
Масштабы и потенциал волонтерства во многом связаны с мотивацией к участию в добровольческой деятельности. По мнению молодых горожан, основной мотив участия в добровольчестве — возможность приносить пользу людям, решать существующие в обществе проблемы (67%) — имеет альтруистический характер. Желание быть полезным, помогать другим людям в качестве ведущего мотива отмечают и другие авторы [19. С. 60–71]. В то же время опрос показал, что мотивы волонтерства не всегда альтруистичны и могут выступать ответом на потребности человека [см.: 2. С. 22]. В среднем респонденты упоминают два мотива. К числу других важных мотивов волонтерской деятельности молодежь относит: расширение круга общения, появление новых знакомых и друзей — 31,1%; реализацию убеждений, ценностей — 28,1%; получение дополнительных навыков, знаний профессионального опыта — 22,1%; общественное признание, уважение окружающих — 14,8%; альтруистичный мотив помощи людям и обществу чаще упоминают представители старших возрастов — 70,3% (против 58,5%).
Для выявления представлений молодежи о мотивах занятия волонтерской деятельностью проводился факторный анализ ответов на вопрос V3, преобразованный в серию дихотомических переменных (метод вращения — варимакс; объясняемая дисперсия = 53,5% (компонента 1 — 21,8%; компонента 2 — 16,8%; компонента 3 — 14,9%). Судя по оценкам респондентов, существуют три модели мотивации волонтерства: модель «продвижение» связана с меркантильными установками, включает в себя наряду с высокими факторными нагрузками стремление продвинуться, сделать карьеру, получить рекомендации, приглашения на мероприятия и поездки, при одновременном отсутствии (отрицательная нагрузка) выраженного желания приносить пользу людям, участвовать в решении социальных проблем; модель «капитал» связана со стремлением к приращению собственного капитала (человеческого, социального); модель «ценности» связана с реализацией убеждений, общественным признанием и уважением. Когорты значимо не различаются по средним факторным значениям «капитала» и «ценностей», но «продвижение» ярче выражено у представителей младшей группы. Последнее (принимая во внимание, что респонденты во многом проецируют собственные мотивы) дает основания характеризовать респондентов из младшей когорты как более меркантильных, ориентированных на карьеру и рассматривающих волонтерство как инструмент получения выгоды. Отчасти такие установки могут быть сопряжены с нормативным закреплением учета индивидуальных достижений, обеспечивающего получение дополнительных баллов при поступлении в вуз и при движении по образовательной траектории (магистратура или аспирантура), хотя молодежь из младшей когорты весьма неоднородна в мотивации к добровольчеству.
Абсолютное большинство респондентов связывает молодежное добровольчество с рядом сложностей. Лишь каждый десятый (10,3%) уверен, что развитию волонтерской деятельности ничего не препятствует, и оптимистов несколько меньше среди самых молодых респондентов (когорта 1 — 7,4%; когорта 2 — 11,4%). Среди основных сдерживающих факторов чаще всего фигурировали: равнодушие молодежи к проблемам общества — 41,6% (когорта 1 — 36,5%; когорта 2 — 43,7%); нехватка времени — 41,2% (соответственно 50,1% и 37,6%); недостаточное материальное поощрение — 35,5% (41,7% и 33%). При этом респонденты 25–34 лет, в силу объективных причин имеющие меньше свободного времени, отмечают его дефицит значительно реже, видимо, более ответственно относясь к помощи нуждающимся в ней.
Таким образом, можно наблюдать разные сочетания мотивов участия и препятствий для добровольчества у представителей двух когорт «взрослой» молодежи, что необходимо учитывать в организации и развитии движения волонтеров в России. В обеих когортах большая часть молодежи готова к добровольчеству, видя в нем, прежде всего, возможность увеличить свой человеческий и социальный капитал, но одновременно признавая важность этой деятельности для общества. Это хороший признак социального здоровья молодежи, которая готова активизировать свою общественную деятельность, не забывая о собственных интересах и перспективах (саморазвитие, самореализация и жизненные достижения).
Об авторах
Людмила Александровна Беляева
Институт философии РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: bela46@mail.ru
доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения социокультурных изменений
ул. Гончарная, 12, стр. 1, Москва, 109240, РоссияИлья Александрович Зеленев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: zelenev@yandex.ru
научный сотрудник кафедры социальной психологии
Ленинские горы, 1, Москва, 119991, РоссияВладимир Анатольевич Прохода
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Финансовый университет при Правительстве РФ
Email: prohoda@bk.ru
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник кафедры философии образования Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия; Ленинградский просп., 49, Москва, 125993, РоссияСписок литературы
- Беляева Л.А. Российская молодежь в эпоху перемен: структурные изменения и новые вызовы политической социализации // Вопросы философии. 2020. № 10.
- Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике. М., 2013.
- Всеобщая декларация добровольчества // URL: http://gov.cap.ru/home/76/gorono/2005/ school6/dobrovoldvigenie_3.htm.
- Гордеева С.С. Сущность и структура социальной установки в социологии и социальной психологии // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2016. Вып. 3.
- Горлова Н.И. Становление и развитие института волонтерства в России: история и современность. М., 2019.
- Добровольчество в России // URL: https://edu.gov.ru//activity/main_activities/volunteering.
- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года // URL: http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR 8esYBYgq.pdf.
- Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1998.
- Масштабы и потенциал волонтерства // URL: https://fom.ru/TSennosti/14303.
- Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ ценностных ориентаций (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835.
- Основы организации и управления добровольческой деятельностью / Под общ. ред. О.А. Аникеевой, А.П. Рудницкой, О.В. Решетникова. М., 2019.
- Петухов В.В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3.
- Программа добровольцев ООН (ДООН) // URL: https://www.un.org/ru/ga/unv/resources.shtml.
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // URL: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf.
- Тургенев И.С. Памяти Ю.П. Вревской // Быть сестрой милосердия. Женский лик войны / Сост. Е. Первушина. М., 2017.
- Ульянова Г.Н. Благотворительность в российской империи: XIX - начало ХХ вв. СПб., 2005.
- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // URL: https://www.consultant.ru/cons/ cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370348&dst=100009%2C0#80gxgdSS8tmIZGhA1.
- Шевченко П.В. Социальная роль московского волонтерства // Социологические исследования. 2013. № 8.
- Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979.