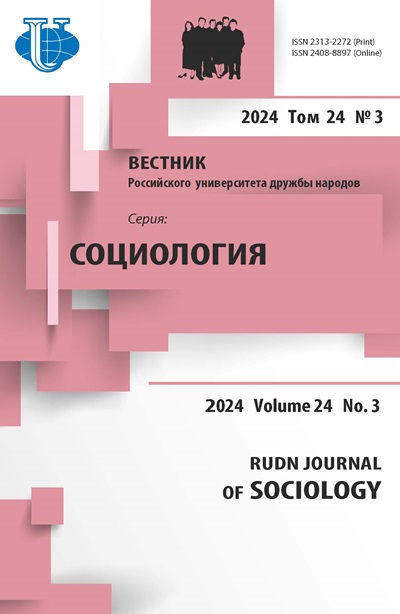К истокам методологии социального знания в России: А.С. Лаппо-Данилевский и современные дискуссии
- Авторы: Владимиров П.А.1, Лебедева А.В.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 21, № 2 (2021)
- Страницы: 354-364
- Раздел: Социологический лекторий
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/26822
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-2-354-364
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья раскрывает аспекты становления социологического знания в России, обусловленные научной и организаторской деятельностью А.С. Лаппо-Данилевского (1863-1919). Его вклад в развитие российской социальной и гуманитарной мысли связан преимущественно с разработкой основ истории, историографии и источниковедения, что широко отмечено в научно-исследовательской литературе. Однако вклад ученого в становление социологии, обозначение специфики ее предмета и создание модели системных курсов по исторической реконструкции социологического знания остаются открытыми темами для изучения. В статье рассмотрена проектная составляющая наследия Лаппо-Данилевского и предложенная им стратегия создания межпредметной методологии социальных наук. Цель статьи - описание вклада ученого в становление российской социологии, что позволит не только уточнить истоки социального знания в России, но и актуализировать наследие Лаппо-Данилевского. Авторы ставят новые вопросы и проблематизируют исследовательский потенциал трудов российских ученых на рубеже XIX-XX веков, что имеет перспективы для дополнения истории и методологии социологии. Последовательное описание деятельности Лаппо-Данилевского - от формирования институциональных основ российской социологии до проработки методологических принципов социального знания - ставит вопрос о влиянии позитивизма и неокантианства на научное сообщество. С другой стороны, изучение научной и организаторской деятельности Лаппо-Данилевского позволяет расширить область истории и методологии социологии, дополнив ее описанием институционализации социологии в России. Проблематика оснований социологического знания неизменно отсылает к трем моментам: созданию методологии, демаркации со смежными дисциплинами и раскрытию исторической составляющей становления социологии в академической среде. В статье также отмечены современные дискуссии, в которых социологическое наследие Лаппо-Данилевского рассматривается не только с позиций исторической реконструкции становления социального знания, но и в междисциплинарной предметности современной социологии.
Полный текст
Становление методологии социологического знания в России было обусловлено возрастающим интересом научного сообщества к повышению точности анализа социальных процессов с целью прогнозирования их динамики. Тот факт, что общественные отношения и социальная жизнь не могут быть объективно рассмотрены в отдельных науках, привел к популяризации идей французского и английского позитивизма. В России имелись предпосылки для развития социологического знания к началу XIX века, однако отсутствовал вектор развития единой методологии. Позитивизм предлагал теоретическую базу для изучения общества и удовлетворял критерию естественнонаучной объективности данных. Однако становление социологии в России было сопряжено с дисциплинарной демаркацией социологических исследований по отношению к смежным направлениям. В то же время проявилась ограниченность позитивизма в анализе социальной динамики, особенно в соотношении с историей. Прогнозирование общественных процессов требовало дополнения или критического пересмотра имеющихся методов при сохранении ориентации на точность и фактологичность. После распространения идей О. Конта во второй половине XIX века во Франции, Германии и России наметилась необходимость оформления целостной методологии изучения социальных явлений [22]. Позитивизм воспринимался как первая попытка оформления социологии, в которой еще отсутствовал инструментарий для раскрытия отдельных социальных явлений, но был обозначен общий мотив социологического знания — изучение общества во всем его многообразии как уникального объекта. Позитивизм был воспринят рядом российских ученых в качестве метатеории социологии и общественного развития.
В конце XIX века в России изучение социальных явлений осуществлялось преимущественно в рамках истории, теории права (юриспруденции), философии, филологии и психологии поведения человека. С момента распространения идей позитивизма среди российских ученых начинает формироваться представление о необходимости создания социологических курсов, а затем и специализированных учебных заведений и научных центров (отделов Академии наук и научных институтов). Одновременно была поставлена задача создания методологической базы социологии — у ее истоков стояли ученые, сначала объединенные «Русской школой» историков и социологов, а затем Социологическим обществом.
В ряду основоположников российской социологической мысли выделяется первый председатель Русского социологического общества — А.С. Лаппо-Данилевский. Его вклад в становление социологии, истории, философии, правоведения, источниковедения и историографии был отмечен как коллегами, так и современными исследователями. Так, А.В. Малинов описал социологическое и философское наследие Лаппо-Данилевского, С.Н. Погодин и Е.В. Ростовцев сосредоточились на историко-социологической реконструкции его исследований, М.Ф. Румянцева — на вкладе Лаппо-Данилевского в становление истории и источниковедения в России [14] и т.д.
Лаппо-Данилевский полагал, что для развития социологии в России имеются все условия — от накопленного исследовательского опыта и высококвалифицированных специалистов (Н.И. Кареев, И.М. Гревс, К.М. Тахтерев, П.А. Сорокин и др.) до материалов по изучению социальной среды (история России и реорганизации социальных отношений). Проблемы институционализации социологии — создания специализированных подразделений в академической среде — Лаппо-Данилевский связывал со слабой проработкой методологической базы и отсутствием систематических курсов по истории социологического знания. Возглавив в 1916 году Русское социологическое общество имени М.М. Ковальского и подписав его первый Устав, он занялся созданием Института социальных наук при Академии наук и разработкой курсов по социологии. Приоритетом выступали две задачи: 1) создание методологической базы, опирающейся на имеющийся во Франции и Англии опыт позитивной социологии (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль и Э. Дюркгейм); 2) проведение демаркационных линий между социологией и другими направлениями обществоведения.
Лаппо-Данилевский настаивал на самостоятельности социологии, имеющей собственный предмет — социальные отношения в их многообразии, хотя социология имеет общие исследовательские интенции с другими дисциплинами. Отличительной чертой социологии становится применение комплексного подхода к изучению социальных отношений и фактов с прикладной целью выявления основ общественного развития. Для этого требовалось объединить ученых из разных областей в едином университетском пространстве, создав соответствующие институциональные структуры. Предшествующий опыт показывал, что независимые исследования, например П.А. Сорокина, при всей своей системности не могут стать частью университетской среды и основой подготовки молодых ученых. Все эти проблемы были поставлены перед коллективом ученых на неформальных встречах [9. С. 16], хотя социологические курсы уже читались в России, т.е. не они были основной целью создания Социологического общества.
Можно выделить следующие задачи Социологического общества: во-первых, объединить ученых, имеющих опыт социологических исследований, в рамках единой структуры; во-вторых, создать университетскую среду, где социология занимала бы приоритетное положение по отношению к смежным направлениям. Посредством сопоставления разных направлений социологического знания (субъективистской теории и эволюционизма с накопленным опытом изучения социальных явлений в истории) решалась бы задача расширения предметной области социологии за счет объединения разных дисциплинарных подходов. Лаппо-Данилевский к моменту занятия должности председателя Русского социологического общества уже обладал достаточным опытом организации научных коллективов в университетской среде с привлечением студенчества: это секция русской истории в Историческом обществе Санкт-Петербургского университета, Археологическая комиссия, Витебская ученая архивная комиссия, Русское историческое общество, Союз российских архивных деятелей и Русское социологическое общество. По итогам развернувшихся дискуссий и переписок по поводу организации Социального института усилиями Русского социологического общества Лаппо-Данилевский делает важное уточнение: для развития социологического знания следует использовать достижения разных отраслей науки на базе методологии социологии — комплекса экономических наук, «антропологии, антропогеографии, психологии, этнографии, этнологии» и «социологии в узком смысле (теория и методология)» [9. С. 29]. Например, работа «Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII столетия» обозначена как исторический очерк, но в то же время отсылает к современной для ученого тематике развития государственных и экономических отношений в России [6].
Изучение научной деятельности Лаппо-Данилевского всегда имело междисциплинарный характер, что обусловлено широким кругом и многогранностью исследований ученого: «История, историография, теоретическое источниковедение, дипломатика, археография, социология, философия, история и методология науки — вот далеко неполный перечень направлений научной деятельности Лаппо-Данилевского, в каждом из которых он достиг столь весомых результатов, что многие из них остаются непревзойденными и по сей день» [3. С. 6]. В области методологии истории и истории философии (истории становления русского неокантианства) наследие Лаппо-Данилевского хорошо изучено, но не в области истории методологии социологии. Когда в 1916 году он стал первым председателем Русского социологического общества, одной из приоритетных его задач была разработка методологии социологии и ее разведения со смежными направлениями (историей, правоведением и психологией).
В литературе отмечена преемственность идей Лаппо-Данилевского по отношению к французскому и английскому позитивизму, а также к немецкому неокантианству, преимущественно Баденской школы. Заинтересованность позитивизмом объясняется стремлением к достоверности и объективности результатов исследования истории и современности общества. В историко-философской литературе подробно рассмотрена эволюция взглядов Лаппо-Данилевского, но слабо проработана тематика специфики методов социологии. Идеи позитивизма ярко выражены в ранних работах ученого, особенно до критической статьи «Основные принципы социологической доктрины О. Конта», которая получила положительную оценку историков и социологов [8. С. 17]. Влияние Баденской школы отразилось в постановке вопроса о возможности сочетания изучения общего историко-культурного контекста с выявлением специфики отдельных значимых исторических событий. Такой методологический подход применялся не только в истории и историографии, но и в обществоведении и социологии.
В фундаментальной работе «Методология истории» поставлен вопрос о специфике социологического знания. В самом начале, в описании становления исторической науки, названа причина появления «номотетического понимания социальных явлений», а история («историко-культурные» концепции), социология и философия разграничены в своих предметных областях [4. С. 87]. Начала социологии обнаружены в Новом времени, которое позволило достичь наукообразности социальной мысли по естественнонаучному образцу, в дальнейшем методологические различия в изучения природы, социальных явлений и исторического процесса укреплялись. Лаппо-Данилевский предлагает своеобразный синтез идей В. Виндельбанда и Г. Риккерта, совмещая принципы разведения номотетического и идеографического подходов, а также генерализирующих и идеализирующих наук: он концептуализировал недостатки и преимущества всех подходов, разрабатывая оригинальную методологическую базу.
Специфика социальных явлений требовала, с одной стороны, описания индивидуальных и неповторимых событий (идеализированных схем социальных отношений), что сближает методы истории и социологии, но, с другой стороны, в социальной жизни существуют закономерности, которые требуют естественнонаучной точности, недостижимой при чрезмерном абстрагировании от конкретных проявлений социального (субъективности), что раскрывается в соотношении Я и Другого и в определении источника социальных событий, в первой очередь, посредством историко-социальной реконструкции [12]. В литературе представлен анализ проблематики «Чужого Я» с позиции методологии истории, показаны общие основания в определении объективности восприятия Другого Я у Лаппо-Данилевского с исследованиями Г. Шпета [13], поскольку Лаппо-Данилевский вплотную подходит к определению социальной жизни (где только и возможно объективное раскрытие «Чужого Я») как социальной реальности в онтологических категориях.
Ряд авторов раскрывает истоки становления истории как строгой науки, сопоставляя основные положения Лаппо-Данилевского, Введенского и Дильтея [15. С. 24]. Критерием сравнения выступает определение объективности интенции сознания при конструировании представления о «Чужом Я». У Лаппо-Данилевского и Введенского обнаруживаются схожие линии при определении «Чужого Я», в частности, принцип критицизма. Однако Введенский ставит вопрос о том, «как именно каждый из нас проверяет свое убеждение, что, кроме него, есть душевная жизнь и у других существ» в критической философии — без «метафизических предпосылок» (в том числе материалистических) [2. С. 3], а Лаппо-Данилевский добавляет важное уточнение — предмет объективации сознания выразим только в перспективе социального действия [8. С. 252].
Обозначение социологического контекста как способа доказательства для Введенского было неприемлемо, так как он исходил из логического анализа и установки на «чистый» от эмпирии источник знания. Лаппо-Данилевский, напротив, считал, что в вопросах, касающихся человека и его жизни, анализ социальной среды и исторического контекста позволяет получить более достоверные ответы. Благодаря архивным материалам, особенно курсу «Общее обозрение (summa) основных принципов обществоведения», можно проследить прямую аналогию с идеями ранней русской неокантианской мысли. С другой стороны, Лаппо-Данилевский не конституирует социологию на основе философской рефлексии об особенностях восприятия человеком окружающего мира, других субъектов и самого себя по отношению к Другим. Лаппо-Данилевский различает гносеологический и психогенетический аспекты «признания чужого одушевления» [8. С. 246]: первый схож с трудами Введенского, имя которого не упоминается, второй требует анализа социального опыта как первичного для сознания человека, согласующегося с принципом единообразия человеческой природы и постоянства наследственности (множественность признаков человека как биологического существа и субъекта социальных отношений). Критическая философия используется как линия демаркации для способов изучения одних и тех же явлений в социологии и философии. Разработанная методология истории и источниковедения позволила Лаппо-Данилевскому использовать неокантианскую модель в обществоведении для изучения исторического развития социальной жизни и конструирования социальных явлений в настоящем.
В наследии Лаппо-Данилевского дискуссионным остается совмещение объясняющего и описательного подходов посредством сочетания номотетического и идеографического методов в анализе индивидуальных проявлений социальной жизни. Можно было бы предположить, что после проработки позитивизма и создания оригинального метода исторического анализа (разделение исторических событий согласно методологии Виндельбанда), он будет сближаться с социологизмом Дюркгейма. Однако обозначение Лаппо-Данилевским функций социологии указывает на противоположную позитивизму традицию — «понимающую социологию». Подобная неоднозначность возникает вследствие использования положений баденского неокантианства, где критика позитивизма согласуется с критикой естественнонаучного приоритета в изучении мира культуры и общества [21]. В итоге у Лаппо-Данилевского применение подходов разделено по телеологическому основанию — выбор метода зависит от цели исследования, а не от принадлежности к определенной научной школе (критерий объективности и междисциплинарности знания).
Использование номотетического подхода в работе «Методология истории» напоминает индивидуализирующий подход Риккерта [1]. Виндельбанд считал приоритетом обоснование уникальности гуманитарных наук, что подразумевало критику позитивизма и выделение «наук о духе» из единого пространства научного знания. Риккерт же, разделив генерализирующий и индивидуализующий методы, стремился к достоверности рассмотрения культурных явлений и исторических событий в их уникальности. В отличие от задачи Виндельбанда — обоснование своеобразия объектно-предметной области «наук о духе», Риккерт сконцентрировался на разработке метода изучения культурных явлений (в первую очередь ценностей) и исторических событий, утверждая их принципиальную уникальность и неповторимость. Лаппо-Данилевский уже в историографических работах имплицитно поставил задачу рассмотрения индивидуальных явлений в неразрывной связи с социальной жизнью — как с неким общим по отношению к частному факту: «научно-объединенное или обоснованное знание может стремиться и к обобщению данных нашего опыта, и к их индивидуализированию», что зависит от познавательной цели и объединяет эмпирический анализ с изучением явления (или вещи) в его соотношении с другими явлениями [4. С. 219]. Также он критикует использование только номотетического метода, так как общее и частное составляют единый предмет исследования [4. С. 222].
Ключевым вопросом в курсах Лаппо-Данилевского были гносеологические принципы социологического знания, а не только его фрагментарно описательная, объясняющая и понимающая функции, т.е. задача разработки методологической базы социологии для исследования индивидуальных социальных явлений в перспективе многообразия социальной жизни. Лаппо-Данилевский сформулировал и частично решил две важнейшие для русской социологии задачи: институционализация социологии, обеспечивающая преемственность и передачу накопленного опыта; создание единой методологической базы социологии посредством объединения разных дисциплинарных подходов. По сути, он создал первую междисциплинарную модель социологии на принципах объединения гуманитарных (история, правоведение, источниковедение) и естественнонаучных (позитивизм, биология) подходов.
Положения Лаппо-Данилевского, особенно применение методов исторического анализа в социологии, имеют научный потенциал для изучения одной из важнейших проблем современности — механизмов трансформации исторической памяти. Поскольку данный вопрос находится в межпредметной области, то предложенная им модель социологического знания может служить теоретико-методологическим основанием комплексного изучения восприятия истории как процесса развития общественных отношений и как феномена, объединяющего ценностные основания социальной жизни. Особенностью исторической памяти «является как ее собственная непроясненность в качестве объекта социологического исследования, так и сложность эмпирической верификации» [11. С. 11]. Также она связана с механизмами формирования общественного сознания и социальной адаптации, задавая ценностные основания общества (социальные паттерны). Связь между историческим развитием общества и непосредственной данностью социальных явлений в их многообразии, а также соотношение общего и частного в социальной жизни были предметом исследований Лаппо-Данилевского, который предложил модель поиска методологических оснований изучения исторической памяти: совмещение методологии номотетических наук с индивидуализирующим подходом на основе синтеза теоретической реконструкции с эмпирическими данными [10]. Историческая память может быть рассмотрена с применением принципов, предложенных Лаппо-Данилевским: 1) история имеет общий контекст, неизменно больший, чем совокупность отдельных социальных явлений конкретного периода развития культуры; 2) точность определения исторических явлений достигается посредством привлечения эмпирических данных при рассмотрении индивидуальных характеристик предметов, составляющих содержание исследуемого явления; 3) всегда следует учитывать, что конкретное историческое явление может представлять собой неповторимый и уникальный факт, требующий гносеологических инструментов реконструкции.
Постулируемые Лаппо-Данилевским основания научного поиска формируют модель методологии социологического знания, что подтверждается исторической реконструкцией развития социологии с XVIII века до современных ему идей. Историко-социологическая реконструкция соотношения критики позитивизма и идеализации критического реализма уже стала предметом методологии истории и социологи [17] и может развиваться на основе трудов Лаппо-Данилевского. Он предложил оригинальную модель изучения социальных явлений посредством объединения двух стратегий (позитивизма и неокантианства) на принципах комплексного изучения фактов и контекстов, а также наметил стратегии поиска достоверных оснований междисциплинарного исследования [5; 7]. Результатом предложенного Лаппо-Данилевским совмещения позитивизма и неокантианских штудий стало развитие методологии истории и выделение критериев достоверности комплексного анализа социальных явлений в контексте многообразных взаимоотношений в социальной среде.
В настоящее время вновь актуализируется вопрос о роли позитивизма и естествознания в социологии и смежных дисциплинах социально-гуманитарного профиля [16; 18; 19; 20]. В этом смысле труды Лаппо-Данилевского дополняют исследования в области выбора наиболее перспективных векторов развития фундаментальных социологических исследований, в том числе и потому, что, высказывая критические замечания в адрес моделей социологии, построенным на позитивистских, «биолосоциологических», описательных и объясняющих подходах, он всегда отмечал как дискуссионные, так и убедительные их позиции. Наследие Лаппо-Данилевского обладает потенциалом для обогащения истории (методологии) социологии в России и для систематизации методов социологии (в частности, в изучении исторической памяти).
Об авторах
Павел Анатольевич Владимиров
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: vladimirov_pa@rudn.ru
кандидат философских наук, ассистент кафедры онтологии и теории познания
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, РоссияАнастасия Владимировна Лебедева
Российский университет дружбы народов
Email: lebedeva-av@rudn.ru
ассистент и аспирант кафедры онтологии и теории познания
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, РоссияСписок литературы
- Белов В.Н. Философия Баденской школы неокантианства // Философское обозрение. 2017. № 2.
- Введенский А.И. О пределах и признаках одушевления. М., 2012.
- Лаппо-Данилевский А.С. История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом развития ее культуры и политики. Кельн, 2005.
- Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Т. 1. М., 2010.
- Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890.
- Лаппо-Данилевский А.С. Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII столетия. СПб., 1899.
- Лаппо-Данилевский А.С. Собрание и свод законов Российской империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1898.
- Малинов А.В. Русская социологическая школа в оценке А.С. Лаппо-Данилевского // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19. № 3.
- Малинов А.В. Социологическое наследие А.С. Лаппо-Данилевского: исследования и материалы. СПб., 2017.
- Малинов А.В., Ащеулова Н.А. Научное наследие А.С. Лаппо-Данилевского в отечественной истории социальных наук // Социология науки и техники. 2019. № 4.
- Мысливец Н.Л., Романов О.А. Историческая память как социокультурный феномен: опыт социологической реконструкции // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
- Ольхов П.А. Проблема «Чужого Я» в методологии истории А.С. Лаппо-Данилевского (кантианские мотивы) // Кантовский сборник. 2011. № 3.
- Ольхов П.А., Щедрина Т.Г. Проблема «Чужого Я» в методологии истории Густава Шпета и Александра Лаппо-Данилевского // Методология истории: Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-Данилевский, Д.М. Петрушевский, В.М. Хвостов. М., 2019.
- Румянцева М.Ф. Развитие теоретико-познавательной концепции А.С. Лаппо-Данилевского в научно-педагогической школе источниковедения // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества. СПб., 2019.
- Румянцева М.Ф. Философские основания методологии истории в русской версии неокантианства: А.И. Введенский и В. Дильтей // Диалог со временем. 2018. № 62.
- Bandyopadhyay S. Positively: Comte’s positivism and early anthropology in India // Culture and Society. 2018. Vol. 1.
- Brzechczyn K. Between positivism, narrativism and idealization in Polish methodology of history // Historein. 2014. Vol. 14. No. 1.
- Ishfaq Majeed. Understanding positivism in social research: A research paradigm // International Journal of Research in Social Sciences. 2019. Vol. 9. No. 11.
- Rosso M.J. Ascension and decline of positivism in Argentina // European Journal of Legal History. 2020. Vol. 17.
- Steinmetz G. Historicism and positivism in sociology: From Weimar Germany to the contemporary United States // Herman P., van Veldhuizen A. (Eds.). Historicism: A Travelling Concept. L., 2020.
- Windelband W. A History of Philosophy. The Formation and Development of its Problem and Concept. N.Y., 1935.
- York R., Clark B. Marxism, positivism, and scientific sociology: Social gravity and historicity // Sociological Quarterly. 2016. Vol. 47. No. 3.