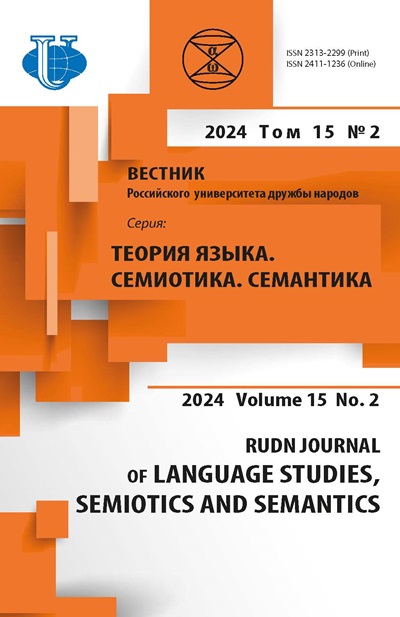Семиотика интертекстуальности: на базе философской категории «гуманизм» в постмодернистском тексте
- Авторы: Енсебай Г.Е.1, Демченко А.С.1, Таттимбетова К.О.1, Джолдасбекова Б.У.1
-
Учреждения:
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
- Выпуск: Том 15, № 2 (2024)
- Страницы: 600-622
- Раздел: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/39859
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2024-15-2-600-622
- EDN: https://elibrary.ru/NVKXUV
- ID: 39859
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Гуманизм как гносеологема получает свое развитие еще в эпоху Возрождения, однако на сегодняшний день концептуальное поле гуманизм продолжает уточняться: философы, литературоведы и другие представители гуманитарного знания задаются вопросом о границах гуманизма, о его квалификации как провозглашения ценности жизни и достоинства отдельного субъекта, о его статусе социального феномена, который следует рассматривать диахронически. В статье исследуется философская категория гуманизма на материале постмодернистского романного цикла А. Жаксылыкова «Сны окаянных». Постмодернизм - направление, магистральным вектором которого становится дегуманизация как отдельной личности, так и общества. Намеренно травестированная манера изложения, концентрированная интертекстуальность, модификация канонических текстов прошлого создают такой модус восприятия, при котором невозможно рассматривать гуманизм как целостную идею вне сатирического или иронического подтекста. Тем не менее, в казахстанской современной прозе мы находим образцы художественных произведений, преодолевающие эту тенденцию. К ним относится романный цикл А. Жаксылыкова «Сны окаянных». Актуальность выбранной темы заключается в том, что постмодернистское произведение проанализировано с точки зрения концепции гуманизма: подобный подход позволяет нам сделать выводы о важности исторической памяти, аутентичности этнокультурных сценариев. Объект исследования - концепция гуманизма, предмет - реализация гуманистического дискурса в художественном тексте. Материалом исследования стал цикл «Сны окаянных» А. Жаксылыкова. Цель работы - осмыслить категорию гуманизма сквозь модус художественности и доказать, что в русле постмодернистского дискурса дегуманизация есть «инверсированная гуманизация». Методы исследования: описательный, метод герменевтического комментария, метод интертекстуального анализа.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Имманентный подход к языку, или парадигма, внутри которой языковая система рассматривалась как causa sui, сменилась антропоцентрическим подходом: гуманитаристика нашего времени сосредоточена на человеке во всей многомерности его проявлений. Монодисциплинарное знание оказывается сегодня недостаточным: активно развиваются науки интегративного типа, позволяющие постичь исследуемый объект с точки зрения разных аспектов и разной инструменталистики. Так, литературоведение оказывается неизбежно сопряжено с теорией языка.
Литература, которую принято было рассматривать как миметический феномен, сегодня осмысливается не как мимикрический, но как моделирующий акт: Ю.М. Лотман и Московско-Тартуская школа убедительно доказывают, что художественный текст не «подражание миру», а генерация новых образов этого мира, выстраивание альтернативной реальности, в которой микрокосм человека взаимодействует с макрокосмом бытия, сотворенного текстом.
В разные эпохи литература «конструировала» разные же типы человека. Типизация субъекта была характерна Античности: социальные и сакральные маски замещали собственно человека, проживающего как внешнюю, так и внутреннюю жизнь, если воспользоваться формулировкой Е. Эткинда. Вплоть до эпохи классицизма тенденция типизации героя сохранялась. Человек внутренний начал проявляться лишь со сменой художественной парадигмы: от сентиментализма и вплоть до метамодернизма литература стала обращаться к «живой жизни» человека — теперь было важно очертить гуманистическую идею, без которой психологизация образа героя оставалась неполной.
В широком понимании термина гуманизм — это особый тип философского мировоззрения, утверждающий человека носителем свободы и достоинства вне зависимости от исполняемых им социальных ролей.
Как культурное движение гуманизм зародился во Флоренции; полагают, что оно восходит к Ф. Петрарке. Гуманисты, именовавшие себя мудрецами, посвящали свою жизнь познанию тех вещей, которые относятся к нравам и модусу вивенди общества, «украшая человека».
На ранних стадиях развития философская концепция гуманизма была связана с изучением таких дисциплин, как риторика, грамматика, поэзия, история и моральная философия. Слово воспринималось как добродетель. Центральной идеей гуманизма выступало всестороннее культивирование человеческого достоинства.
Гуманизм отталкивается от антропоцентрического подхода к человеку как свободному существу, наделенному волей творить самого себя. Этот подход ознаменовал эпоху классической рациональности, главным идеалом которой стал познающий человеческий Разум. Появились первые утопии (Т. Мор, Т. Кампанелла).
В 19–20 вв. наступил период кризиса гуманизма, связанного во многом с ницшеанской философией. Х. Ортега-и-Гассет рассуждает в это время о дегуманизации искусства; русский философ Н. Бердяев видит причину дегуманизации общества в отрыве человека от Бога.
Тем не менее, гуманизм сохраняет свое значение непреложной культурной ценности. Человек как мыслящее и свободное существо противопоставляется обществу капитализма, бюрократии и финансово-промышленных корпораций. В «Письме о гуманизме» М. Хайдеггер рассуждает о забвении человеком истины бытия, которая единственно и придает смысл его существованию [1]. Ж.-П. Сартр рассматривает гуманизм как экзистенциализм: человек есть не родовое существо, но индивид в уникальном и неповторимом жизнеположении.
Согласно классификации Н.Ю. Харари, термин «гуманизм» может быть дифференцирован:
- каждый человек представляет собой высшую ценность (либеральный гуманизм);
- коллектив людей, объединенный общностью языка и культуры, представляет собой высшую ценность (социалистический гуманизм);
- вид Homo Sapiens, способный как развиваться, так и деградировать, есть высшая ценность (эволюционный гуманизм) [2].
В рамках настоящей работы мы задались вопросом: есть ли место категории гуманизма в произведениях постмодернизма, созданных авторами новейшей казахстанской прозы? Наш вопрос неслучаен. Постмодернизм, вопреки гуманизму как концепции классического рационального, развивается в русле иной парадигмы: постнеклассической рациональности. Знание становится не «стержневым» (осевым, как это было прежде), но ризоматическим: оно растет «вширь», отдельные его «побеги» сцепляются друг с другом наподобие коннектома, следовательно, мир, конструируемый литературой, распадается и собирается заново на новых нарративных участках. Действующий субъект такого мира (а именно он, с точки зрения литературы, выступает носителем гуманистической идеи) в таком случае не целостен: он представляет собой текучее, а зачастую расщепленное сознание, которое конфигурируется под действием определенных факторов, но не «цементируется», а вновь диффузируется. Можно ли говорить о том, что дегуманизация (а герои произведений казахстанского постмодернизма — дегуманизированные индивиды) — это новая гуманизация?
Как пишет в своей диссертации А.С. Демченко, «Казахстанская литература многомерна и сложна в эпистемологическом отношении; она совмещает в себе множество художественных миров, каждый из которых представляет собой фрагмент определенной национальной картины мира. При этом сам феномен казахстанской литературы не сводим к сумме составляющих ее частей. Скорее, речь идет о контаминации различных этнокультурных и художественных слоев, в результате чего сама эстетическая «астеносфера» литературы подвергается изменениям. Литература народа Казахстана — явление уникальное и многогранное, своеобразный творческий феномен, включающий казахскую, русскую, уйгурскую, курдскую, немецкую, татарскую, корейскую, узбекскую литературы» [3. C. 3].
В литературе как в метаформуле «добытой эстетической истины» ведется постоянный поиск ответов на самые значимые вопросы современности: обществу необходима обновленная этиология, расстановка ценностных координат, критическое отношение к Человеку и к Миру, в котором он существует» [3. C. 3].
Обсуждение
Как связана идея гуманизма с семиотикой интертекстуальности? Языковой знак в силу базовых своих параметров — в частности, ассиметрии, всегда имеет потенциал к ризоматичному сцеплению с другим языковым знаком при условии, что потенциальные семы обоих на определенном уровне пересекаются. Интертекст — это глобальная парадигма текстов, своего рода «эхокамера», внутри которой происходит перманентное «отражение отражаемого». Архисемы, как и дифференциальные семы конкретного слова могут при этом не совпадать. Однако потенциальные семы слова дают нам широкое поле взаимных пересечений.
Мы рассмотрим концепцию де- и гуманизации на материале постмодернистского художественного цикла А. Жаксылыкова «Сны окаянных». По мнению О.А. Валиковой, художественный цикл «Сны окаянных», самое масштабное произведение Автора, определен критиками и исследователями как «прорыв в будущее», и эта характеристика закономерна. В создании своего художественного мира Жаксылыков «отходит» от соцреалистической парадигмы в силу ее жесткой ограниченности. Подход к личности как носителю социальной функции, отсутствие метафизического горизонта, художественный «нормативизм», диктат идеологических ориентиров отвергаются автором как неприемлемые творческие координаты [4].
Мир художественного универсума Жаксылыкова алогичен и дискретен. Это Хаос, и герои романного пространства пытаются вернуть ему гармонию.
В этом отношении — как и в организации текстуального пространства — произведение «накладывается» на новую художественную реальность — семиотизированное поле постмодернизма. Именно постмодернизм, по мнению Н.Л. Лейдермана, исходит из мысли о принятии и эстетическом узаконивании Хаоса, к чему стремятся все герои цикла. Их ментальное и духовное Бытие можно обозначить словом, изобретенным Д. Джойсом — Хаосмос, Космос, порожденный Хаосом. Хаосмос «открывает цельность мира в его разрывах, связность — в конфликте противоположностей, устойчивость — в самом процессе бесконечного движения. Такой Космос не примиряет с Хаосом, но упорядочивает его» [5. C. 48].
Литература постмодернизма — это система, самодвижущей силой которой становится ее амбивалентность, более того — антиномичность, когда в единстве противоположных, зачастую взаимоисключающих тенденций рождается особое «поле напряжения» эстетического феномена. Постмодернизм, с одной стороны, сумел компилировать наиболее важные черты и элементы предшествующих литературных направлений (и здесь не приходится говорить даже о диахронической вертикали, так как постмодернизм ориентирован на панхронию), с другой — эти черты и элементы были подвержены значительным модификациям, реконфигурации, демонтажу.
Неслучайно одной из метафор постмодернизма становится «расчленение Орфея». Метафора эта, что не случайно, насквозь интертекстуальна. Орфей как символ гармонического в искусстве уступает место необузданному, гоническому дионисийству. По священным водам Гебра плывет его голова. Найденная музами Аполлона, она помещается в один из его храмов, где продолжает пророчествовать. Однако этот метасюжет постмодернизму неинтересен: в концепции последнего искусство есть Орфей расчлененный.
Постмодернизм сегодня — уже не «омега» в смене культурных вех; сегодня исследователи говорят и о метамодернизме, и об альтер-модернизме. Тем не менее, его влияние на культуру новейшего времени остается стабильным. Эпоха постмодерна — это суммирующее состояние цивилизации последних десятилетий, которому свойственны ощущение завершенности познанного мира, изжитости современности, тема вступления в стадию эволюционного кризиса. Это симптоматично: веяния, давшие импульс постмодернизму, обусловлены изменениями в коллективном бессознательном, разочарованием в идее господствующей рациональности, поиску медиаторных стратегий сосуществования различных этносов, культурных программ, идеологических систем и отдельных субъектов.
Постмодернизм ознаменовал усиление новых тенденций в культуре и социуме. В частности, это смена стиля научного мышления. В противовес классической рациональности пришла постенклассическая рациональность, для которой не существует раз и навсегда познанных объектов действительности: каждый тезис либо ставится под сомнение, либо принимается на веру, однако не манифестируется как алеатически «безупречный».
Само понятие «постмодернизм» наряду с альтернативными категориями (трансавангард, постструктурализм, деконструктивизм) продолжает уточняться. В контексте «большого времени» (М. Бахтин) постмодернизм — явление довольно новое. Начиная складываться в США на базе постфрейдистских идей и литературоведческих концепций французских постструктуралистов, он дал новому поколению деятелей культуры (в широком смысле) импульс к осмыслению актуальных тенденций современности, таких, как поп-арт, цитатность как принцип текстовой организации и других.
Статья Л. Фидлера «Пересекайте границы, засыпайте рвы» (1969) стала одной из знаковых теоретических работ того времени. Один из ее лейтмотивов — сближение языка модернизма с языком масслита, которое должно было способствовать выходу искусства за рамки элитарных модернистских дискурсов (в силу интеллектуализации которых они были недоступны широкому читателю). В то же время презираемая эстетами беллетристика стала еще одним «компонентом» нового направления в литературе.
Смешение этих тенденций должно было дать литературе возможность выйти за пределы жанровых границ и направлений, читательских ожиданий и авторских стратегий. Особую роль в популяризации постмодернизма сыграли идеи материалы журнала «Октобер», благодаря которому принципы нового направления повлияли на весь комплекс гуманитарных наук — от психоанализа до криминалистики.
Каковы отличительные черты постмодернизма? В первую очередь, концепция Хаоса и распада, пересечение временных осей, модусов реального и ирреального, панхронизм в селекции жанров, направлений и эмблематических текстов различных эпох, утрата имманентного смысла «вещи в себе», взаимопрницаемость феноменов, текучесть, децентрированность, ризоматичность. Традиционные представления о целостности разрушаются. Границы размываются; нивелируется табуированность отдельных тем и мотивов. Для посмодернистской парадигмы характерны:
- деканонизация классических образцов культуры;
- упразднение бинарных оппозиций;
- стирание границ личности, совмещение концептов «Я» и «Другой»; • мутация жанров;
- карнавализация;
- метаязыковая игра;
- игра в Хаос;
- интертекстуальность;
- неономадизм;
- ориентация на полиинтерпретативность текста без жесткой фигуры Генерала (Автора);
- приглашение читателя к сотворчеству и разработка стратегий кооперации с читателем;
- принципиальная незавершимость конструкции.
Все эти черты обусловили особенности постмодернистской поэтики. Произошла гибридизация жанров, усилилась пастишизация, тенденция к фрагментации, расчленению текста, созданию коллажей, интертекстуальной игре, иронии и пародии. Главным объектом стал Текст, главным принципом — отказ от Истины. Мир в концепции постмодернизма иллюзорен, фиктивен, наполнен симулякрами и квазиценностями, алогичен. Жизнь подвергнута опустошению, личность во всех смыслах дестабилизирована. В противовес этому Текст становится безграничным и тотальным («Мир есть текст»).
Важная характеристика литературы постмодернизма — использование автором определенной маски, намеренное затруднение повествования, откровенная пародийность и черный юмор.
В рамках настоящей работы мы рассмотрим романы одного из знаковых постмодернистов казахстанской литературы — А. Жаксылыкова. Роман в данном случае — жанр условный. В нем нет реализации классического принципа Н. Буало (справедливого как для драматургии, так и — условно — для прозы), предполагающего единство места, времени и действия. Напротив, это собрание изолированных друг от друга фрагментов, не сцепленных сквозными персонажами. Тем не менее, мотивная структура романа относительно гомогенна: мотивы смерти и возрождения, преодоления границ, дестабилизации литературных канонов присущи всем романам прозаического целого — метатекста.
При интерпретации текста мы используем методы:
- интертексуального анализа;
- герменевтического комментария;
- мотивного анализа.
В нашей работе мы опирались как на хрестоматийные тексты теории постмодернизма, так и на работы, посвященные творчеству А. Жаксылыкова. Одна из известнейших работ, посвященных поэтике постмодернизма, принадлежит канадскому исследователю Л. Хатчеон. Ученый отмечает, что литература постмодернизма пародийна и иронична.
Главными особенностями направления Хатчеон называет игру, черный юмор, интертекстуальность, знаменующую идею децентрированной Вселенной, пастиш (комбинирование, склеивание элементов разных произведений), фабуляцию (смешение вымышленного с реальным), пойоменон (как тип метапрозы), временные искажения, гиперреальность, паранойю [6]. Известный теоретик русского постмодернизма М. Липовецкий продолжает этот ряд, включая в характеристики постмодернизма диалогизм (в частности, диалог с Хаосом), культурогенность текста, семионтологизм [7]. Об онтологии постмодернизма пишет С. Сулейман [8]. Незаменимым теоретически источником остается издание The Routledge Companion to Postmodernism. В нем представлены работы ученых со всего мира, эссе по философии, политике, литературе, критической теории, бизнесу, гендеру и исполнительскому искусству, а также гипермедиа [9]. По мнению Х. Демеера и С. Витсе, современное развитие художественной литературы до сих пор не преодолело онтологической доминанты постмодернизма; тем не менее, в литературе новейшего времени наметился сдвиг в сторону аффективной доминанты.
Доминанты — структуры, вносящие порядок и иерархию в многообразие техник и приемов художественного текста. «Формальные и нарративные приемы, которые в модернистской или постмодернистской художественной литературе способствовали эпистемологической или онтологической доминанте, имеют тенденцию выдвигать на первый план вопросы аффективности в современной художественной литературе» [10]. «Поздний постмодернизм» исследует силы, формирующие современную литературу, и замечательные стратегии, которые писатели используют для осмысления их места в культуре [11].
Об интертекстуальности как особом типе дискурсивности постмодернистского текста пишут исследователи С.А. Кошарная и Т. Григорьянова. «Чаще всего интертекстуальность понимается как зависимость смысла дискурса от ранее созданного текста (в нашей работе мы называем его «претекстом», или «прототипическим текстом», по отношению к тексту-реципиенту)» [12. С. 16]. Как полагает Дж. Аллен [13. С. 44], дискурс вбирает в себя исторические и социокультурные факторы, а язык репрезентирует их, объединяя контекст и предыдущие тексты культуры.
«Сны окаянных» А. Жаксылыкова как гуманистическое произведение
Цикл А. Жаксылыкова «Сны окаянных» — произведение сложное, многомерное и поликодовое. Исследователи не раз отмечали, что для адекватной расшифровки его смыслов необходимо пристально вчитаться в заглавие: в нем на уровне метатекста, помимо существительного «сны», маркирован субстантив «окаянные». Внутренняя форма этого слова отсылает нас к библейскому сюжету о Каине — первому человеку в дохристианской истории, который совершил братоубийство. С этого греха и начинается история падения человечества — история междусобиц, конфликтов и войн.
Война — объект пристального исследования Жаксылыкова. Причем война эта ведется не только между народами, но и между социумом и индивидом: это война за человеческое достоинство и свободу.
Первый роман цикла как нельзя лучше иллюстрирует эту идею. Ее главный герой, ученый и поэт Жан, проходит множественные испытания прежде, чем обретает собственное достоинство. Это глубоко травмированный субъект. Несомненную травму ему нанесло взросление близ Семипалатинского полигона: на глазах героя его городок медленно, но верно превратился в город-призрак. Умерла маленькая сестренка. В атмосфере нелюбви и предательства развивались отношения между матерью и отцом. Отсутствие материнской любви задает роману один из векторов сюжетного развития — мировое сиротство. Вырвавшись из социального контекста своего детства, Жан достигает высокого общественного статуса. Казалось бы, победа над обстоятельствами должна стать для него переломной вехой: торжествует разум, человеческое достоинство и воля к жизни. Однако автор ведет своего героя путем жизненных перипетий: не вынеся предательства жены (которая сценарно повторяет поступок его матери), Жан оказывается бесприютным скитальцем и бежит в пустыню, на границу реки Хоргос. Там он оказывается рабом жестокосердного старика-китайца, который заставляет его собирать диковинные камни в устьях пересохшей реки. Под палящим солнцем, за хлеб и дешевое вино, Жан выполняет тяжелую физическую работу, постепенно теряя человеческий облик. Уровень дегуманизации персонажа достигает своего апогея, когда старик вручает Жану немецкую бритву, чтобы прервать свою жизнь. Автор ставит перед читателем главный вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы жить. Этот вопрос был поставлен еще А. Камю в его «Мифе о Сизифе». Он же волновал классическую русскую литературу: вспомним цветаевское «Жизнь — это место, где жить нельзя».
Однако Жан решает продолжить свой земной путь. Пребывая в духовном поиске, он находит в себе силы на перерождение и восстает — Разумом и Духом, отринув былую жизнь.
Большим сюрпризом для читателя оказывается тот факт, что роман «Сны окаянных» — это произведение внутри произведения. На самом деле его автором выступает не Жаксылыков, но Журналист — протагонист последующих книг цикла. Именно Журналисту принадлежит история о Человеке, который смог обрести себя, лишь окончательно утратив человеческое достоинство.
Тема Человека и человеческого — магистральная для всего циклического пространства Жаксылыкова; лейтмотивом трилогии «Сны окаянных» выступает «мировое сиротство» (А. Платонов), развивающее, в свою очередь, архимотив — «слезку ребенка». По мысли Ф.М. Достоевского, мир не стоит слезки ребенка; страдание невинных — архисюжет цикла «Сны окаянных», потому что героями цикла выступают асоциальные индивиды — это дети-отказники, которые родились с серьезными соматическими заболеваниями, а потому «отринуты» обществом. Достаточно вспомнить эпизод, в котором Человек-Папа (как видим, перед нами конвенциональная социальная маска) реагирует на рождение своего сына:
Ты, сука, кого родила, сволочь ты этакая? Ты кого принесла в подоле, погань, стерва подзаборная?[1]
Таковы первые слова, которые слышит в своей жизни Малыш-Утенок — младенец, появившийся на свет не только с серьезными телесными нарушениями, но и обладающий феноменальными умственными способностями. Неслучайно его имя — это тоже маска. Как пишут в своей статье О.А. Валикова, Н.В. Щенникова, Ш.А. Кулиева, в данном случае перед нами маска сакральная (как и имена других детей-сирот). Это придает романному циклу подтекстовую глубину, на которой дети могут восприниматься не как ненужные элементы системы, но как демиурги нового мира [15].
Малыш-Утенок — сирота при живых родителях. Его тут-бытие сосредоточено вокруг Зоны — Полигона, где постоянно проводятся ядерные испытания. Полигон функционировал на территории Семипалатинска более сорока лет. Накопительный потенциал радиации оказался настолько существенным, что повлиял на многие поколения живших вблизи него людей: год за годом рождались дети-мутанты, обреченные стать вытесненными системой элементами дегуманизированного мира.
Последствия радиоактивного излучения сказались на всех стратумах Восточно-Казахстанского эко-комплекса. По данным доклада, опубликованного в Science Magazine группой исследователей из Великобритании, Финляндии и Казахстана, «результатом воздействия радиоактивных выбросов при испытании ядерного оружия на Семипалатинском полигоне стало увеличение уровня эмбриональных мутаций среди пострадавшего населения примерно в 2 раза».
За 2 года до прекращения испытаний Аслан Жаксылыков посетил детский приют Семипалатинской области. Встреча с детьми-инвалидами настолько потрясла автора, что он пообещал написать цикл романов-сказок «о них и для них». Роман «Поющие камни» был написан в том же году, но увидел свет лишь десять лет спустя. «Острота» темы и нетрадиционная форма изображения, тяготеющая к эстетике постмодернизма, способствовали тому, что произведение запретили к публикации. Вето было снято только в 1997 году. Следом за романом «Поющие камни» вышли произведения «Сны окаянных» и «Другой океан» как логическое продолжение цикла.
Главной чертой литературы этого времени (во всей ее гетерогенности и неоформленности) Н. Лейдерман называет драматизм, порожденный тотальным духовным кризисом. «В этой ситуации обнаружилось, что соцреалистическая парадигма слабо конкурентоспособна. Зато оказались востребованными художественные системы, более тяготеющие к модернистской парадигме. Видимо, нарастающее осознание социального (и метафизического) хаоса находило в них более адекватные формы выражения. Как раз на семидесятые годы приходится рождение русского постмодернизма. Активизируются процессы взаимопроникновения разных художественных парадигм» [15].
Цикл называют апоколиптическим и эсхатологическим. Более того, А. Жаксылыков обращается к интермедиальным формам изображения, рисуя картины эко-хоррора: природа, отравленная радиацией, настолько мутировала, что породила страшных врагов человека из некогда нейтральных биологических форм. Теперь пространство заполонено кровососущими ядовитыми осами, а в недрах земли растет и ширится новая раса — разумные крысы, мечтающие о гибели эпохи людей и воцарении верховного крысача. Примечательно, что крысач на уровне аллюзий сближается с соцреалистическими вождями прошлого. Мы можем сделать вывод о том, что предыдущая эпоха — эпоха социализма — интерпретируется автором как наиболее дегуманизированная эпоха в истории казахского народа. «Семипалатинский Полигон был закрыт для испытаний в 1989 году. На протяжении сорока лет его «ядерной эксплуатации» не была дезактивирована ни одна прилегающая населенная область. Местные жители много лет существовали в условиях «информационного вакуума», что только усугубило ситуацию (использование воды из «зараженных» источников, рыбы и пр.). Жаксылыков реконструирует это «наивное неведение» людей следующей сценой: военные, забрав технику, медикаменты и научно-исследовательские приборы, спешно покидают город, а брошенные дети радуются тому, что «воды много», а, значит, они выживут. О том, что вода небезопасна, они и не подозревают» [4].
Дегуманизм советской эпохи
Мы не можем утверждать, что цикл «Сны окаянных» является антиутопией во всей полноте этого термина, но, как отмечает Л.В. Сафронова, цикл «обращен» к данному жанру на уровне стилистики, специфической образности, проблематики.
Так, концепт «ОБЩЕЕ БЛАГО» в романах подвергается Жаксылыковым процессу идейной деструктуризации в его связи с:
- темой разрушения витальности (бесчеловечный отстрел ослов; убийство воробьев на границах с Китаем; Полигон);
- попытками «подчинения» Человеком Природы (аграрное «засилье» кукурузы);
- уничтожением основ микро- и макросоциума (во имя «ОБЩЕГО БЛАГА» разрушена семья Серой Кукушки и Человека-Папы, Мугалима, Журналиста и пр.); страдает и корневая система этноса).
Антиутопичный план цикла раздвоен: в нем присутствует как классическая «модернистско-советская» линия, так и гротескная травестия. В первом случае Жаксылыков инкорпорирует в текст образования-клише родом из соц реализма; во втором — применяет модель советской реальности по отношению к новому «обществу» — расе крыс:
Мы выведем новый вид несомненной голубой расы, которая начнет на земле новую эру и поведет крысиный народ к золотому веку! Долой голокожую нечисть, да здравствует светлое будущее! С нами великий крысач! Ура! Ура! Ура!
Важную роль в создании общего настроения цикла играет сатира, которая «является эстетическим освоением неполноты личностного присутствия «Я» в миропорядке» [17. С. 59]. В этом случае активна авторская позиция осмеяния, направленная на ущербность описываемого объекта. Так, сатирической «едкостью», доведенной до сарказма, пропитаны сцены-описания Светлого будущего, Великого Вождя, Голубой Расы Крыс, Заседания Коров, Быков и Свиней:
Железный вождь, весь монолитный, волосато-вздыбленный, стоял на граните, держал речь, простерши руки в сторону молчаливого Востока. Небо мистически светилось алыми всполохами, по необъятной громовой площади маршировали несметные колонны энергичных людей-сурков и людей-барсуков, они снова и снова дружно вздымали стройные линейные ноги, с грохотом рушили печатный свинцовый шаг, и в ответ на футуристические лозунги вождя, расцветая восторженными ликами, вновь и вновь потрясали мир неистовым воплем счастья. Ей-ей, уверен, что ни Наполеон, ни Александр, ни Чингисхан никогда не слыхивали от своего воинства такого мощного вселенского «Ура»[2].
В приведенном отрывке функционально нагружен каждый элемент: «расцветающие лики» (высокий стиль, апеллирующий, прежде всего, к религиозной лексике и «возвышенной» художественности) синтагматически соседствуют с неистовыми «воплями» (разг.); стилистическая диффузия придает всей ситуации насмешливо-ироничный «колорит».
Монолитный железный вождь (актуализация семантики неживого, металлического предмета, т.е. Идола) компенсирует людям истинные ценности их жизни. Так, в очередной картине «строя» счастливая мать, кормящая грудью свое дитя, порывается присоединиться к колонне марширующих; малыш при этом «счастлив, что его недокормили» (концепты ОБЩЕЕ ДЕЛО и ОБЩЕЕ БЛАГО здесь представлены как абсурдные). «Линейные ноги» марширующих — не что иное, как намек на позитивистскую идею «линейного прогресса», породившую концепцию исторического оптимизма (счастливые мать и малыш) и рождение человека «нового типа» (недокормленный и радостный младенец). Неслучайно и появление людей-сурков и людей-барсуков (т.е. анимализированных сущностей). Инстинкт «человечности и пр.» крайне непрочен, он исторически приобретен, он может быстро замениться «основным» инстинктом животного эгоизма.
Первый роман цикла, «Поющие камни», рассказывает нам историю некогда блестящего интеллигента Жана, который проходит стадию дегуманизации в силу жизненных обстоятельств. Не сумев вынести предательства жены и лучшего друга, Жан (а имя его можно перевести с казахского как «душа») становится скитальцем, оторванным от общества. Он ищет сокровенных (и сакральных!) знаний Дюсена-баксы — шамана, способного инициировать его, переродив духовно и физически. Однако вместо этого Жан становится рабом у старика-китайца, который изнуряет его непосильной физической работой. Потеря свободы, человеческого достоинства и человеческого облика — казалось бы, маркеры абсолютной десоциализации и дегуманизации действующего субъекта. Показателен здесь эпизод с зеркалом: взглянув на свое отражение, Жан видит унылую морду человекообезьяны. Однако в то время, как внешний человек испытывает тяготы голода и побоев, внутренний человек преображается: душа героя оказывается спасена. Для того, чтобы спасение осуществилось, Жану нужно было пройти этап полной социальной аннигиляции, в частности, рабство.
И Журналист, и Жан как его структурная маска проходят через стадию «одичания»: оба видят в зеркале отражение «унылой человекообезъяны» с «дегенеративной мордой».
Мотив «одичания» сближает героя с героем А. Платонова А. Лихтенбергом. «Постепенное одичание героя, в удушающей атмосфере «мусорного ветра» все более превращающегося в животное, его нарастающее безумие становится эмблемой распада жизни. С другой стороны, право на безумие — единственная остающаяся ему возможность сохранения внутренней свободы в осатанелом мире», — пишет Е.Н. Проскурина. — «Такое прочтение актуализируется ранним эпиграфом к рассказу: «Оставьте безумие мне и подайте тех, кто отнял мой ум». Но именно в сцене смерти, когда он пытается накормить «говядиной», срезанной с собственного тела, умирающую женщину, его образ поднимается до той жертвенной высоты, которая становится свидетельством жизни духа в одичавшем теле — в соответствии с евангельской формулой «Дух бодр, плоть же немощна» (Мк.: 14:38). Вертикальное измерение судьбе героя задает смерть «глазами вниз», представляющая собой вариацию сквозного платоновского мотива смерти «лицом вниз», всегда заряженного мистериальным смыслом воскресения» [17. С. 197].
Имя-контаминация платоновского героя (составленное из имен Альберт (Энтштейн) и (Георг Кристоф) Лихтенберг) аккумулирует идею о человеческом разуме, который оказывается бессилен перед новым «строем», а потому погибает. По мнению Е.Н. Проскуриной, конец эпохи разума знаменует и утрату надежды на «очеловечивание мира»: в «Мусорном ветре» реализован сценарий «Заката Европы», предсказанный Шпенглером.
Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию! Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный излишек производительных сил! Ты не исчезнешь.
Рассуждениям платоновского Лихтенберга созвучны мысли героя Жаксылыкова, ученого, создавшего «отпрыска технологического ума сумасбродного цифрового и формульного века» [3]:
В этом арматурном бесике — на ажурной вышке покоилось выношенное в мозговом чреве гения знойных чисел чадо небывалое — плутониевое чудо-юдо, химерический отпрыск, мутант, научное дитя, заряженное всеми болями и страхами человеческими за все времена. Оно готовилось к своему рождению, запланированному явлению на свет божий для вящего и всеобщего торжества людей идейных, не имеющих в душе ничего, кроме неумолимого желания осчастливить весь род людской воплощенным царством света на земле[4].
В обоих отрывках лежит мысль Шпенглера о перерождении культуры в цивилизацию: «Фаустовское мироощущение деяния, сказывавшееся во всяком великом человеке, начиная от Штауфенов и Вельфов и вплоть до Фридриха Великого, Гете и Наполеона, опошлилось до философии труда. Галилей, Кеплер, Ньютон совершили деяния в науке, современный физик занят ученым трудом» [18. С. 413]. По мнению философа, это предрекает закат старого мира, европейской цивилизации.
Наступление «царства зверя» актуализировано у Платонова каннибалистской сценой: полицейский, «увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом… сел кушать его себе на ужин». Мотив «людоедства», «людопожирания» встречаем и у Жаксылыкова, однако в данном случае это метафора постиндустриального и техногенного общества-урбании.
В рассказе «Мусорный ветер» присутствует мнимая «фактическая неточность»: немцы показаны автором как нищие и голодающие, хотя голода в Германии того времени не было. Тем самым усилена аналогия «Германия = СССР». Рассказ написан в 1933 году, когда от голода умерли миллионы людей по всей стране, однако для литературы эта тема была табуированной. Платонов помещает ее в «немецкий контекст», а впоследствии развивает (летом того же года он создает трагедию «14 Красных избушек», где тема голода в стране становится одной из главных). На полях рукописи четвертого действия пьесы сохранилась помета: «Голод развить повсюду» [19. 20. С. 440]. Героиня пьесы, колхозница Ксения, винит в голодоморе сталинский режим: «Москва проклятая! Я все бельма выцарапаю тебе за судьбу нашу такую!» [Там же, С. 204].
Как отмечает Е.Н. Проскурина, общими для обоих произведений при изображении сцен голода являются мотивы смерти ребенка, иссохшего живого тела и жертвы собственной плотью ради сохранения чужой жизни [17. С. 194]: «В пьесе Суенита пытается выдавить сукровицу из своих иссохших грудей, чтобы накормить своего умирающего сына, а в «Мусорном ветре» Лихтенберг отрезает от собственной «более здоровой ноги» часть плоти, чтобы сварить ее и накормить женщину, найденную им в вымершем от голода поселке, — поступок, стоящий ему жизни: «Затем он выполз наружу, на разгороженный двор, и лег лицом в землю. Обильная жизнь уходила из него горячим ручьем…».
Историческая память литературы: тема голода как высшее проявление гуманистической идеи
Жаксылыков продолжает заявленную Платоновым (и заявленную крайне резко — произведениям 1933 года, прочитанным Горьким, было отказано в публикации) тему голода, описывая страшную судьбу Старого и вечно одинокого:
Коке, мы дошли до города… Коке, все они легли вдоль дороги и уснули в своих могилах… Коке, я рыл могилы своими детскими руками, одну за другой, одну за другой, у матери уже не было слез, из глаз сиро, страшно смотрел голод, я рыл могилы, укутывал своей скорбью, укладывал спать братьев и сестер, я уложил спать всех, а перепелка плакала в непроглядных недрах луга, она не хотела засыпать одна в сизых сумерках, но люди хотели заснуть сном последним, спокойным, вечным; есть было нечего, я рыл могилу за могилой, я устал рыть до самого города, устал укладывать спать родичей, всех из последнего кочевья, старых и молодых, стариков и старух, детей и младенцев, до сих пор мне снятся могилы, вереницы могил, обозначивших границу степи, безмолвные караваны в вечность, до сих пор болят руки, ах, как болят руки; Коке, мы дошли до города, мать, братик, изнемогший на моей спине, мы дошли через много-много лет, сквозь дожди, туманы, холод и голод мы дошли, мы стучались во все окна, во все двери и калитки и стучали и стонали: «Ради бога, хлеба, хлеба… Хлеба…, — мы стонали и бредили, — хлеба, ради бога, хлеба…», — мы бродили и бредили последним кочевьем, мы шли от города к городу, много лет шли, плутая в лабиринтах времени, рассказывали про последнее кочевье, говорили про вереницы могил, бесконечные могилы, обозначившие границы Последнего срока; однако нам не верили, смотрели холодно и жестоко, недоверчиво взирали, смеялись и роняли жестоко: «Никакого голода не было. Забудьте об этом. Никогда не было голода и могил тоже не было. Это вам просто приснилось. Это был страшный сон. Спокойно ешьте теперь, забудьтесь во грезах спокойных[5].
Как пишут Д.С. Шарипова, С.Ж. Кобжанова, А.Б. Кенджакулова, «Сегодня в отличие от украинского голодомора казахские события не относят к геноциду. Хотя первая комиссия казахских историков и политических деятелей вынесла вердикт о геноциде еще в 1992 году. Стратегическое партнерство с Россией определяет сдержанную оценку голода в Казахстане национальных политиков. Историки, занимавшиеся проблемой голода в период коллективизации, также призывают к взвешенным выводам» [19. С. 290].
По мнениню Н. Пианчола, у власти не было намерений аннигилировать конкретные этнические группы; сельское население огромной страны было подавлено путем получения тотального контроля над ресурсами (цит. по: [19. С. 290]). Немецкий исследователь Р. Киндлер полагает, что переход казахов — номадов по форме хозяйственного бытования — на оседлый образ жизни не имел экономических последствий, однако имел социальные: «обнищавшим казахам под страхом гибели ничего не оставалось, как покориться советскому государству. Путь выхода из кризиса вел к зависимости» (цит. по: [19. С. 290]).
Не все исследователи единогласны в своем отношении. Так, С. Кэмерон настаивает на том, что была уничтожена не только экономическая, но и ценностная система кочевничества (цит. по: [19. С. 290]).
Жаксылыков, как мы видим в приведенном отрывке, говорит о том, что подменой реальным историческим событиям стали симулякры — оттиски квазидействительности, в соответствии с которыми «голода не было». Для того, чтобы восстановить картину произошедшего, должна быть проделана существенная работа: количества погибших от голода до сих пор не установлено (от 2 до 5 миллионов человек). Пока не проведена демографическая работа: сбор, систематизация, анализ и интерпретация данных. Тщательного расследования, как это было с голодомором в Украине, не проведено.
«В результате мы имеем дело с тем, что культурная память о голоде 1930- х гг. «капсулируется», по определению А. Ассман и переходит в латентную фазу, как это было с памятью о травмах мирного немецкого населения в годы Второй Мировой войны, которые только в конце XX в. стали предметом публичного осознания. Это приводит к подъему националистических высказываний по поводу коллективизации. Переживание исторического опыта как личной беды создают трудности при проработке травмы и достижении конструктивного забвения в формулировке П. Рикёра — то есть понимания и прощения» (цит. по: [19. С. 290]).
В образе Старого и вечно одинокого концентрирована идея об утраченном рае (детстве) и наступлении Последнего срока. Идиллический модус повествования (игры постреленка на лугу, зов матери, смех отца) резко сменяется трагическим: арестован по навету отец, один за другим от голода умирают братья и сестры, мать с «синим, кровоточащим ртом» медленно бредет по большой дороге, вдоль которой «караваном вечности» тянутся могилы ее детей. Воспоминания старика, сидящего у «призрачного порога несуществующего дома», расширяются до уровня онтологического обобщения: окончен Золотой век вольной степной жизни; на смену ему пришел век Железный, в котором прежняя аксиология разрушена до самых основ. Смерть в «счастливом и равном государстве» — не более чем сон, голод — «ложь», человеческая жизнь обесценена, а Дома нет: он остался призрачным воспоминанием, несуществующим порогом. Таково «житье-бытье человека, сотворенного для жизни и смерти, для жизни, похожей на сон, и смерти, похожей на вечность»[6].
Разрушение архетипа «ДОМ» актуализирует мотив вечного скитальничества, странничества, бесприютности.
Как в цикле Жаксылыкова, так и в корпусе текстов Платонова (трилогия, «Котлован», «Чевенгур», «Детские рассказы» и др.) социализм разоблачается как антигуманное явление, направленное на уничтожение всякой индивидуальности и знаменующее переход общества от культуры (в том числе культуры духа) к «цивилизации труда» (Шпенглер).
Произведение казахстанского писателя основано на иных обстоятельствах-фактах, — голодоморе, испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне, — однако и они могут быть включены в семиотическое поле архетипического концепта «ВОЙНА». По Жаксылыкову, гражданская война, положившая начало новому тоталитарному режиму, никогда не прекращалась: «мнимое единство» нового общества внутренне «разъедено» завистью, корыстью, злобой. Так, брат Старого и вечно одинокого покушается на его возлюбленную, Куралай. Письмо-навет, основанное на неприкрытой зависти, отправляет Мугалима в многолетнюю ссылку в Сибирь. Государство развивается под лозунгом «Мир — это война» и убивает собственных жителей ядерными испытаниями. Возвращаясь в поселок своего детства, Мугалим видит следующую картину:
Каменистая пустыня дышала жаром, изнемогала под прямыми лучами солнца, исходила зноем, тяжелым, болезненным<…> На издыхающего одра была похожа пустыня, на животное, измученное непосильным переходом по безводью, брошенное на съедение жестоким стервятникам и алчным ночным хищникам. Безжалостным огнем до корней были сожжены мирные травы и деревья, во многих местах беззащитная кожа земли оплавилась, растрескалась и осела в глубоких ранах <…> Не было видно прежних, добрых голубых озер, дремавших под чистым небом, вместо них мрачно темнели мертвые котловины — гнилостные язвы на больном теле степи. Не было тех таинственных сонных заводей, чистых речек, в которых играли пестрые веселые хариусы. Навсегда ушли, испарились они, канули в небытие[7].
В цикле Жаксылыкова властвует «безжалостное солнце», превращающее степь в пустыню-пандемониум, «адское пекло»; даже ночь названа писателем «солнцем наоборот». Солнце становится свидетелем смерти, голода, разрухи; уничтожения земли, которая «очеловечена» автором и страдает от «язв»; жестокости, насилия, слабых или яростных попыток выживания всех существ — от трав до людей.
В результате испытаний на Полигоне, голода, многочисленных смертей Пустыней становится не только Дегелен (поселок, в котором родился Старый и вечно одинокий), но и вся мирная степь. «Живая жизнь» природного локуса останавливается, превращая степь в Зону:
Не уходи, Коке, иль ты не видишь, джугарное время катится к концу, и ничего уже нельзя исправить. Зверолюди истощили, сожрали, съели весь запас поля, и теперь против них возмущаются и лес, и море, и реки, и озера, и океан. В своем утробном животном сне, безмерном, словно пучина, не знающая ни сроков, ни предела, обжорном ненасытном буйном кошмаре они объели почти весь мировой лес, открыли путь желтым жарким пустыням, расползающимся плешью по всей матушке Земле <…>[8].
Топос-доминанта всей трилогии Жаксылыкова — город-призрак, вымерший город, город-кладбище. Итак, солнце мертвых становится не только символическим, но и фактическим образом: оно восходит над «мертвым» Дегеленом[9], над поселком, где рос маленький Жан, над «умершим» городком, где обитают дети и их Мугалим. И если мотив голода движет сюжетную линию Старого и вечно одинокого, то мотив Солнца Мертвых — циклообразующий, как и мотив Апокалипсиса.
Апокалипсис в цикле имеет различные репрезентации — это и образ Мирового Змея (Полигона), и аллегории, сигнализирующие о наступлении Царства Зверя, и символ умирающего ребенка/детей, и конкретные лексические сигнификаторы (Последний срок, Конец времен).
Заключение
Романный цикл А. Жаксылыкова — в высшей степени гуманистическое произведение. Несмотря на то, что это метароман, написанный в эстетике постмодернизма, а, следовательно, его художественная техника тяготеет в большей степени к мотиву аннигиляции, человеческое достоинство и историческая память провозглашены главными ценностями романного дискурса. В рамках написания данного проекта мы пытались решить следующие задачи:
- дать краткий очерк развития гуманистической концепции;
- проследить реализацию этой концепции на уровне художественного текста;
- определить, что для автора цикла представляет собой гуманистическая идея.
Жаксылыков уделяет пристальное внимание проблеме Человеческого. Человеческое достоинство, свобода (в том числе и свобода выбора) — главная тема романного пространства. Реализацию ее мы находим уже в первом романе цикла, «Поющие камни»: утративший человеческий облик Жан возвращается к изначальной невинности собственной души.
Однако болевая точка романа — не только в поисках целостности личности. Она в исторической памяти, которая для современного казахстанского общества полна травм. Травмирующий опыт прошлого — голодомор — с высокой степенью художественной интенсивности реализован в романе. На материале анализа романа «Сны окаянных» мы делаем вывод, что наиболее антигуманным в истории казахского народа стал советский период. Путем сравнения текста Жаксылыкова с текстами классиков русской литературы (в частности, А. Платонова) закономерен тезис о том, что советский режим — это «фашизм». Жаксылыков реконструирует эпизоды голодомора в тексте поразительной трагичности, показывая, что гуманизм как прославление жизни был попран советской эпохой.
Таким образом, в романах мы дифференцируем две гуманистические линии: гуманизм индивидуальный (судьба Жана и Журналиста) и гуманизм социальный (реализация которого воплощена в образе Старого и Вечно одинокого). Эта тема требует дальнейшего всестороннего изучения. Опыт проживания национальной травмы — тема, важная как для казахстанской литературы, так и для литературоведения как науки конденсации смыслов.
1 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 222.
2 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 327.
3 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 333.
4 Там же. С. 328
5 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 165.
6 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 169.
7 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 175.
8 Там же. С. 383.
9 Жаксылыков А.Ж. Сны окаянных: Трилогия. Алматы: ТОО Алматинский издательский дом, 2006. С. 176.
Об авторах
Гульназ Ерболовна Енсебай
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Email: gulnazensebay@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7675-0268
докторант кафедры русской филологии и мировой литературы факультета филологии, литературоведения и мировых
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71Алена Сергеевна Демченко
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Автор, ответственный за переписку.
Email: alenchika@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0635-9247
доктор PhD, и.о. доцента кафедры русской филологии и мировой литературы факультета филологии, литературоведения и мировых
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71Куралай Омирлановна Таттимбетова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Email: tattimbetovak@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7713-0757
заведующая кафедрой русская филология и мировая литература факультета филологии, литературоведения и мировых
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71Баян Умирбековна Джолдасбекова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Email: dzoldasbekovab@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1217-4799
член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой русской филологии, русской и мировой литературы факультета филологии, литературоведения и мировых
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71Список литературы
- Heidegger M. Letter on Humanism, Basic Writings. London: Routledge, 1977.
- Харари Н.Ю. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2017.
- Афанасьева А.С. Архетип дома в современной русскоязычной казахстанской прозе: дисс…. доктора PhD. Алматы, 2018.
- Валикова О.А. Роман-трилогия «Сны окаянных» в контексте русской литературы: дисс…. доктора PhD. Алматы, 2015.
- Лейдерман Н.Л. Траектории «экспериментальной эпохи»: Введение // Русская литература XX века: закономерность исторического развития. Кн. 1. Новые художественные стратегии. Екатеринбург: УрО РАН, УрО РАО, 2005. С. 47-48.
- Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York: Routledge, 1988.
- Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 1997.
- Suleiman S.R. Naming and Difference: Reflections on Modernism vs.Postmodernism in Literature // Fokkema, Duuwe and Hans Bertens (eds.) Approaching Postmodernism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ.Comp., 1986. P. 48.
- Sim S. The Routledge Companion to Postmodernism. London: Routledge, 2011.
- Demeyer H., Vitse S. The affective dominant: Affective crisis and contemporary fiction // Poetics Today. 2021. 42(4). P. 541-574. https://doi.org/10.1215/03335372-9356851
- Green J. Late Postmodernism: American Fiction at the Millennium. NY: Palgrave, 2005. P. 1-246.
- Кошарная С.А., Григорьянова Т. Интертекстуальность как дискурсивный феномен (от Горация до В. Сорокина) // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2019. Т. 5. № 1. С. 13-26. https://doi.org/10.18413/2313-8912-2019-5-1-0-2
- Allen G. Intertextuality. London & New York: Routledge, 2000.
- Валикова О.А., Щенникова Н.В., Кулиева Ш.А. Межкультурная коммуникация в транслингвальном художественном тексте (на материале цикла А. Жаксылыкова «Сны окаянных) // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2020. № 6. С. 241-251. https://doi.org/10.20339/PhS.6-20.241
- Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: 1950-90-е годы. Т. 2. М.: Издательский центр Академия, 2003.
- Тюпа В.И. Модусы художественности // Введение в литературоведение / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; под ред. Л.В. Чернец. М.: Издательский центр Академия, 2012.
- Проскурина Е.Н. Социализм как фашизм // Критика и семиотика. 2013. № 1(18). С. 186-199.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / пер.И.И. Маханькова. М., 2003. Т. 1: Образ и действительность. С. 413.
- Шарипова Д.С., Кобжанова С.Ж., Кенджакулова А.Б. Осмысление трагических моментов национальной истории в графике и монументальной скульптуре Казахстана // Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osmyslenie-tragicheskih-momentovnatsionalnoy-istorii-v-grafike-i-monumentalnoy-skulpture-kazahstana (дата обращения: 13.09.2022).
Дополнительные файлы