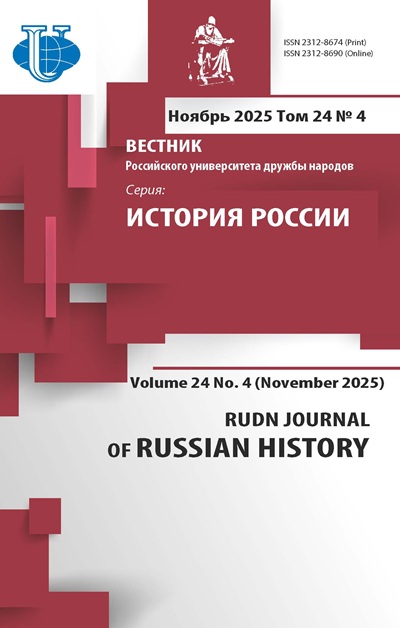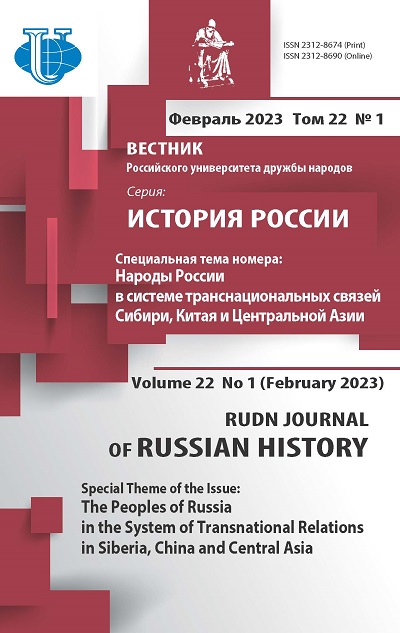Дипломат и реформатор С.Л. Владиславич-Рагузинский: «...вечный мир заключили и границу утвердили»
- Авторы: Занданова Л.В.1, Пузыня Н.Н.1
-
Учреждения:
- Иркутский государственный университет
- Выпуск: Том 22, № 1 (2023): Народы России в системе транснациональных связей Сибири, Китая и Центральной Азии
- Страницы: 8-20
- Раздел: НАРОДЫ РОССИИ В СИСТЕМЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СИБИРИ, КИТАЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/33896
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2023-22-1-8-20
- ID: 33896
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается период пребывания графа Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского с 1725 по 1728 г. в Восточной Сибири во время и после выполнения им дипломатической миссии в Цинскую империю. Устанавливается его роль в расширении и укреплении российского влияния на восточных рубежах. Особое внимание уделено вопросу упорядочивания отношений между местной администрацией и коренным населением, восстановлению двусторонней торговли между Россией и Китаем, обустройству границы и торговых территорий, организации миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Цинской империи. Отмечается, что все это существенно повлияло на развитие народов и территорий региона в ходе процесса российской экспансии в восточном направлении, изменение его роли во внешней политике России на Дальнем Востоке. Подчеркивается особая актуальность положения, внесенного в Кяхтинский договор соратником Петра Великого, направленного на то, чтобы между Россией и Китаем «мир крепчайший был и вечный», а межгосударственная граница стал мирной на все времена.
Полный текст
Введение
В начале XVIII в. император Петр I поддержал в борьбе с османским игом южных славян, чем навсегда породнил с ними россиян. Это случилось во многом благодаря «мостику», который перекинул между нашими народами «самый образованный и выдающийся серб» – Савва Лукич Владиславич-Рагузинский[1]. Этому же человеку выпала другая миссия – примирить Россию и Китай, сделать границу между империями мирной, укрепить отношения между ними на несколько веков вперед, что и сегодня позволяет считать их «образцом взаимоотношений в XXI веке»[2].
Не менее важным является то, что жизнь С.Л. Владиславича-Рагузинского была связана не только с Россией в целом, но и с Сибирью – Прибайкальем и Забайкальем, а также городом Иркутском. В судьбе последнего он принял непосредственное участие, направляясь на восток страны с поручением Петра I определить и укрепить границы Российской империи, а после смерти императора – с наказом Екатерины I заодно проверить и обороноспособность сибирских городов. Прибыв в Иркутск в 1726 г., Савва Лукич дал указание составить план-чертеж города, произвести его ограждение, обустроить оборонительные сооружения, чем вписал свое имя в летописи города[3]. В Сибири С.Л. Владиславич-Рагузинский проявил себя как продолжатель дел императора и талантливый дипломат.
Личность С.Л. Владиславича-Рагузинского и его деятельность во времена правления Петра I удостаивались внимания специалистов как в российской, так и зарубежной исторической науке[4]. Однако его участие в реализации петровских реформ, оказавших влияние на жизнь народов сибирской части России, освещалось спорадически и фрагментарно. Приходится констатировать отсутствие в российской и зарубежной историографии обобщающих работ, анализирующих пребывание графа Владиславича-Рагузинского в Восточной Сибири в период и после выполнения им дипломатической миссии в Цинскую империю, также недостаточную изученность его роли в расширении и укреплении российского влияния на восточных рубежах.
Неоспоримо, что подписание Буринского и Кяхтинского трактатов, завершившее посольство С.Л. Владиславича-Рагузинского в Поднебесную, не только заложило договорную основу отношений между двумя империями на последующие 130 лет, вплоть до подписания Айгунского договора, но и существенно повлияло на развитие народов и территорий региона в ходе процесса российской экспансии в восточном направлении, изменение его роли во внешней политике России на Дальнем Востоке.
В статье на основе комплексного анализа имеющихся документов и материалов раскрываются различные аспекты и итоги многогранной работы С.Л. Владиславича-Рагузинского не только на дипломатическом поприще, но и в интересах Восточной Сибири, упорядочения отношений между местной администрацией и коренным населением в приграничных районах Российской империи.
Дипломат Петра Великого
Уже в ходе Великого посольства Петром I было положено начало практике привлечения на русскую службу европейских специалистов в разных областях науки и практической деятельности. В начале XVIII в., с принятием манифеста «О вызове иностранцов в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания»[5], петровские реформы стали получать серьезное подкрепление в виде готовых кадров специалистов, в которых остро нуждалось правительство. Это касалось и такой важной области государственной деятельности, как дипломатия. На восточном направлении на службе у русского царя одним из выдающихся дипломатов стал Н.Г. Спафарий (Николае Милеску-Спэтару), политический деятель, ученый и переводчик, возглавивший в 1675–1678 гг. посольство в Китай, выходец из боярской греко-молдавской семьи.
Еще более заметный след в истории русской дипломатической службы эпохи Петра Великого оставил серб по происхождению и православный по вероисповеданию Сава (на русский манер – Савва) Владиславич, известный также как Рагузинский. Он получил это прозвище от г. Рагузы (ныне Дубровник). Город, неподалеку от которого он родился и в котором прошли годы его юности, находился в то время в составе Османской империи. Савва Лукич родился 16 января 1669 г. (по другим сведениям – в 1664 г.) в семье потомственного дворянина, занимавшегося торговлей и имевшего представительство в Венеции. Юноша пошел по пути отца и, получив отличную практику работы негоциантом в Венеции, Испании, Франции, окончательно обосновался в Стамбуле. Именно там, располагая значительными связями в политических и военных кругах, он становится на путь борьбы с турецкими угнетателями своей малой родины. Единственным настоящим союзником славянских народов Балкан в борьбе с ненавистным османским игом С. Владиславич считал Россию. Он сблизился с российскими дипломатами в Стамбуле и на протяжении длительного времени оказывал им помощь в сборе и анализе информации, касавшейся всех сторон жизни Османской империи. Некоторые исследователи считают, что в тот период им была создана первая российская разведывательная служба за границей. Его деятельность не осталась незамеченной турецким правительством, поэтому он был вынужден перебраться в Россию.
Поворотным пунктом в судьбе С.Л. Владиславича стала встреча с Петром I летом 1703 г. в Петербурге. Вскоре после этой аудиенции ему «за его... верное служение» была пожалована грамота царя[6], а сам Петр начал внимательно прислушиваться к советам своего сербского сподвижника. Савва Лукич, продолжая оказывать содействие в деятельности первого постоянного российского посольства в Османской империи, снабжал информацией русского посла графа П.А. Толстого, знакомил его с европейскими дипломатами в Стамбуле, выполнял другие поручения российского правительства. Тогда же он привез в Россию «арапа Петра Великого» – Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина, с которым позже ему было суждено встретиться и работать в Сибири.
С 1708 г. С.Л. Владиславич длительное время находился в России и в ходе заграничных поездок выполнял различные поручения царя и российских властей, связанные с дипломатическими и торговыми отношениями со странами Европы. С 1716 по 1722 гг. он жил в Венеции, являясь фактически личным представителем Петра I, в частности, по его поручению закупал произведения искусств для петербургских коллекций. Но вершиной дипломатической карьеры графа Владиславича-Рагузинского становится его деятельность во главе русского посольства в Цинскую империю, подписание прелиминарного Буринского трактата и на его основе – Кяхтинского договора. В ходе этой поездки он значительное время находился в Восточной Сибири с целью реализации пунктов подписанных соглашений. О результатах его многотрудной деятельности на восточных рубежах России и пойдет речь в данной работе.
Миссия в Цинскую империю
Формально русская миссия под руководством С.Л. Владиславича-Рагузинского отправлялась в Пекин, чтобы сообщить маньчжурской администрации о смерти Петра Великого и восшествии на российский престол императрицы Екатерины I. Кроме того, необходимо было
принести поздравления Его Величеству по случаю его вступления на китайский престол и преподнести уникальные русские подарки, как дань уважения[7].
Анализ деятельности русских дипломатов на восточном направлении в XVII в. приводит к убеждению, что в тот период установление полномасштабных отношений между Россией и Китаем было практически невозможно. Западные исследователи склонны считать, что причиной этому были разные цивилизационные парадигмы: Россия являла собою западную традицию, а Китай – восточную, и они не могли найти общий язык[8].
Представляется, что в действительности эта ситуация была обусловлена другими обстоятельствами. Во-первых, это было время, когда маньчжурские завоеватели еще не подчинили окончательно себе весь Китай, поэтому как завоеватели они крайне подозрительно относились к любым попыткам других стран решать любые вопросы: экономические, пограничные, торговые и т.д.[9] Во-вторых, руководствуясь традиционной китайской внешнеполитической доктриной, цины после соприкосновения территориальных владений двух держав должны были оказывать давление на русских, которые казались «ближними варварами», создавая буферные зоны, неосвоенные соседями. В-третьих, каждая сторона по-своему понимала принципы, на которых должны были строиться дипломатические отношения. В особенности это касалось дипломатического протокола и этикета. Маньчжурские дипломаты ждали дани и проявления покорности маньчжурскому императору – «Сыну неба»[10]. Однако даже в таких условиях итогом деятельности русских дипломатов по установлению контактов с Китаем в тот период явился Нерчинский договор, подписанный в 1689 г. Ф.А. Головиным, подготовкой посольства которого занимался Н.Г. Спафарий. Это был первый межгосударственный договор, заключенный русской дипломатией на Дальнем Востоке.
В начале XVIII в. с российской стороны предпринимались усилия для того, чтобы русско-китайские отношения стабилизировались и не нарушались какими-либо серьезными конфликтами. Такому течению событий положил начало указ Петра I о строгом соблюдении российскими подданными положений Нерчинского договора,
заказ крепкой под смертною казнью, <...> чтоб посольским договорным статьям нарушение не было[11].
Однако с китайской стороны постоянно предъявлялись требования о прекращении нарушения границ, разграничении земель, выдаче перебежчиков, запрете на продвижение русских купеческих караванов, ограничивалась торговля на территории империи. Таким образом, положения Нерчинского договора, со времени подписания которого минуло почти сорок лет, практически не выполнялись. Фактически требовалось заключение нового межгосударственного всеобъемлющего соглашения.
Для выполнения этого сложнейшего дела в ранге чрезвычайного посланника и полномочного министра и был избран С.Л. Владиславич-Рагузинский, высокопрофессиональный дипломат, обладавший не только большими знаниями и жизненным опытом, но и прекрасно понимавший все тонкости и нюансы восточной дипломатии. О важности предстоявшего дела свидетельствует инструкция Коллегии иностранных дел, выданная послу и состоявшая из сорока пяти пунктов[12].
Трудности преодоления колоссальных расстояний между столицами двух империй описаны в путевом журнале, который Савва Лукич вел более трех лет – с 12 октября 1725 г. по 18 декабря 1728 г. В пути посольство останавливалось на длительное время в Москве, Тобольске и Иркутске. Во время пребывания в Иркутске – три месяца и одиннадцать дней – он занимался изучением исторических документов, касавшихся пограничных отношений России с Китаем, ведомостей о состоянии пограничных населенных пунктов, которые были доставлены из всех приграничных и внутренних сибирских городов. По его указанию для описания пограничных местностей были посланы геодезисты, проведена большая подготовительная работа для последующего продвижения посольства[13].
После встречи в Пекине и аудиенции у императора С.Л. Владиславич-Рагузинский использовал опыт посольства Ф.А. Головина и предложил перенести работу над межгосударственным договором из имперской столицы на берега реки Буры. В ходе переговоров русский посол продемонстрировал большое дипломатическое искусство, что позволило отклонить все территориальные претензии маньчжурской стороны и попытки навязать неравноправные условия в работе сторон. Буринский договор, установивший линию границы между двумя империями на западе и востоке от российского караульного строения на речке Кяхте, был подписан на базе принципа «каждый владеет тем, что у него есть»[14].
В Кяхтинском договоре, «чтоб между обоими Империями мир крепчайший был и вечный», фиксировались границы, действия в отношении нарушителей и перебежчиков, порядок урегулирования пограничных споров местными администраторами, предусматривались новые правила приема посольств и дипломатической переписки между государствами, решались проблемы с титулованием глав государств, вопросы упорядочения торговых отношений между двумя странами, включая свободную и беспошлинную приграничную торговлю, юридически оформлялось пребывание Русской духовной миссии в Пекине и другие насущные вопросы двусторонних отношений[15]. Вполне обоснованно составители словаря Брокгауза и Ефрона так охарактеризовали результат деятельности графа Владиславича-Рагузинского в Китае: «Изворотливость мандаринов и двуличность богдыхана разбились об энергию и стойкость посла»[16].
Отмечая решающую роль С.Л. Владиславича-Рагузинского в заключении Кяхтинского договора, имевшего государственное значение и укрепившего положение России на Востоке, необходимо остановиться на некоторых важных и малоисследованных аспектах его деятельности как видного российского дипломата XVIII в. и проводника петровских реформ, оказавшего влияние на жизнь сибирской части России.
Регулирование дела посольского
После успеха посольства С.Л. Владиславича-Рагузинского и подписания в 1727 г. прелиминарного Буринского трактата и Кяхтинского договора дипломатические обмены активизировались, чему немало способствовала юридически оформленная в Пекине Русская духовная миссия, которая состояла из нескольких человек и продолжительное время фактически являлась дипломатическим представительством Российской империи. Однако некоторые западные специалисты высказывают прямо противоположные суждения о роли Русской духовной миссии и ее значении в поддержании и развитии русско-китайских отношений. В частности, утверждается, что русская духовная миссия потерпела неудачу и как миссионерский орган, и как научный, а представителям русского духовенства не удалось наладить полноценное функционирование миссии как дипломатического учреждения[17]. Такие суждения оставляют место для дискуссии.
В статье 9 Кяхтинского договора оговаривались правила обмена посольствами во главе с великими и малыми послами, передвижение посланников и курьеров, предусматривались новые правила дипломатической переписки между государствами, решались проблемы с титулованием глав государств[18].
Постепенно отрабатывалась дипломатическая практика посещения посольствами Цинской империи России, первого европейского государства, которое посетили дипломаты Поднебесной. В процессе обеспечения путешествий, организации приемов и бесед с послами русские дипломаты вырабатывали основные правила проведения протокольных мероприятий, оттачивали нюансы дипломатического этикета[19].
В документах того времени находим информацию о том, что проезд посольств через большие русские города, в т.ч. и в сибирской части России, сопровождался воинскими почестями, салютами, организацией официальных приемов с угощениями. Есть указания на то, что
3 июня 1729 г. Ли-фань-юань направил Правящему Сенату письмо, в котором указывалось на желание императора направить миссию с целью поздравить Петра II с недавним вступлением на российский престол в обмен на поздравительное посольство Владиславича в Китай. Сенат 23 октября ответил, что миссия будет очень приветствоваться и будет сопровождена в Москву с полным почетом при условии, только если власти Пекина проинформируют Москву о численности и звании членов посольства. Титулярному советнику Ивану Глазунову, бывшему ранее с Владиславичем, почти сразу же (31 октября) приказали выехать на границу, чтобы подготовить встречу и приветствовать послов канонадой в Селенгинске, Иркутске и Тобольске[20].
Также сообщалось, что при въезде цинского посольства в Москву 14 января 1731 г.
…у Красных ворот столицы были выстроены четыре полка; в честь китайских послов как представителей дружественного государства был произведен артиллерийский салют, состоявший из 31 залпа21.
Размещали послов с учетом национальных обычаев, привычек и вкусов:
Свита из тридцати пяти человек во главе с чиновником Ли-фань-юаня прибыла в Москву в начале января 1731 г. и разместилась в небольшом пригородном поселке Алексеевское. Через три дня посетителей проводили в загородный дом и.о. тайного советника Василия Федоровича Салтыкова, где угощали за огромными столами с едой, кондитерскими изделиями и питьем, а также исполняли серенаду под музыку. 26 января, наконец, была назначена первая императорская аудиенция. Перед послами шли девять карет, которые везли в дар фарфор, лакированную посуду, тонкие стальные сабли в золотой оправе и другие ценные предметы[22].
В программу пребывания посольств, как правило, включались аудиенции у высшего руководства страны. При посещении членами посольства в 1732 г. Петербурга, а затем на обратном пути в Москве
китайские послы были приняты с большим вниманием и торжественностью. В Петербурге они осмотрели Кунсткамеру и встречались с китаеведами, служившими в Российской Академии наук. В Москве им были показаны фабрики, заводы и культурные достопримечательности23.
«Границы суть дело зело важное…»
Урегулирование пограничных вопросов на переговорах с цинскими дипломатами было самой сложной частью работы С.Л. Владиславича-Рагузинского. В статье 3 согласованного и подписанного текста Кяхтинского договора мы находим упоминания о личном осмотре послом межгосударственной границы[24]. Однако после установления границы необходимо было решить проблемы кочующего коренного населения,
которые подлые люди воровски закочевали, завладев землями, и внутри юрты поставили, сысканы и в собственные кочевания переведены», а также перебежчиков «обоих государств люди, которые перебегали туда и сюда, сысканы и установлены жить в своих кочевьях. И тако пограничное место стало быть чисто[25].
В XVII в. русское правительство достаточно сдержанно относилось к тому, чтобы вопросы двусторонних отношений решались сибирскими властями. Так, в приговоре боярской думы от 31 декабря 1616 г. говорилось:
…с Китайским государством ссылке не быти… в Китайское государство велено послать не посольство и не от себя, ис казаков или ис каких людей не будут, затеяв, будто ненароком отколе к ним вышли[26].
В грамотах сибирским воеводам содержался прямой запрет устанавливать и поддерживать контакты с Китаем.
А вперед бы <…> с китайским государством без нашего указу ни о чем ссылки не держали <…> о послех ссылаться не велено[27].
Это свидетельствовало о принципах внешней политики на Востоке и стремлении московского руководства того времени к централизации управления дипломатической деятельностью.
В Кяхтинском договоре, напротив, особо отмечалась роль местной сибирской администрации в урегулировании многочисленных вопросов на границе. Так, в статье 4 зафиксировано:
С одной же стороны и с другой равное число служивых да установится, над которыми управляют равного рангу офицеры, которые единодушно место да стерегут и несогласия да разводят[28].
В статье 6 говорилось:
Ежели же от границ и порубежных мест пошлются письма о перебежчиках, воровствах, и протчих сим подобных нуждах, то которые пребывают на границах российских городов начальники[29].
Наконец, в вопросе об улучшении сообщения между двумя странами, регулирования процедуры документального оформления взаимного въезда и выезда констатировалась необходимость введения печатных паспортов. Одним из субъектов, который мог обращаться к цинской администрации за оформлением такого паспорта, определялся тобольский губернатор, о чем свидетельствует статья 6. Одновременно, при расширении внешнеполитических полномочий местных властей, в статье 8 предусматривалось наказание для чиновников на местах, затягивающих решение вопросов ради своих корыстных интересов:
А ежели будет замедление за свою партикулярную корысть, тогда каждое государство да накажет своих по своим правам[30].
До заключения Кяхтинского договора охрана русско-китайской границы практически организована не была. Понимая, что
дело пограничное превеликое и граничится единожды в несколько веков человеческих, и всякому верному подданному по силе своего разума доведется лишние труды приложить[31],
Савва Лукич лично принимал активное участие в налаживании обустройства и организации охраны вновь проведенной границы. По его распоряжению строились пограничные маяки, создавались пограничные караулы, работала геодезическая служба. Он разработал подробные инструкции для пограничной администрации. Одной из таких инструкций предписывалось проводить ежегодные
объезды пограничных маяков… в летнее время, с мая месяца по октябрь, осматривать маяки и которые развалились починивать, а которые малы, оных прибавлять, дабы все были на примере равномерны величиною... надлежит… всяким образом трудиться свитою по оным по горам чинить разъезд по границе и маяки починивать для предков[32].
Еще во время пребывания в Восточной Сибири и Забайкалье С.Л. Владиславич-Рагузинский занимался упорядочением отношений между местной администрацией и коренным населением. Он сообщал, что за время, прошедшее после заключения Нерчинского договора, буряты и эвенки стали лучше относиться к властям:
Служат верою России, не уступая природным россиянам: своим оружием и кочеванием границу распространяли, мунгальской землицы великою частью завладели, на границы с великим чаянием и верностью были доброоружены и доброконны, держали оную почти по всему расстоянию в многолюдстве; прикрытием границ и разъезда служили без жалованья с добрым сердцем и учтивостью, на которых я имел большую надежду, видя их храбрость и усердие[33].
По решению Владиславича-Рагузинского к охране государственной границы начали привлекать представителей коренных народов. С принятием на государственную службу их возводили в статус казаков. В некоторых родах, особенно бурятских, было заведено правило вручать знамена и учреждать должности знаменщиков, которые считались почетными. Контроль над работой пограничной администрации граф возложил на членов своего посольства.
Прямая дорога купечества
Основным документом, регулировавшим русско-китайскую торговлю в конце XVII в., являлся Указ Петра I от 1698 г., который несколько смягчил строгие правила «Наказа таможенным головам», составленного в 1693 г. для Сибири. В соответствии с этим Указом,
товары частных торговцев больше не подлежали осмотру в каждом городе и на каждой рыночной ярмарке, но только в … Верхотурье и Нерчинске… Что касается самих караванов, то Указ 1698 г. предусматривал, что они должны путешествовать не чаще одного раза в два года. За четыре года до издания указа караваны, очевидно, были ежегодными и угрожали насытить китайские рынки… Иностранцев не допускали к участию в этой китайской торговле, за исключением специального разрешения, предоставленного Сибирским приказом[34].
В начале XVIII в. Петром I был издан Указ о караванной торговле и миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Цинской империи. По нему на торговлю с Китаем распространился «Наказ таможенным головам» 1693 г., учитывавший все особенности местной торговли, в т. ч. китайскими товарами[35]. Однако ко времени прибытия в Пекин посольства во главе с Владиславичем-Рагузинским шаги, предпринимаемые китайской стороной, фактически привели к почти полному прекращению двусторонней торговли. Для скорейшего исправления ситуации Коммерц-коллегией был подготовлен список вопросов, включенных в инструкцию Коллегии иностранных дел, настоятельно требовавших своего решения. Перед посольством ставилась задача рассматривать территориальное размежевание как основу для расширения торговых связей. Это было настолько важно, что разрешалось при необходимости идти на некоторые уступки36. В связи с этим в Кяхтинском договоре следующим после вопроса о государственной границе было урегулирование проблем торговли: определялось количество купцов, регулярность движения их торговых караванов. Статья 4 устанавливала режим свободной и беспошлинной торговли между Россией и Китаем, при этом оговаривалось, что число купцов не будет более двухсот человек, «которые по каждых трех летах могут приходить единожды в Пекин». Не разрешалось торговать запрещенными товарам. На границах около Нерчинска и Кяхты «ради меншаго купечества» (то есть для мелких торговцев, не участвовавших в караванной торговле) предполагалось создать торговые дворы, на которых разрешалось вести торговлю любому желающему. В противном случае товары подлежали конфискации в пользу государства[37].
Обустройство границы и торговых территорий потребовало от графа Владиславича-Рагузинского больших организационных усилий, связанных со строительством новых городов и крепостей, а также укреплением имевшихся. Уже в ходе переговоров с цинскими дипломатами Савва Лукич начал укрепление Селенгинской крепости, для которой он подобрал новое место. В Селенгинск проездом через Иркутск для подготовки проекта крепости был направлен Абрам Петров (Ганнибал)[38]. В это время начали строить и Ново-Троицкую крепость, представлявшую собой острог с четырьмя бастионами и церковью Святой Троицы с приделом Святого Саввы Сербского. Граф подарил ей церковную утварь и книги. Крепость дала начало городу Троицкосавску (ныне г. Кяхта), названному так в честь ее основателя и строителя. В нескольких верстах от речки Буры, где проходили переговоры и обсуждалось содержание прелиминарного Буринского трактата, к осени 1728 г. была возведена Кяхтинская слобода с избами для купцов, гостиным двором, амбарами и подсобными помещениями, первый камень в основание которой заложил в торжественной обстановке лично граф Владиславич-Рагузинский, памятуя о примере своего покровителя Петра Великого.
Православная миссия в Пекине
С 1700 г. в связи с Указом Петра I по вопросам караванной торговли и миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Цинской империи началось изменение политики русского правительства в религиозной сфере в отношении русских поселенцев и коренного населения Восточной Сибири[39]. Кяхтинский договор также содержал вопросы организации духовного окормления россиян, находившихся по роду своей деятельности в Пекине. Статьей 5 предусматривалось устроение дома для постоянного проживания четырех священников и церкви, где дипломатам и купцам «не будет запрещено молитися и почитати своего Бога по своему закону»[40]. При этом священники находились на обеспечении наравне с членами посольства. Кроме того, было
назначено в Пекине держать ея императорского величества из росийских подданных шесть человек школьников для науки мунгальского, китайского и манзюрского языков и письма, которые Росийскому империю не без нужды суть, и дабы были между оными два человека, которые б знали латинской язык, чтоб могли китайских школьников в своей бытности тому языку учить взаемно. А вышеписанным школьником, шести человеком, постановлено, что будет давано из казны богдыханова величества корм и жалованье по тамошнему обыкновению41.
Таким образом, благодаря усилиям Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского православная миссия в Пекине на начальном этапе выполняла функции образовательного языкового центра. Позднее она превратится в центр изучения Китая, а вместе с иркутской школой монгольского языка, «первым монголоведным учебным заведением в России»[42], впоследствии сыграет важнейшую роль в становлении российского востоковедения.
Выводы
Как видно из проведенного исследования, Савва Лукич Владиславич-Рагузинский на протяжении многих лет являлся сподвижником Петра I, принимавшим деятельное участие в преобразованиях первого российского императора, реализация которых оказала заметное влияние на различные аспекты истории народов России. В особенности это касается его пребывания в Восточной Сибири в период и после выполнения им дипломатической миссии в Цинскую империю.
Благодаря успешной деятельности графа Владиславича-Рагузинского во главе русского посольства в Пекине состоялось подписание Буринского и Кяхтинского трактатов, заложивших правовую основу для налаживания отношений между двумя крупнейшими империями в течение последующих веков, что существенно повлияло на развитие всего региона, изменение его роли во внешней политике России на Дальнем Востоке.
В области политико-дипломатической наступил период активизации дипломатических обменов. Русская духовная миссия продолжительное время выполняла дипломатические функции, являясь представительством Российской империи. Были установлены правила обмена посольствами и дипломатической переписки между государствами. Россия стала первым европейским государством, с которым Поднебесная наладила регулярный обмен официальными миссиями.
Усилиями С.Л. Владиславича-Рагузинского была организована планомерная делимитация и демаркация вновь установленной русско-китайской границы, налажена работа по ее обустройству и охране, начало улучшаться сообщение между двумя странами, регулирование процедуры документального оформления взаимного въезда и выезда, вводились печатные паспорта, расширялись внешнеполитические полномочия местных властей.
Обустройство границы и торговых территорий потребовало от графа Владиславича-Рагузинского больших организационных усилий, связанных со строительством новых городов и крепостей, а также укреплением имевшихся, приведших к развитию всей территории Восточной Сибири и Забайкалья. При непосредственном участии Владиславича-Рагузинского были упорядочены отношения между местной администрацией и коренным населением, что повлекло за собой улучшение отношения бурят и эвенков к властям и дало возможность привлекать представителей местных народов на государственную службу по охране границы.
В торгово-экономической области заключение Кяхтинского договора стало поворотным историческим моментом. В результате усилий российского посольства и лично Владиславича-Рагузинского были созданы благоприятные условия для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества России и Китая. Товарооборот между странами приобрел регулярный характер, определялся порядок торговли, была налажена инфраструктура, которая позволила русским купцам использовать преимущества старых торговых путей, по которым шла торговля чаем и шелком, одновременно развивая новые торговые направления с Запада на Восток. Представляется возможным утверждать, что с заключением Кяхтинского договора русско-китайские отношения вышли на качественно новый уровень. Сбалансированный учет государственных и частных интересов в статьях соглашения позволил подготовить основу для развития деловой коммуникации в межгосударственном масштабе.
Как видим, время не умалило той роли, которую сыграл выходец из старинного сербского рода Савва Лукич Владиславич в установлении добрососедских отношений между народами. И сегодня отношения между славянскими народами Средиземноморья и России, России и Китая превосходят союзнические отношения, о чем мечтал российский император Петр Великий.
1 Мартиновиh Д. Генерали из Црне Горе у рускоj воjсци. Подгорица, 2002. С. 7.
2 Из речи В.В. Путина на переговорах с Си Дзиньпином 14 декабря 2021 г. URL: https://www.youtube. com/watch?v=bCEroFM29jk) (дата обращения: 14.12.2021).
3 Летопись города Иркутска. XVII–XIX вв. / сост. и научн. ред. Н.В. Куликаускене. Иркутск, 1996. С. 175.
4 См. например: Павленко Н.И. Савва Лукич Владиславич-Рагузинский // Вокруг трона. М., 1998. С. 439–486; Лещиловская И.И. Серб – сподвижник Петра I. Граф Рагузинский // Славянский альманах. 2002. М., 2003. С. 70–93; Мазина А.Я. Жалованная грамота Петра I надворному советнику Савве Рагузинскому за верную и усердную службу, 1710 г. Ч. 1: Предреставрационные исследования и демонтаж // Искусство Евразии. 2018. № 4 (11). С. 180–191; Базарова Т.А. Визит С.Л. Владиславича-Рагузинского к Петру Великому в Пирмонт (июнь 1716) // Труды Санкт-Петербургского института истории РАН. 2019. № 5 (21). С. 145–169; Дучич Йован. Граф Савва Владиславич: Серб-дипломат при дворе Петра Великого и Екатерины I. СПб., 2009; Foust Clifford M. II. The Treaty of Kiakhta; III. The New Milieu of Trade // Muscovite and Mandarin; Russia’s trade with China and its setting, 1727–1805. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1969. Р. 24–86 и др.
5 «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания» (манифест от 16 апреля 1702 г.) // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 4. № 1910. С. 192–195.
6 Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1889. Т. 2. С. 207–209.
7 A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644–1820) / ed. by Delmer M. Brown.
Tucson, 1966. P. 150–151.
8 См. например: Mancall M. Russia and China: their diplomatic relations to 1728. Cambridge, 1971. Р. 64–65.
9 A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations… P. 106.
10 A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations… P. 20, 24.
11 № 1. 1700 г. января ранее 27. Отписка селенгинского приказчика А. Москвитинова иркутскому воеводе И.Ф. Николеву об ознакомлении селенгинских служивых людей с указом о запрещении нарушать границу с цинской империей // Русско-Китайские отношения в XVIII веке. Т. 1. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/ 14338/16913/16914/ (дата обращения: 03.11.2021).
12 № 56. 1725 г. сентября 14. Инструкция Коллегии иностранных дел С.Л. Владиславичу-Рагузинскому о посольстве в Цинскую империю // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Т. 2. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/16915/17085.html (дата обращения 05.11.2021).
13 № 88. 1725 г. октября 12 – 1728 г. декабря 18. Путевой журнал C.Л. Владиславича-Рагузинского // Там же. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/ 16915/ (дата обращения 05.11.2021).
14 Сборник договоров России с Китаем. 1689–1881 гг. СПб., 1889. С. 11–14.
15 Там же. С. 50–60.
16 Владиславич-Рагузинский, Савва Лукич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. VIA (12). СПб., 1892. С. 657.
[17] См. например: Widmer Eric D. The Russian ecclesiastical mission in Peking during the eighteenth century. Cambridge, 1976. 262 p.
18 Сборник договоров России с Китаем… С. 58.
19 См.: Русско-китайские отношения в XVIII в. Т. 1. № 91–101. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/16914/ (дата обращения 04.11.2021).
20 Foust Clifford M. Muscovite and Mandarin; Russia’s trade with China and its setting, 1727–1805. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1969. P. 58–59.
21 Реализация русской дипломатией Кяхтинского договора с Китаем (середина XVIII века) // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Документы и материалы / отв. ред. С.Л. Тихвинский.
М., 2011. Т. 6. С. 8.
22 Foust Clifford M. Muscovite and Mandarin... P. 60.
23 Реализация русской дипломатией… С. 9.
24 Сборник договоров России с Китаем... С. 51.
25 Там же. С. 53.
26 Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы / сост. Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников: в 2 т. М., 1969. Т. С. 99–100.
27 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харьков, 1929. С. 26.
28 Сборник договоров России с Китаем… С. 54.
29 Там же. С. 56.
30 Сборник договоров России с Китаем… С. 58.
31 № 5. 1727 г. мая 10. Письмо С. Л. Владиславича-Рагузинского иркутскому коменданту М. П. Измайлову о подготовке к разграничению // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Т. 3. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/16916/17383.html (дата обращения 06.11.2021).
32 Цит. по: Постников А.В. Работы по организации охраны и картографирования территорий, разграниченных между Российской империей и цинским Китаем по условиям Нерчинского договора (1689 г.) и Кяхтинского (Буринского) трактата 1727 г. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2016. Т. 17. С. 13.
33 История Бурят-Монгольской АССР / изд. 2. Улан-Удэ, 1954. Т. 1. С. 137–138.
34 Fous Clifford M. Muscovite and Mandarin... P. 8–9.
35 № 5. 1700 г. июня 18. Указ царя Петра I по вопросам караванной торговли и миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Цинской империи // Русско-Китайские отношения в XVIII веке. Т. 1. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/ 14338/16913/16914/16923.html (дата обращения 03.11.2021).
36 № 24. 1725 г. августа 10. Пункты, представленные Коммерц-коллегией в Коллегию иностранных дел для включения в инструкцию С.Л. Владиславичу-Рагузинскому // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Т. 2. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/16915/17012.html (дата обращения: 05.11.2021).
37 Сборник договоров России с Китаем… С. 53–54.
38 № 38. 1727 г. августа 3. Письмо сибирского губернатора М.В. Долгорукова С. Л. Владиславичу-Рагузинскому об отправлении поручика А. П. Ганнибала для постройки новой Селенгинской крепости // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Т. 3. URL: https://www.abirus.ru/content/ 564/623/626/14338/16913/16916/17468.html (дата обращения 06.11.2021).
39 № 5. 1700 г. июня 18… URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/16914/16923.html (дата обращения: 03.11.2021).
40 Сборник договоров России с Китаем… С. 55.
41 № 52. 1727 г. сентября 5. – Указ из Походной посольской канцелярии агенту Л. Лангу о жалованье ученикам монгольского, маньчжурского и китайского языков, отправляющимся в Пекин // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Т. 3. URL: https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16913/16916/17493.html (дата обращения: 06.11.2021).
42 Лиштованный Е.И. Становление и развитие иркутской школы монголоведения. URL: http://mion.isu.ru/ru/news/docs/2009_09_24.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
Об авторах
Лариса Викторовна Занданова
Иркутский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: zandanova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2063-8568
д-р истор. наук, профессор, заведующий кафедрой истории и методики Педагогического института
664003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1Николай Николаевич Пузыня
Иркутский государственный университет
Email: stazirovka@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7321-1157
д-р истор. наук, профессор кафедры истории и методики Педагогического института
664003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1Список литературы
- Базарова Т.А. Визит С.Л. Владиславича-Рагузинского к Петру Великому в Пирмонт (июнь 1716) // Труды Санкт-Петербургского института истории РАН. 2019. № 5 (21). С. 145–169.
- Дучич Йован. Граф Савва Владиславич: серб-дипломат при дворе Петра Великого и Екатерины I. СПб.: ИТД Скифия, 2009. 292 с.
- История Бурят-Монгольской АССР / под ред. П.Т. Хаптаев и др. Улан-Удэ, 1954. Т. 1. 496 с.
- Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харьков: Гос. изд-во Украины, 1929. 158 с.
- Летопись города Иркутска. XVII–XIX вв. / сост. и научн. ред. Н.В. Куликаускене. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1996. 542 с.
- Лещиловская И.И. Серб – сподвижник Петра I. Граф Рагузинский // Славянский альманах. 2003. Т. 2002. С. 70–93.
- Лиштованный Е.И. Становление и развитие иркутской школы монголоведения. URL: http://mion.isu.ru/ru/news/docs/2009_09_24.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
- Мазина А.Я. Жалованная грамота Петра I надворному советнику Савве Рагузинскому за верную и усердную службу, 1710 г. Ч. 1. Предреставрационные исследования и демонтаж // Искусство Евразии. 2018. № 4 (11). С. 180–191.
- Мартиновиh Д. Генерали из Црне Горе у рускоj воjсци. Подгорица: ЦИД, 2002. С. 202.
- Павленко Н.И. Вокруг трона. М.: Мысль, 1998. 864 с.
- Постников А.В. Работы по организации охраны и картографирования территорий, разграниченных между Российской империей и цинским Китаем по условиям Нерчинского договора (1689 г.) и Кяхтинского (Буринского) трактата 1727 г. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. Иркутск, 2016. Т. 17. С. 12–25.
- Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы / сост. Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников: в 2 т. М.: Наука, 1969. Т. 1. 613 с.
- Русско-китайские отношения в XVIII веке. Документы и материалы / отв. ред. С.Л. Тихвинский. М.: Памятники исторической мысли, 2011. Т. 6. 427 с.
- Сборник договоров России с Китаем. 1689–1881 гг. СПб.: М-во ин. дел, 1889. 271 с.
- A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644–1820) / ed. by Delmer M. Brown. Tucson: The University of Arisona Press, 1966. 454 р.
- Foust Clifford M. II. The Treaty of Kiakhta; III. The New Milieu of Trade // Muscovite and Mandarin; Russia’s trade with China and its setting, 1727–1805. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969. Р. 24–86.
- Foust Clifford M. Muscovite and Mandarin; Russia’s trade with China and its setting, 1727–1805. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969. 424 р.
- Mancall M. Russia and China: their diplomatic relations to 1728. Harvard East Asian Series 61, Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: Oxford University Press, 1971. 396 р.
- Widmer Eric D. The Russian ecclesiastical mission in Peking during the eighteenth century. Cambridge: Harvard University Press, 1976. 262 p.
Дополнительные файлы