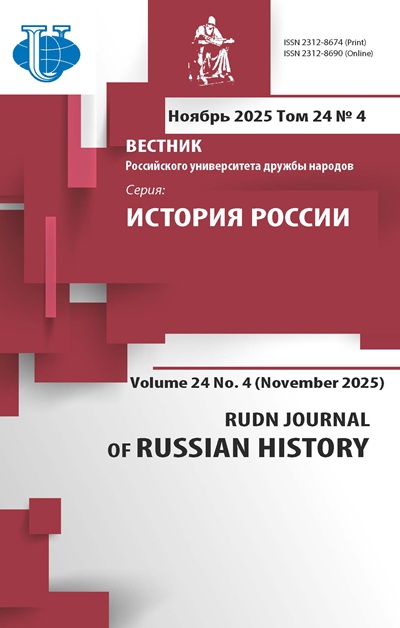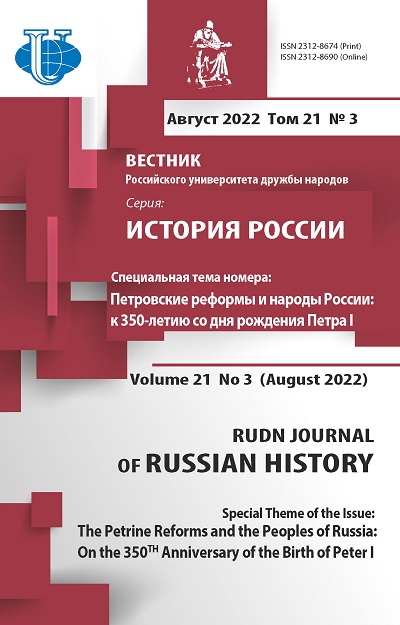G.S. Treuer’s ‘Apology’ of Tsar Ivan the Terrible as a Tool for Forming a Positive Image of the Russian Monarchy in Europe in the Petrine Era
- Authors: Eylbart N.V.1
-
Affiliations:
- А.I. Herzen Russian State Pedagogical University
- Issue: Vol 21, No 3 (2022): The Petrine Reforms and the Peoples of Russia: On the 350th Anniversary of the Birth of Peter I
- Pages: 376-383
- Section: THE PERSONALITY AND ACTIVITIES OF PETER THE GEAT IN HISTORICAL RESEARCHES AND SOURCES
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/31792
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2022-21-3-376-383
- ID: 31792
Cite item
Full text / tables, figures
Abstract
The article presents an analysis of the historical, political and philosophical work of outstanding German scientist, Professor Gottlieb Samuel Treuer “Apology of Ivan Vasilyevich II, Grand Duke of Moscow, usually falsely accused of tyranny,” published in Vienna in 1711. It was found that this work was one of the first papers, one way or another devoted to Russian history, published in the West in the Petrine era. During the Great Northern War the tendency to compare the reign of Ivan the Terrible and Peter I was quite clear, due to the fact that the “Baltic issue” remained valid for Russia more than a century after the failures in the Livonian War. The Russian propaganda in Europe needed to present Ivan the Terrible as a great ruler, without excessive cruelty and tyranny. The analysis conducted by the author showed that Treuer brilliantly coped with the task. In his work he proved that all the actions of Ivan the Terrible were justified by the public necessity and the morals of the Russian people. The “Apology of Ivan Vasilyevich” also contributed to the fact that some representatives of German scientific thought got carried away by Russian history. Among them were, in particular, G.F. Miller and A.L. Schlözer.
Full text / tables, figures
Введение
Представление о характере правления Ивана Грозного внутри России в петровскую эпоху ассоциировалось прежде всего с расширением границ государства и с укреплением самодержавной власти государей. В целом можно утверждать, что на протяжении всего XVIII в. личность Грозного была популярна в правящей семье, и царь неоднократно становился главным героем художественных произведений[1]. Императрица Анна Иоанновна грозила преподнесшим ей «кондиции» верховникам, указывая на портрет Ивана Васильевича в Грановитой палате, что она «хоть и баба, да такая же будет как он»[2]. Несомненно, в угоду императрице в «Оде на взятие Хотина» М.В. Ломоносов проводил параллель между двумя великими правителями: грозным Петром и грозным Иоанном, «смирителем Казанских стран»:
Герою молвит тут Герой:
«Не тщетно я с тобой трудился,
Не тщетен подвиг мой и твой,
Чтоб россов целый свет страшился.
Чрез нас предел наш стал широк
На север, запад и восток».[3]
После победы в Северной войне Петр I публично старался заложить в общественное сознание идею продолжения им политики Ивана Грозного, ведь как первый царь, так и первый император поставили перед собой задачу завоевания Прибалтики. По свидетельству современника событий, камер-юнкера Ф.-В. Берхгольца, в честь победы над шведами в Петербурге даже была сооружена триумфальная арка с изображением обоих государей[4]. Это произошло 27 января 1722 г., на праздновании дня рождения цесаревны Анны Петровны, где присутствовало множество иностранных гостей, которые могли лицезреть следующую картину. По бокам триумфальной арки в натуральную величину были сооружены фигуры Ивана Грозного в царской короне и Петра I в императорской, под первой значилась латинская надпись «Incipit» (начал), под второй «Perfecit» (усовершенствовал). Возникает вопрос: не боялся ли царь Петр насмешек иноземцев в отношении подобного сравнения, ведь ему скорее всего могло быть известно, что в Европе со времен барона Герберштейна утвердился стереотип Грозного как «кровавого москвитянина», «московского фараона», «Ивана Ужасного».
Примечательно, что Петр готовил европейское общественное мнение еще задолго до окончания Северной войны, преподнося при помощи своих апологетов образ Ивана Грозного за границей как царя-государственника, милостивого и щедрого к друзьям и жестокого к врагам. Наиболее вероятно, что царь финансировал исследования и издания, способствовавшие «прославлению России». Одним из авторов, ставшим рупором этого направления петровской политики, был немецкий философ, богослов и историк Готлиб Самуэль Тройер (1683–1743).
Готлиб Самуэль Тройер и планы петербургского двора
Известно, что в течение нескольких лет Петр Великий вынашивал планы женить своего сына, царевича Алексея Петровича, на ком-то из тех, кто находился в родстве с австрийским правящим домом, ибо от союза России с Габсбургами во многом зависел исход Северной войны[5]. Подходящая невеста вскоре нашлась. Это была родная сестра жены австрийского императора Карла VI, принцесса Шарлотта Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская. Переговоры о возможности этого брака шли еще с конца 1710 г.[6], а в апреле 1711 г. в польском Яворове царь утвердил брачный контракт. В октябре Петр прибыл в саксонский город Торгау, где и состоялось бракосочетание. Согласно «Биохроники Петра Великого» проведенное здесь время царь использовал и на встрече с представителями немецкой научной мысли. По крайней мере Г.-В. Лейбниц преподнес ему проект создания в России Академии («Общества всех наук») и предложил свою кандидатуру в качестве руководителя[7]. Вероятно, здесь же состоялась и встреча царя с Готлибом Самуэлем Тройером, профессором богословия, философии и истории Рыцарской академии в Вольфенбюттеле (родины царской невестки Шарлотты Кристины), которому еще раньше было заказано написание «Апологии Ивана Васильевича».
Об авторе рассматриваемого произведения известно немного. Он происходил из семьи сельского проповедника и евангелистско-лютеранского теолога Готлиба Тройера. В 1700 г. поступил в Лейпцигский университет, где изучал философию, богословие и юриспруденцию; в этом же университете занимал должность асессора философского факультета. В дальнейшем, после нескольких лет работы в Вольфенбюттеле, преподавал мораль, политику и историю в Хельмштедте. В 1731 г. получил степень доктора права и чин надворного советника. С 1734 г. Тройер стал профессором государственного права, морали и политики в только что созданном Геттингенском университете, где и закончил свои дни[8]. Cудя по всему, представленная Петру Великому «Апология Ивана Васильевича» была весьма тепло встречена царем, поскольку в дальнейшем он следил за творчеством Тройера и даже использовал его произведения. В 1718 г. ученый защитил диссертацию на тему «Рассмотрение вопроса на основании естественного права: может ли государь перворожденного принца от наследия державы своей исключить». В свете ссоры с сыном и его последующей трагической смерти царь нуждался в правовой основе своих деяний, а этот юридический и философский труд пришелся весьма кстати. Несомненно, по инициативе Петра в русском переводе вышеупомянутая диссертация вышла в 1720 г. под названием «Истязание по натуральной правде». По мнению специалистов, она даже легла в основу «Правды воли монаршей», подкреплявшей положения Устава о наследии престола 1722 г.[9] Исследование личности и эпохи Ивана Грозного не стало для Тройера единственной работой по русской истории. Уже в 1720 г. он создает довольно объемное «Введение в Московскую историю», куда включает и ранее проработанный материал о «Васильевиче»[10]. Эта книга, в отличие от «Апологии», была переведена на русский язык Сергеем Гавриловичем Плаутиным в 1741 г. и называлась «Московская или Российская Гистория, от времени, как из Российских разных княжеств единое великое Государство учинися, даже до утвержденного с Швецией мира, в деревне Столбове, 1617 г. Сочинена на немецком языке, в Лейпциге, Г.С. Трейером, а с немецкого на российский диалект переведена в 1741 году майором Инженерного Корпуса Сергеем Плаутиным, в Риге». Однако перевод так и остался в рукописи, которой пользовался Н.М. Карамзин при написании своей «Истории государства Российского».
Несомненно «Апология Ивана Васильевича», благодаря которой царь-рефор- матор обратил внимание на талантливого немецкого ученого, является ярким примером историко-политической и философской мысли того времени. К сожалению, она до сих пор не включена в историографию ни «грозненской», ни «петровской» эпох (в отличие от «Введения в Московскую историю»), и единственным упоминанием о ней на русском языке служит краткий доклад В.И. Щербины, сделанный на заседании Исторического общества Нестора-летописца в Киеве в 1895 г.[11]
Настоящее исследование, посвященное данному труду Готлиба Самуэля Тройера, может подвигнуть исследователей разного профиля к более подробному изучению этого произведения.
Идейный посыл титульного листа «Апологии Ивана Васильевича» Г.С. Тройера
Рассматриваемое произведение, довольно объемное по тому времени (74 страницы), было издано в Вене в 1711 г. без указания автора (вероятно, в целях избежать последующих дискуссий в печати и публично). В его названии уже улавливается итог решения проблемы: «Апология Ивана Васильевича II, великого князя московского, ложно обычно обвиняемого в тирании» («Apologia pro Joanne Basilide II Magno Duce Moscoviae tyrannidis vulgo falsoque insimulato»)[12]. Примечательно, что для обозначения имени государя Тройер использует, вероятно, укоренившееся в не- мецкой традиции правило считать «первым» Иваном Васильевичем Ивана III. В качестве эпиграфа к книге автор использует цитату из письма Гая Плиния Младшего Корнелию Минициану (книга III письмо 9): «Я счел требованием чести не обижать невинного, о чем говорю крепко, свободно и разнообразно»[13].
Вероятно, некоторые фрагменты «Апологии» были навеяны Тройеру творчеством Плиния Младшего и его «Панегириком императору Траяну», где римский автор оправдывает поступки государя (например, многочисленные войны), отмечая: «Мы говорим не о тиране, но о гражданине, не о властелине, но об отце»[14]. Возможно, Тройер был впечатлен случаем, описанным в письме к Минициану Плинием: последнему пришлось защищать в суде от нападок невинную дочь проконсула римской провинции Бетики Цецилия Классика, «гнусного и явного негодяя», «насильника и вымогателя». Разумеется, гнев толпы обратился прежде всего на семью уже умершего проконсула, и легче всего было и ее предать на словесное растерзание, однако сложность задачи Плиния заключалась в том, чтобы вопреки общественному мнению обратить правосудие в пользу невинных. Автор «Апологии» готовит читателя к тому, что он, подобно Плинию, взвалил на себя эту нелегкую задачу, о чем более подробно пишет во введении.
Краткий анализ текста «Апологии Ивана Васильевича»
Текст «Апологии» состоит из предисловия и трех глав, в свою очередь, разбитых на многочисленные параграфы (в данной части мы процитируем некоторые отрывки в собственном переводе). Необходимо отметить, что Тройер чрезвычайно тщательно подошел к своему заданию. По упоминаниям в тексте он изучил практически все произведения об Иване Грозном, опубликованные на Западе в предшествовавшие полтора столетия, а их было немалое количество, в том числе и среди германоязычных авторов[15].
В предисловии автор отмечает нелегкость собственного труда:
Кажется, я взял на себя работу Геракла и боюсь, как бы не сдвинуть с места весь Ахерон, дабы исключить из сонма проклятых тиранов Ивана Васильевича. Увы, сколько ужасных предрассудков стоят на пути, предубеждений, авторитетов, примеров, невежества и так далее, того, что мне предстоит рассеять? (Здесь и далее перевод наш. – Н.Э.)[16]
По мнению Тройера, и у величайших в истории злодеев и безбожников есть апологии, в том числе у тирана Фаларида, императоров Тиберия и Нерона и царя Сарданапала. Уже во введении он отвечает, что будет полемизировать с такими известными критиками Грозного, как А. Гваньини и П. Одерборн (анализу их произведений о царе посвящена вторая глава).
Первая глава книги разделена на 20 параграфов и носит название «Глава первая, в которой показано, как сложно упрекнуть в тирании правителя вообще и Ивана Васильевича в частности». Доказательную базу под это утверждение автор подводит исходя из аксиом, представленных в трудах Аристотеля и Макиавелли. Постулаты труда Аристотеля «Политика» гласят, что тираном считается тот, кто захватил власть незаконным путем и правит, также преступая законы. С первым постулатом Тройер справляется легко, ведь «Васильевич» унаследовал власть по закону от своего отца, великого князя московского, в 1533 г. Что же касается тиранических поступков (жестоких казней, покровительства доносчикам, разврата, репрессий духовенства, показной роскоши) – все это соответствует характеру управляемого им народа и «не нарушает строй» Московского государства, а, следовательно, не является тиранией. «Хотя Генрих IV», как пишет автор, «и страдал некоторыми пороками, но папа не объявил его тираном»[17]. Также не слывет тираном и Иоанн, герцог бургундский (Жан Бесстрашный), несмотря на незаконный захват власти. Гораздо более тиранических черт, нежели в Иване Васильевиче, Тройер видит в нарушителях, преступивших законы республики, таких как Козимо Медичи во Флоренции. Последний, узурпировав власть, как настоящий тиран
боялся заговоров, созывал отряды личных телохранителей, возводил цитадели и укреплял город крепостями, вводил новые налоги и правила, которые в действительности были ядом для народа»[18].
Однако, исходя из этих рассуждений, Московское государство является (как и Турецкая империя, с которой Тройер сравнивает Россию) абсолютной монархией, законы находятся в руках государя, а следовательно, он их тиранически не преступает, например, казня бояр-изменников, ибо имеет в этом поддержку и любовь народа. Автор называет московского государя «солнцем», к которому не пристанет пятно, противопоставляя ему «порочных тиранов республики». Он пишет:
Не следует называть тираном того, кто обладает властью по праву, отличаясь во всем от республики, источника порока, жестокой по отношению к народу, отнявшей права у дворян, законы у государства, на которых присягала[19].
Подвергнув самому глубокому сомнению «тиранию Васильевича» и вместе с тем приведя веские доказательства преимущества абсолютной монархии над республикой, Г.С. Тройер переходит к «истории вопроса», посвятив вторую главу анализу произведений авторов, когда-либо писавших об Иване Грозном. Вторая глава под названием «О писателях, изображавших жизнь Ивана Васильевича II и об их правдивости» разделена на 16 параграфов. Автор действительно собрал почти полную плеяду людей, писавших о Грозном, кроме англичан Д. Горсея и Э. Дженкинсона, трудов которых он, по его собственному признанию, «не смог обнаружить». Однако представленный им список прочитанных писателей весьма впечатляющ: Александр Гваньини, Павел Одерборн, Георг ван Гофф, Тилеман Бреденбах, Филипп Пернштейн, Якоб Ульфельдт, Георг Крейдлейн («аноним из Нюренберга»), Антонио Поссевино, Рейнгольд Гейденштейн, Христофор Варшевицкий, Петр Петрей, Сигизмунд Герберштейн. Подчеркивая всю неоднозначность почерпнутых им сведений, Тройер заключает:
Из сравнения этих авторов, из обсуждения их чувств, из столкновения противоречивых мнений, из совокупности более или менее заслуживающих доверия сведений и отчетов о положении в России гений может узнать правду[20].
Таким образом, он весьма искусно отметает негативные высказывания перечисленных «историков» об Иване Грозном, ибо им противостоят положительные, следовательно, истины в освещении характера правления этого государя им достичь не удалось.
Исходя из логики изложения, таковую истину пытается представить читателю сам Тройер в третьей, заключительной главе, носящей название «О причинах, из-за которых Иван Васильевич приобрел дурную славу и подвергся позорным обвинениям в тирании». Данная глава разделена на 15 параграфов, в которых автор пытается опровергнуть или, по крайней мере, поставить под сомнение тиранические поступки, приписываемые Грозному. Из проанализированных во второй главе книг Тройер выделил восемь основных обвинений, которые предъявлялись царю современниками: жестокие казни, насилие над духовенством, тирания по отношению к боярам, любовь к иностранцам, задержание иностранных послов и незаконное присвоение византийского герба, войны с соседями, жестокость царских помощников и воинов, в целом тираническое правление. Автор опровергает или оправдывает эти поступки как в общем, так и по отдельности. С его точки зрения, интересы государства и варварство управляемого царем народа не оставляли государю выбора в методах, а сами писатели-иноземцы могли не вполне объективно судить о монархе, поскольку мало знали Россию и наблюдали ее правителя большей частью издалека.
Кто из государей, управляя в тяжелые времена, – продолжает Троейр, – не навлекает на себя злобу соседей или подданных? Государи заботятся о правильности своих действий, но не об их внешнем виде[21].
Он приводит в противовес суровому правлению Ивана Васильевича грозных европейских монархов Филиппа II и Людовика XIV, развязавших много войн с соседями, однако не столь осуждаемых «молвой» в тирании, как Грозный. В сущности «строительство империи», по Троейру, является той целью, выполняя которую правитель не может быть обвинен в тирании, и «Васильевич» «имеет немало достижений», следовательно, «должен быть публично очищен от обвинений». Автор замечает:
Он не чурался пороков и не был украшен изяществом нравов, но и позор тирании не может быть на него наложен[22].
Выводы
«Апология Ивана Васильевича» Готлиба Самуэля Тройера является примером талантливого произведения не столько исторической, сколько философской и политической мысли, имевшего большой резонанс среди представителей немецкой научной общественности. Данное произведение, созданное по предложению Петра I и, вероятно, его сподвижника барона Генриха фон Гюссейна[23] в рамках инициативы государя по пропаганде российских взглядов в европейской печати, было написано на латинском языке именно с целью распространения среди западных читателей. Царь не ошибся в выборе того, кому поручил столь ответственное дело. Тройер отнесся к исследуемому предмету с искренним интересом и даже на- учным азартом. Опровергнуть укоренившиеся в Европе столетиями взгляды о «тиране Васильевиче» не при помощи словесной эквилибристики, а на серьезной философской и историко-политической основе представлялось задачей не из легких, с которой автор блестяще справился.
«Апология» является одним из первых, самых ранних трудов, посвященных истории России, опубликованных в петровское время. Она обозначила впервые и новое направление в изложении истории Российского государства – прагматическое, когда интересы государства и текущая обстановка на политической арене требовали освещения прошлого в определенном русле. Нуждался в подобном представлении и Иван Грозный, поскольку петровская Россия наследовала как реформаторский вектор его политики, так и решение «балтийского вопроса».
Готлиб Самуэль Тройер был представителем так называемого «первого поколения» немецких ученых, служившего российской короне. «Апология» заинтересовала прежде всего его соотечественников из научной среды и, вероятно, что ее прочтение возбудило в их среде интерес к русской истории вообще. Возможно, и Г.Ф. Миллер впервые познакомился с Россией благодаря данному произведению. По крайней мере точно известно, что «Апологией» и личностью ее автора восхищался А.Л. Шлецер, преемник Тройера по кафедре политики Геттингенского университета. Таким образом, можно утверждать, что «Апология Ивана Васильевича» послужила своего рода «научным импульсом», благодаря которому в немецкой ученой среде появилось много выдающихся исследователей России, а русская история вообще стала ближе европейцам, как и задумывал Петр Великий.
1 Завьялова А.И. Иван Грозный в творчестве русских писателей второй половины XVIII – XIX вв. // Вестник славянских культур. 2018. Т. 50. С. 136–145.
2 Занимательные истории из жизни Романовых. М., 2013. С. 97.
3 Ломоносов М.В. Избранные произведения. М. – Л., 1965. С. 66.
4 Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. Л., 1983. Т. 37. С. 54–55.
5 Анисимов Е.В. 1) Петр Великий: личность и реформы. СПб., 2009; 2) Война и мир Петра Великого // Вестник МГИМО Университета. 2021. Т 14. № 6. С. 7–29; Агеева О.Г., Акимов Ю.Г., Андреева Е.А., Д’Анжело Ф., Анисимов Е.В. Петр Великий и европейский интеллектуальный мир: циркуляция знаний, взаимовлияния (1689–1727): коллективная монография. Париж, СПб., 2020; Черникова Т.В. Парадоксы петровской европеизации // Новая и новейшая история. 2018. № 5. С. 3–22.
6 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. СПб., [Б.г.]. Кн. 4. Т. 16–20. С. 417.
7 ItineraPetri: Биохроника Петра Великого день за днем // Высшая школа экономики. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/ (дата обращения 07.03.2022).
8 Zimmermann P. Gottlieb Samuel Treuer // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Leipzig, 1894. Band 38. Р. 582.
9 Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 428.
10 Einleitung sur Moscovitiachen Historie von der Zeit an da Moscov aus vielen kleinen Staaten zu einem Grossen Reiche gediehen bis auf den Stolbovischen Frieden mit Schweden anno 1617 etc. Mit unparteyischer Feder aus denen bawahrtesten Scribenten gezogen. Leipzig und Wolffenbűttel, 1720.
11 Щербина В.И. Готлиб-Самуил Трейер и его сочинения по истории Московского государства // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Книга девятая. Киев, 1895. С. 148–164.
12 Для работы использовано издание, хранящееся в Национальной Библиотеке в Польше (в Варшаве): Biblioteka Narodowa, mf. B 9449.
13 Plinii Caecilii Secundi С. Epistolae et Panegyricus. Londini, 1821. P. 68.
14 Письма Плиния Младшего. М. – Л., 1950. Кн. 1–10. С. 358.
15 Кизеветтер А.А. Иван Грозный и его оппоненты. М., 1898; Эйльбарт Н.В. Царь Иван Грозный в польско-немецкой пропаганде времен псковского похода Стефана Батория (по материалам «Акростиха» Валентина Неотебеля) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2021. Т. 22. Вып. 1. С. 383–391.
16 Apologia pro Joanne Basilide II Magno Duce Moscoviae tyrannidis vulgo falsoque insimulato. Vienae Austriae, 1711. P. 1.
17 Ibid. Р. 9.
18 Apologia pro Joanne Basilide II Magno Duce Moscoviae tyrannidis vulgo falsoque insimulato. Vienae Austriae, 1711. Р. 11.
19 Ibid. Р. 32.
20 Ibid. Р. 53.
21 Apologia pro Joanne Basilide II Magno Duce Moscoviae tyrannidis vulgo falsoque insimulato. Vienae Austriae, 1711. Р. 54.
22 Ibid. Р. 73–74.
23 Пекарский П.П. Барон Гюйссен, учено-литературный агент русского правительства в начале XVIII в. // Отечественные записки. 1860. Март. С. 49–72.
About the authors
Nataliya V. Eylbart
А.I. Herzen Russian State Pedagogical University
Author for correspondence.
Email: ejlbart@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0021-073X
Dr. habil. hist., Professor of the Department of Russian History from Ancient Times to the Early 19th Century
48, Moika River Embankment, St. Petersburg, 191186, RussiaReferences
- Ageeva, O.G., Akimov, Yu.G., Andreeva, E.A., D’Angelo, F., and Anisimov, E.V. Petr Velikii i evropeiskii intellektual'nyi mir: tsyrkulyatsiya znanii, vzaimovliyaniya (1689-1727). Kollektivnaya monografiya. Parizh, St. Petersburg: Evropeiskii dom Publ., 2020 (in Russian)
- Anisimov, E.V. “Voina i mir Petra Velikogo.” Vestnik MGIMO Universiteta 14, no. 6 (2021): 7-29 (in Russian)
- Anisimov, E.V. Petr Velikii: lichnost' i reformy. St. Petersburg: Piter Publ., 2009 (in Russian)
- Chernikova, T.V. “Paradoksy petrovskoi evropeizatsii.” Novaya i novejshaya istoriya, no. 5 (2018): 3-22 (in Russian)
- Eyl'bart, N.V. “Tsar' Ivan Groznyi v pol'sko-nemetskoi propagande vremen pskovskogo pokhoda Stefana Batoriya (po materialam «Akrostiha» Valentina Neotebelya).” Vestnik Russkoi khristianskoi gumanitarnoi akademii 22, no. 1 (2021): 383-391 (in Russian).
- Kizevetter, A.A. Ivan Groznyi i ego opponenty. Moscow: Grosman i Knebel Publ., 1898 (in Russian).
- Lomonosov, M.V. Izbrannye proizvedeniya. Moscow; Leningrad: Sovetskii pisatel Publ., 1965 (in Russian).
- Panchenko, A.M., and Uspenskii, B.A. “Ivan Groznyi i Petr Velikii: kontseptsii pervogo monarkha.” In Trudy otdela drevnerusskoi literatury IRLI RAN, 54-55. Leningrad: Nauka Publ., 1983. T. 37 (in Russian)
- Pekarskii, P. P. “Baron Gyuissen, ucheno-literaturnyi agent russkogo pravitel'stva v nachale XVIII v.” In Otechestvennye zapiski (March 1860): 49-72 (in Russian).
- Pekarskii, P.P. Nauka i literatura v Rossii pri Petre Velikom. Vol. 1. St. Petersburg: Obshchestvennaya polʹza Publ., 1862 (in Russian).
- Plinii Caecilii Secundi, С. Epistolae et Panegyricus. Londini: [N.s.], 1821 (in Latin).
- Shcherbina, V.I. “Gotlib-Samuil Treyer i ego sochineniia po istorii Moskovskogo gosudarstva.” In Chteniia v istoricheskom obshchestve Nestora letopistsa. Bk. 9, 148-164. Kiev: G.T. Korchak-Novitskogo Press, 1895 (in Russian).
- Solov'ev, S.M. Istoriia Rossii s drevneishih vremen. Bk. 4, vol. 16-20. St. Petersburg: Obshchestvennaia polʹza Publ., 1895-1896 (in Russian)
- Zav'yalova, A.I. “Ivan Groznyi v tvorchestve russkikh pisatelei vtoroi poloviny XVIII-XIX vv.” In Vestnik slavianskikh kul'tur 50 (2018):136-145 (in Russian)
- Zimmermann, P. “Gottlieb Samuel Treuer.” In Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 38. Leipzig: Duncker & Humblot, 1894 (in German)
Supplementary files