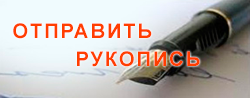Детские воспоминания о блокадном Ленинграде в материалах Центрального государственного архива Удмуртской Республики
- Авторы: Уваров С.Н.1
-
Учреждения:
- Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
- Выпуск: Том 20, № 2 (2021): Военное прошлое в культурно-исторической памяти народов России
- Страницы: 258-269
- Раздел: ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДОВ РОССИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/26594
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2021-20-2-258-269
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Вниманию читателя предлагаются неопубликованные детские воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде, которые обнаружены в личном фонде Н.А. Королевой (Р-1703) в Центральном государственном архиве Удмуртской Республики. Из 12 имеющихся в архивном деле записей в настоящей публикации приводится четыре. На момент начала Великой Отечественной войны их авторам было от 11 до 16 лет. Прожив все блокадные годы в Ленинграде, они делятся своими ощущениями от начала блокады, передают детали своей повседневной жизни в блокадном городе. Большой объем в воспоминаниях занимает тема голода, описывается каждодневный рацион блокадника. Среди воспоминаний фигурирует весьма ценное и крайне редко встречающееся в мемуарной литературе детское свидетельство казни гитлеровских преступников, состоявшейся 5 января 1946 г. в Ленинграде. Несмотря на приводимые трагические страницы из жизни людей в блокадном городе, практически во всех воспоминаниях ощущается оптимизм, вера в скорую победу над врагом. Публикуемые воспоминания в русле истории повседневности расширяют наши знания о блокаде Ленинграда и о такой категории, как «дети войны».
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны явилась блокада Ленинграда. К настоящему времени в научный оборот введен огромный массив источников по данной теме. Однако еще бóльший их объем не опубликован и ждет своего исследователя. Пожалуй, самым эмоциональным видом источников являются воспоминания, среди которых особое место занимают воспоминания детей. Детская память может запомнить то, на что не способны взрослые. Кроме того, дети все воспринимают по-своему, поэтому, изучая блокаду глазами ребенка, возможно обогатить наши знания о ней.
Большинство детских воспоминаний о блокаде опубликовано в городе на Неве[1], но порой они обнаруживаются в местах, далеких от него. В Центральном государственном архиве Удмуртской Республики (далее – ЦГА УР) хранится личный фонд (Р-1703) Н.А. Королевой, состоящий из 49 дел. Нина Александровна Королева родилась 18 января 1926 г. в Ленинграде. Начало блокады она встретила семиклассницей. Осенью 1942 г. вступила в комсомол и стала бойцом противопожарного комсомольского взвода штаба МПВО при объекте «Смольный». Почти полгода вместе с такими же школьницами она несла круглосуточные дежурства на чердаках зданий у Смоленского собора. После расформирования взвода в июле 1943 г. была переведена в пожарную охрану Смольного.
После войны Н.А. Королева оказалась в Ижевске, где какое-то время работала в районном Совете ветеранов и следила за тем, какая помощь оказывалась блокадникам[2]. На своих встречах ветераны делились воспоминаниями. В результате 12 рукописных записей, датированных 1998–1999 гг., составили отдельное дело. Они написаны одним почерком, очевидно, Н.А. Королевой. В настоящую публикацию вошли четыре отдельных записей, наиболее объемных и информативных. Орфография и подчеркивания сохранены в тексте.
«Сомкнулось кольцо блокады…»
Воспоминания Степановой Галины Борисовны, 15.07.28 года рождения, проживавшей на Васильевском острове по Большому проспекту, 52–35.
Первая встреча с войной
Ночь с 21 на 22 июня 1941 г. я ночевала одна на даче на станции Ольгино. Мы каждое лето ездили туда на дачу. Этот поселок находится между станциями Усовая деревня и Разлив, где был аэродром. Всю ночь тучей шли самолеты из Новой Деревни в Разлив, в сторону границы. Стоял такой гул, что спать было невозможно. Мама дежурила в больнице, а папа был репрессирован. Утром мама приехала с работы и сказала, что в Ленинграде объявлено осадное положение. Мы подумали, что это учение. Такие учения проходили ежедневно.
После речи Молотова, узнав о начале войны, мы уехали из Ольгино в Ленинград. Мама была медиком и обязана была находиться на своем рабочем месте. В первый же день войны на город был налет, стреляли зенитки. Я испугалась и заплакала. Но мама очень спокойно сказала: «Ты что же теперь все время реветь будешь? Ведь стрелять будут каждый день. Это война, а не учение». И она была права. До января 1944 г. стреляли каждый день. Стреляли и бомбили. Иногда целыми ночами – тревога, а днем, как взойдет солнце, начинается артобстрел. И так до заката по разным районам города. В июле 1941 г. школьников эвакуировали из города в пригороды. Наша школа уехала в Любитино, и от станции нас везли на лошадях 35–40 км в глубинку. Сначала там было хорошо: весело, хорошо кормили. Но вскоре стали приезжать родители и забирать ребят домой. Всем захотелось уехать тоже. Однажды после обеда нам сказали: «Всем обязательно спать!». После тихого часа нас хорошо накормили, помогли собрать вещи и в ночь, погрузив на повозки только багаж и самых младших ребят, отправили нас (шестые классы) на станцию пешком. Путь, видимо, сократили. Шли 28 км с одним привалом. Утром нас погрузили в товарные вагоны, и мы ехали до Ленинграда трое суток, вместо 16 часов. Немецкие самолеты бомбили нас. Тогда нас высаживали из вагонов и прятали в лесу. После отбоя тревоги снова сажали в вагоны и везли дальше. Так продолжалось почти каждый час. В последние три вагона попала бомба, они загорелись, их отцепили, нас повезли очень быстро и больше не останавливались до самого города. В Ленинград мы вернулись 18 августа.
Сомкнулось кольцо блокады
Город бомбили все чаще и чаще. Иногда по 15–16 раз в день. Паек постепенно уменьшали. В сентябре сгорели Бадаевские склады. В ночь с 7 на 8 сентября сомкнулось кольцо блокады. Это была страшная ночь. Всю ночь били орудия и гудели самолеты. Мама была на дежурстве, и я была дома одна. Я забилась на кровати под периной, гул и стрельбу я слышала глухо, но зато хорошо чувствовала вздрагивание кровати от падения бомб где-то поблизости. Кошмар закончился утром. После этой страшной тревоги я приходила на ночь к маме на работу. С нами жила моя тетя. Она работала вместе с мамой в одном отделении больницы им. Веры Слуцкой и была начальником штаба МПВО. Я ночевала с ней в боксе. Становилось все холоднее. Вода в паровом отоплении замерзла. Я ходила за водой с ведром и большим бачком на санках к заводу «Пневматик», который был в двух кварталах от нашего дома. В квартире вода за ночь замерзала, температура была в помещении -8°. Все домашние цветы погибли. Печку-голландку не топили. Она съедала слишком много дров. Топили буржуйку. В конце ноября 1941 г. начали давать хлеб по 125 г, маме 250 г. Ели, что придется: столярный клей (из него варили студень). Мне иногда перепадали картофельные очистки от соседей в нижней квартире за помощь по уходу за маленькой девочкой. 25 декабря 1942 г. хлеба стали давать мне 200 г, маме – 250 г. Но нас постигло несчастье. У нас жили родственники, которые эвакуировались к нам с окраины города. Они украли у нас все продукты и уехали. Мы с мамой остались ни с чем. Еще в начале 1942 г. мама упала и ушибла спину. Потом начала болеть.
Как выглядел город в эту зиму, говорилось, писалось, снималось в фильмах очень много, но это, как говорится, только цветочки. На самом деле было гораздо страшнее. Трупы лежали прямо на улицах, в подъездах, в квартирах. Их убирали девушки из отрядов МПВО. Подъезжали на машинах и как поленья дров забрасывали трупы в кузов. К маминой больнице к приемному покою подбрасывали по 10–12 трупов. Их не хватило сил хоронить. Мама лежала в своей больнице, я ее навещала каждый день. Однажды, когда я подходила к больнице, меня обогнали два человека, которые везли на санях мужчину. Подъехав к проходной, они резко развернули сани, и мужчина упал прямо возле проходной, а эти двое ушли с санями. Когда я подошла ближе, он застонал, повернул голову и я увидела его голубые глаза. Я вижу их до сих пор, когда вспоминаю этот случай.
Однажды я ночевала с тетей в боксе, и она послала меня на кухню за кипятком. Я одела черный халат (в белом ночью не разрешалось выходить на улицу), взяла чайник и пошла на кухню. Надо сказать, что в этот бокс мы проходили мимо приемного покоя на второй этаж. Спускаясь по лестнице, я споткнулась и упала на что-то мягкое и почувствовала, что лежу на трупах. Ведь в приемный покой везли людей при смерти и так как покойников было много, их уносили в покойницкую только при передаче смен. На улице ведь было темно, да и людей при пересмене было побольше. И вот я лежу на трупах, открывается дверь приемного покоя и несут очередного покойника. Я соображаю, что сейчас его с носилок сбросят прямо на меня. Не помню как, но, наверное, я закричала, так как санитары поставили носилки, осветили меня маленьким фонариком (карандаш, так он назывался), подняли меня и отвели меня в бокс. Оказывается, дистрофические, истощенные трупы не застывают и когда их сбрасывали с носилок, рука откидывалась в сторону. Вот об нее я и споткнулась.
Во время блокады в школе шли занятия, но только учились в бомбоубежище. Ребят ходило мало. Но учитель математики занимался с нами. Его звали Михаил Михайлович. В задачах он приводил примеры либо с хлебом, либо с дровами, либо с водой. Это были самые главные вещи в нашей жизни. Потом он умер и занятия прекратились. Одна учительница собрала нас и выпросила у домоуправления комнату. Она перенесла занятия туда. Но и в этой комнате тоже лежали два трупа: бабушка и внучка. Мы занимались в присутствии трупов дней пять, и только потом их вынесли на кухню, положили на плиту (столы все сожгли), а через три дня их увезли. Вот и представьте, какая в квартире температура, если от трупов не было даже запаха. Мы писали карандашом или занимались устно. Мороз на улице был –42°, а у нас в комнате – 8–10°. В магазине за хлебом стояли очереди. Однажды я пришла в магазин, когда его уже открыли. Слышу разговор, что кого-то задавили. Оказывается, при открытии магазина толпа бросилась к двери, кто-то споткнулся и упал, и по этим упавшим толпа прошла в магазин, и их задавили насмерть.
Недалеко от этого магазина находилось ремесленное училище. Обеды туда возили от фабрики-кухни. Однажды, стоя в очереди, я вижу такую картину. Пожилой мужчина везет на тележке с большими колесами довольно высокие бидоны со щами из зеленых листьев капусты (хряпы). Вдруг он споткнулся, упал, тележка покатилась вперед, бидоны перевернулись, и горячие щи вылились из них. Вся очередь бросилась к этой тележке, но не для того, чтобы поднять этого несчастного, а чтобы собрать листья и отправить их с жадностью в рот, так как горячая вода утекла сквозь снег, а листья остались. Только когда все листья были собраны, обратили внимание на упавшего. Близко была поликлиника, кто-то сбегал туда, пришли два санитара с носилками и унесли его. К этому магазину мы были «прикреплены» на получение продуктов по карточкам.
А вот еще один случай, произошедший в этом магазине. У меня было заведено приходить к открытию магазина, чтобы долго не стоять в очереди, т.е. я приходила к 6 часам утра. В это время всегда запускали народа больше, а значит скорее можно было «отовариться». Я старалась проскользнуть поближе к двери, и когда дверь отворяли, я с толпой проносилась в магазин. Но однажды я опоздала, и мне пришлось встать в хвост очереди.
Маленький паек особенно сказывался на подростках ремесленного училища. Когда подаешь карточки продавцу на получение хлеба, а ремесленники стоят около прилавка, не знаешь, что брать первым: карточку у продавца или кусочек хлеба-паек? Возьмешь хлеб, они успевают схватить карточки и убежать с ними. Возьмешь карточки, они хватают хлеб и сразу засовывают его в рот. Тут уж отнять его невозможно. Иногда по «разовым» талонам нам давали пол-литровую бутылку водки. За нее на набережной Невы у моряков удавалось выменять две буханки хлеба. И какой это был хлеб! Он был заделан в целлофановый пакет и испечен в 1932 г. Он был сухой, очень вкусный и от него невозможно было оторваться. От этого хлеба (от его переедания) люди погибали.
Последствия бомбежек
Однажды ночью была сильная бомбежка. Недалеко от нашего дома упала бомба и разрушила четырехэтажный дом. Утром по дороге на работу я увидела, как его разбирают. Подошла и решила немного помочь: время до работы позволяло. Разбираем и вдруг слышим детский плач. Значит, где-то засыпан ребенок. Начали разбирать активнее, но плач не становился яснее. У кого-то заболела спина, и женщина разогнулась. Вдруг видит: на высоте второго этажа стоит лицом к стене женщина и держит на руках маленького ребенка. Появилась пожарная машина, и женщину сняли. Ребенка сразу унесли в роддом, благо он был напротив, а мать положили на носилки. Она была вся седая. Она простояла на сохранившемся куске пола (видимо, хотела войти, да не успела) полтора-два часа.
Убивали не только немцы
В мамином отделении лежали дети. Тетя была старшей сестрой, и поэтому кормила их обедом. Лежала у них пятилетняя девочка Соня. Однажды она задает тете вопрос: «Тетя! А почему у Вас так мало мяса дают?» Крестная спрашивает: «А разве ты дома больше мяса ела?».
– Конечно. Мне мама каждый день котлеты жарит.
– А где твоя мама мясо берет?
– Как где? К нам кто-нибудь придет, папа топориком «тюк», а мама котлеты жарит.
Тетя заявила в милицию. На квартире Сониных родителей (они жили на первом этаже) произвели обыск и обнаружили в погребе под половиками бочку с засоленным человеческим мясом и головы убитых. Родителей Сони арестовали, а ее после выздоровления передали в детдом.
Обстрелы… Обстрелы… Обстрелы…
Обстрелы в солнечные дни иногда продолжались целый день. Немец менял только районы обстрелов. Однажды снаряд попал в трамвай, стоящий на площади Труда. Трамвай был полон народа. Было очень много жертв. В этом обстреле я потеряла дядю. Вообще за годы войны я потеряла 11 человек родни. Последней жертвой была моя мама.
Вот еще одна страшная картина. Во время одного сильнейшего обстрела Невского на проспект попало несколько снарядов. Об одном хочу вспомнить. Он попал в трамвайную остановку на углу Невского и Садовой. На остановке было много народа. Вскоре должен был начаться спектакль Театра оперетты в помещении Александринского театра. Артисты в костюмах и гриме помогали выносить убитых из трамвайных вагонов. Скорая помощь не успевала подбирать раненых.
Моя первая работа
Мама умерла 22 июня 1942 г., и тетя посоветовала мне пойти работать. Все-таки будет рабочая карточка. Пришла в отдел кадров фабрики «Красный октябрь». В мирное время на этой фабрике делали пианино. Меня приняли рабочей на сборку ящиков под мины. Оформили и отправили в цех. В цеху меня оглушил стук молотков, и удивил вид девчонок и мальчишек моего возраста. Они были в одежде, запятнанной краской. Ко мне подошел мастер, Мария Тимофеевна.
– Зачем пришла? – спрашивает.
– Работать, – отвечаю.
– Ну что ж. Вставай к верстаку, учись! А завтра такая нарядная не приходи. Видишь, как у нас грязно? Может передумаешь?
– Нет! – отвечаю.
Смотрю и думаю: с виду работа такая простая. Норма – 120 ящиков. На следующий день пришла в халате. Смело встала к верстаку. К концу смены сделала 58 ящиков. Стала контролер принимать работу, да и забраковала 24 ящика. Как я плакала! Мне было обидно, что другие ребята делают даже больше нормы. Подошла мастер и говорит:
– Не реветь надо, а учиться!
И я училась. Мне тогда было уже 14 лет. Я научилась делать 400 ящиков, у меня была своя подсобница, которая подносила мне детали ящиков. Через некоторое время нам пришел другой заказ: ящики под морские мины. Их надо было склеивать казеиновым клеем. Он очень сильно разъедал пальцы так, что гвозди было держать невозможно. Стали работать в резиновых перчатках. Иногда проходили учебные химические тревоги. Работали в противогазах, начинали с 15 мин., и довели до 3-х часов.
Какой хороший, дружный был у нас коллектив! Никаких ссор. Никакой зависти. Все старались друг другу помочь, поддержать, успокоить. Ведь шла война, а на войне как на войне – все бывало.
Потом на фабрике понадобились другие профессии, я пошла учиться на электрика. Потом был клич: «Освоим две профессии!». Я стала маляром и штукатуром, а через некоторое время – каменщиком. После работы на фабрике ходили на восстановительные работы. Но это было позднее.
В 1943 г. осенью открылись вечерние школы, и я пошла учиться. Учились мы с 7 часов вечера, а работала я до 2 часов, в промежутке между двумя часами и семью часами вечера посещали госпиталь на пятой линии Васильевского острова. Домой приходили в 11 часов вечера. А утром все начиналось сначала. Когда сейчас вспоминаешь ту нашу жизнь, даже дивишься: как могли, как успевали, где брали силы? […]
Месть
Помню я такой эпизод. Через некоторое время после веселого праздника я находилась возле Финляндского вокзала. Небольшая площадка была оцеплена колючей проволокой. Это было на Выборгской стороне около кинотеатра «Гигант». Там проходила казнь 10 немецких офицеров высокого ранга[3]. Стояли П-образные столбы, под ними грузовые машины. На столбах были веревки с петлями. Привезли приговоренных. Машина с одним приговоренным подъезжала к стоящей под столбами машине. На нее переводили по одному приговоренному и по одному конвоиру. Через переводчика предоставили последнее слово. Только один из 10 не произнес его. Каждый конвоир набросил веревку на шею немцев. Машина отъезжала. Только один оттолкнул конвоира и набросил веревку сам. На это было страшно смотреть. Говорили, что они весели 3–4 дня. Я больше туда не ходила.
Похороны мамы
22 июня 1942 г. моя мама умерла. Я заплакала, но тетя сказала:
– Перестань, мы много потеряли дорогих нам людей, но надо жить!
Через три дня пришли два санитара и на носилках унесли маму в морг. Я не знаю, где ее могила. Придя домой, тетя достала чудом уцелевшую щепотку муки и испекла две маленькие лепешки. Сказала:
– Давай, помянем маму!
Я заплакала. Но на этот раз она меня не остановила, а когда я успокоилась обняла меня, поцеловала и сказала:
– А жить нам все равно надо! […]
ЦГА УР. Ф. Р-1703. Оп. 1. Д. 25. Л. 9–16
«Я из Тарховки…»
Воспоминания Тарасовой Валентины Дмитриевны, 24.11.27 года рождения, проживала на станции Тарховская, в дальнейшем в Парголове.
Я, Тарасова Валентина Дмитриевна, родилась в Псковской области в деревне Ярцево 24 ноября 1927 г. Эту Родину я помню смутно. Своей малой Родиной я считала Тарховку, где прошло мое детство, где застала меня война, где настигла меня блокада.
Тарховка – это дачный поселок, расположенный на берегу Финского залива. Жили мы в двухэтажном деревянном доме на шесть семей, без каких каких-либо удобств. Во время войны это окажется преимуществом […]. Отец работал в Ленинграде на кондитерской фабрике, мама занималась воспитанием нас, трех дочерей-погодков. Я самая младшая.
22 июня 1941 г. началась война, а в июле отца взяли на фронт. Мать с сестрами устроились работать в Александровскую контору связи. Вскоре мать и старшую сестру послали на трудовой фронт рыть окопы под Ленинградом. Тяжелая и опасная была эта работа, так как фронт был рядом. Немец прилетал и прямо с самолета стрелял по женщинам. Больше месяца я и 15-летняя сестра жили одни. Так как мне было 14 лет, 6 классов образования, решено было продолжить учебу, хотя бы закончить 7 классов. Училась в первой Сестрорецкой школе, которая находилась в Разливе. С 1 сентября началась уборка урожая на подсобных хозяйствах в г. Сестрорецке, а 8 сентября пал Шлиссельбург – началась блокада Ленинграда.
С севера финны дошли до старой границы под Белоостровом. Я училась только до зимних каникул, так как голод своей костлявой рукой брал за горло. Сестрорецк обстреливали финны. Школу закрыли. Жители Сестрорецка, Белоострова и Курорта были эвакуированы на Большую землю или к нам в Тарховку и Александровскую. Мы, например, приютили семью из четырех человек. Жили дружно, так как общее горе нас объединяло. В ноябре мы впервые услышали слово дистрофия и увидели дистрофиков. Люди стали умирать. Зима 1941–42 гг. была самая страшная. Люди были к ней не подготовлены. Мы благодаря интуиции нашей мамы поздней осенью ходили на уже убранные поля и собирали грязные зеленые листья капусты и свеклы, мыли их и мелко рубили сечкой в корыте, а потом квасили. Эта черно-зеленая масса называлась хряпа. Основное питание у нас было 125 г хлеба блокадного черно-зеленого оттенка, который казался очень вкусным… В еде мы использовали жмых, дуранду, хряпу, столярный клей, олифу, пареное сено, хвою. Нашим преимуществом перед жителями города было то, что у нас была вода в колодцах и тепло: мы могли пилить любое дерево, ломать любой забор.
Несмотря на голод, на смерть, жизнь не замирала. Домоуправление из нас, таких же голодных и больных, но еще живых, организовало отряды, которые следили за светомаскировкой, чтобы ни в малейшую щель даже от коптилки не проходил свет. Ходили по улицам и домам, собирали покойников, увозили к братской могиле. Такая могила есть в Тарховке. Ходили по домам по нескольку человек, так как одному идти было опасно, наблюдались случаи людоедства. Это было горе без слез. В декабре смертность увеличилась по сравнению с ноябрем, в январе 1942 г. еще больше. Жили надеждой – дожить, продержаться до весны, а там пойдет трава, крапива, витамины, начнем копать огороды, сажать овощи, готовиться к следующей зиме. Любая царапина на теле долго не заживала, болела, гноилась, так как организм был ослаблен, не хватало витаминов. Одна из таких царапин на ноге у меня вызвала рожистое воспаление. Спас меня военный врач морской части, которая стояла в Тарховке.
Прокручиваю время назад и размышляю: «За счет чего я выжила?». Сама же отвечаю: «Спасла организованность, сплоченность, доверие, любовь друг к другу, взаимопомощь». Это вспоминается как светлое пятно. Мы в семье никогда не прятали пайки, не воровали друг у друга. Когда варили какую-нибудь бурду, каждая из нас, дочерей, по ложке отливали от себя маме. Во многих семьях каждый ходил выкупать свой поек, съедая его сразу, общего котла не было. Похлебка «наваристей» из четырех крупинок будет, чем из одной. Такие семьи, где каждый жил на особицу, были обречены на смерть.
Осенью 1942 г. населению Тарховки, Александровской и части Горской было предложено эвакуироваться на Большую землю или в другие районы Ленинграда, менее опасные. Нам предложили Большую землю, так как я была несовершеннолетняя, мы отказались: ехать было не к кому, денег не было, а была надежда – выживем, да и вообще скоро немцев прогоним. Я не слышала, чтобы кто-нибудь сказал, что немцы нас захватят. Не было никакой паники.
Решено было ехать в Парголово – это на другой ветке Выборгского направления, тоже с Финляндского вокзала. Встала проблема: как переехать, где взять транспорт? Договорились с военными, с солдатами, за водку перевезти нас. Командировали меня, как самую «храбрую» на Некрасовский рынок, ближайший от Финляндского вокзала. Смеркалось. Холодно, слякотно. Кто-то что-то меняет, кто-то чем-то торгует. У первого попавшегося продавца купила бутылку водки 0,5 л за 900 руб. Приехала домой, мама только глянула и говорит: «Доченька! Что же ты купила? Это ж вода…». Я глупая, считала, что раз сургучом залито, значит – настоящая водка. Из-за этого мы задержались в Тарховке на целый месяц. На нашей улице мы остались одни, все остальные уехали. Милиция каждый день нас торопила.
Парголово относится к Выборгскому району города Ленинграда. Приютила нас одна старушка в своем ветхом доме. Я по-прежнему не учусь. Работаю на дому от торфопредприятия: шью марлевые мешочки, набиваю бактерицидным мхом, который мы сами привозили с болот. Норма была большая; машинка строчила как пулемет. Эти мешочки отсылались на фронт как перевязочный материал для раненых.
Я поступаю санитаркой в больницу им. К. Маркса. Хотя 18 января 1943 г. блокада была прорвана, немцы продолжали обстреливать и бомбить город. Не раз приходилось работать под обстрелом. Случайно осталась жива при одном обстреле, когда осколок влетел в отделение, где я работала. Часто при обстреле поезда с Финляндского не ходили, а отправлялись со станции Ланская. Приходилось бежать под обстрелом, а сзади где-то свистят снаряды, бухают взрывы. Но почему-то казалось, что со мной ничего не случится, не убьет меня снаряд. Видимо, так думал каждый, – это поддерживало нас.
С 1 сентября 1943 г. я начала учиться во 2-ой Парголовской школе в 7 классе. 27 января 1944 г. блокада была полностью снята. Жизнь продолжалась.
ЦГА УР. Ф. Р-1703. Оп. 1. Д. 25. Л. 17–19об.
«Снаряды рвались на Невском…»
Воспоминания Сродэ Ирины Лазаревны, 1925 года рождения, проживавшей в угловом доме на улице Марата, позднее – на Петровской стороне.
13 июня 1941 г. мне исполнилось 16 лет. Я успела закончить 8 классов. Мама моя работала тогда заведующей поликлиникой и предложила мне работу регистратора. В первые же дни войны в поликлинике был организован стационарный пункт медицинской помощи. Когда начались артобстрелы города, снаряды рвались на Невском проспекте в районе Дома книги и ул. Желябова, у нас появились первые раненые. Я впервые в жизни увидела много крови, принимала участие в приеме, регистрации и оказании первой помощи раненым. Было это в первые дни сентября, еще до начала бомбежек.
Занятия в школе начались 3 ноября 1941 г. Я решила, что мне нужно учиться, и снова пошла в школу, в 9 класс. Но уроки прерывались воздушными тревогами, приходилось спускаться в бомбоубежище, потом снова в класс и так по несколько раз в день. Жить становилось все труднее, и когда папа взял на завод мою сестру, которой было 14 лет, я не могла оставаться в школе и попросила, чтобы и меня он устроил на завод. Это был декабрь 1941 г.
Однако, когда осенью 1942 г. в блокадном Ленинграде были организованы школы рабочей молодежи, такая школа была создана и у нас на заводе, где могли учиться ребята с 5 по 8 классы. Мы, несколько девочек, окончивших 8–9 классов, упросили директора завода организовать 9-й класс, чтобы нам не терять времени. В этом классе нас училось 10 человек. Было очень трудно совмещать работу с учебой, но тем не менее, в июле 1944 г. мы закончили среднюю школу и нас всех отправили с завода учиться в ВУЗы, несмотря на то, что была война […].
Что хочется вспомнить? Что навсегда осталось в памяти? Прежде всего – страшные лунные вечера и ночи в октябре – ноябре 1941 г., когда немцы строго по расписанию методично бомбили город. Ленинград, затемненный, без единого горящего фонаря, лежал в лунном свете как на ладони. И самолеты, которым удавалось прорваться в город, могли бомбить прицельно. Правда, от них страдали в основном жилые дома, а не военные объекты. Когда не было луны, с самолетов сбрасывали «светящиеся бомбы», которые висели как фонари и освещали улицы мертвенным и зеленоватым светом.
Холодные и голодные дни зимы 1941/42 гг. Очереди за хлебом, буржуйка в комнате, но тепло было только около печки, которую топили по вечерам остатками дров.
Воду мы носили с Невы. Мы жили на углу улиц Марата и Боровой. На Боровой прорвало водопровод и текла по льду «река» шириной 30–40 см. В нескольких метрах лед был прорублен пошире и глубже, и там ковшиком можно было черпать воду.
Завод № 186 (после войны «Радист») находился на Петроградской стороне и нужно было ежедневно до него добираться. Папа был на казарменном положении, как начальник группы самозащиты, а мы с сестрой проделывали путь до завода пешком […]. Самое страшное было пройти Марсово поле и Кировский мост. Открытое пространство, крутая скользкая гора моста. Считали, что, если мост преодолели, почти весь путь позади.
Работала я сначала монтажницей, а позже настройщиком переносных радиостанций РБС-3, рации ближней связи в пределах 3 км, которые бойцы-связисты переносили на спине. Зимой 1941–42 гг. часто на заводе не бывало электричества. В такие дни нас, молодежь 14–16 лет, направляли на подвозку воды в столовую, на обследование близлежащих к заводу домов, где в квартирах, как правило, с распахнутыми дверями, лежали беспомощные, а иногда и мертвые люди. Мы носили повестки военкомата и выполняли другую работу. А когда давали энергию, нужно было выполнять план и наверстывать упущенное.
Навсегда останется в памяти месячник по жизни города, который проходил в марте – апреле 1942 г. С каким энтузиазмом мы, стар и млад, убирали горы снега, льда, смерзшихся нечистот на улицах и во дворах Ленинграда. В эти дни уже чаще светило солнце и хотелось, чтобы город блестел в его лучах […].
Пуск первого трамвая, который пошел в апреле по улицам очищенного города.
С начала лета нас периодически стали отправлять на разборку деревянных домов. На Крестовском острове их было много. Разбирали их на дрова. Некоторые дома стояли совсем пустые. Вещи, книги, которые в них оставались, свозили в специальные склады, где все это принимали по описи. И только после этого можно было начинать ломать дома. Все делали вручную. Двух-трехэтажные дома ломали ломами и канатами при помощи «эй ухнем, потянем, потянем» и т.п.
Летом 1942 г. появились огороды. С какой радостью мы грызли свежую редиску, а из бобов варили вкуснейшие щи. Ближе к осени: редька, турнепс, капуста вместе с нарезанными зелеными листьями. Все квасили. Это называлось «хряпа».
В конце июня 1943 г. нам вручали медали «За оборону Ленинграда». В большом монтажном в широком проходе были расставлены стулья, как в зрительном зале и в очень торжественной обстановке проходило это событие. И очень долго после этого медаль, самая для меня дорогая, была приколота и на легком летнем платье, и на рабочей форме.
Самый главный и незабываемый день – 27 января 1944 г. Перед концом смены на заводе нам объявили, что вечером будет важное сообщение. За несколько дней до этого в городе стала слышна канонада, вечерами вдали были видны следы трассирующих снарядов. Мы знали, что идут бои за полное освобождение Ленинграда. И вот наступил этот день. Лучшего места, чем крыша монтажного цеха, откуда когда-то мы сбрасывали зажигалки, не было. Мы забрались туда и с нетерпением ждали. Город был еще погружен в темноту. И вот в 8 часов вечера раздался праздничный салют. Я не помню, сколькими залпами из 324 орудий салютовал Ленинград своим доблестным воинам-победителям, но зрелище это было впечатляющее! Мы кричали от радости и одновременно плакали. И вдруг зажглись уличные фонари! Город в течение двух с половиной лет погруженный во тьму, сверкал всеми своими яркими электрическими огнями. И долго еще царил над городом праздник, гремела музыка, ликовал народ освобожденного от блокады Ленинграда.
Я считала, что мы четверо остались в живых в то страшное время потому, что в нашей семье было четыре рабочих карточки и кроме того, папе не приходилось тратить силы на дальние переходы с завода до дома и обратно. Летом 1942 г. ему предложили перебраться поближе к заводу. Нам предоставили две комнаты в четырехкомнатной квартире по ул. Ленина, недалеко от завода, куда мы переехали.
15.01.98.
ЦГА УР. Ф. Р-1703. Оп. 1. Д. 25. Л. 28–31об.
«Дорогой жизни»
Воспоминания Бабкиной Раисы Константиновны, 14.09.30 года рождения.
Воспоминания о прошлом всегда связаны с радостным чувством или душевной болью пережитого. В нашей семье военного моряка весть о начале войны даже с моей точки зрения одиннадцатилетней девочки не была трагической неожиданностью. Родилась я в легендарной военно-морской крепости-городе Кронштадте. Отец, кадровый офицер, объездил почти все военные базы Северного флота, как говорится, внес свой вклад в укреплении их мощи. Война застала его на Севере. Я с мамой и тремя сестрами были временно до вызова оставлены в городе.
Война была частью нашего быта еще задолго до ее начала. Частые командировки отца, его разговоры шепотом с сослуживцами, ночные вызовы на службу…
Фильмы о войне, пионерские сборы с военной атрибутикой, линейками, отрядами, салютами, рапортами, красными знаменами делали нас соучастниками важного военного строительства в стране. Но с началом настоящей войны наши детские представления разлетелись в прах. В первые месяцы войны, когда еще было тепло и светло, мы все дружно уходили в бомбоубежище. У каждой из нас были определенные обязанности: старшая сестра несла теплые вещи, я вела за руку трехлетнюю сестренку, а в другой руке остатки теплых вещей, мама несла малышку, которой не было еще и года. Надо было все предусмотреть: неизвестно сколько времени мы пробудем в бомбоубежище. Ночью шли мы в кромешной тьме, боялись потерять друг друга.
Непрерывные авиационные налеты, пожары, разрушения, мертвящий страх от взрывов бомб и снарядов, гибель близких людей. Казалось, что все это ненадолго, что вот-вот кончатся наши мучения, что так не может продолжаться долго, еще никто не знал, что нам в действительности предстоит пережить.
Очень быстро наступили холода, пришел настоящий голод. Наша мама утром уходила за хлебом, маленькими кусочками хлеба в 125 г на человека, а мы оставались дома с тоской и надеждой, ожидая ее возвращения. Каждый день надежды на перемены оставалось все меньше и меньше. Во время налетов мы перестали ходить в бомбоубежище, стали меньше разговаривать, а потом совсем замолчали.
В нашей комнате, лишь в одной, появилась «буржуйка» с трубой, выведенной в форточку. Мама раздобыла немного керосина, в маленький флакон вылила керосин и вставила фитиль. Фитилек сильно коптил и очень мало давал света. «Буржуйка» постоянно требовала дров, а тепло не сохраняла. Жгли все, что горело: книги, мебель, двери. Жили в молчании. Младшая сестренка переносила голод и холод молча, не плакала, только смотрела в одну точку потухшим взглядом. После войны я долго не могла понять, почему грудные дети плачут. Моя сестренка молчала.
Ощущение острого голода, который мы испытывали в первые зимние месяцы, прошло. Пришло равнодушие, не хотелось ни есть, ни двигаться. Мама все время тормошила нас. Она боялась, когда мы засыпали, хлопала нас по щекам, говорила, что еще не ночь – спать нельзя. Только потом я поняла, почему она так боялась, когда мы забывались в дреме. Помню свою двоюродную сестру, почти лысую. Она сама вырвала себе волосы на голове и не могла объяснить, зачем это сделала. Нас уже ничто не интересовало. Лишь иногда мы обращали внимание на черную тарелку радио. Оттуда до нас доносился негромкий проникновенный голос – читали стихи. Порой звучала музыка, от которой пробуждалась надежда. Вот и все положительное, что можно вспомнить о бесконечно холодной и исступляюще голодной темной блокадной зиме. Весна принесла перемены. Говорили, что стариков и детей вывезут из города «дорогой жизни» через Ладожское озеро. Стоял апрель 1942 г., когда нас, безразличных ко всему детей, вместе с мамами собрали на площади, усадили в грузовики и, когда начало смеркаться, повезли куда-то. «Не давайте детям спать!» – слышались указания сопровождающих нас.
Спать было нельзя, чтобы не замерзнуть – ночи-то в апреле еще холодные.
Ехали мы бесконечно долго. Машины двигались без огней. Как они находили дорогу, никто не знал. Лед был уже хрупким и ненадежным. Мама потом рассказала, что две машины перед нашей пошли под лед и все погибли.
Наконец, мы приехали. Нас «выгрузили» из машин солдаты. Они бережно брали детей за руки и передавали по цепочке. В помещении было тепло. Нас посадили за столы и начали кормить. Мама уговаривала: «Не ешьте много». Дети не верили, что так может быть, что это не сон и многие не ели. Уж только потом нас трудно было остановить. Дети громко плакали, просили еще и еще есть. Матери плакали вместе с детьми, уговаривая, что больше есть нельзя.
После этого нас погрузили в товарные вагоны «теплушки» и повезли на «Большую землю». Куда? Никто не знал, но знали, что теперь мы выживем. Но беда и здесь нас подстерегала. Мы были настолько истощены, ослаблены, что не справлялись с обилием пищи. Умирали и взрослые, и дети. Сначала умерла младшая сестренка, а через несколько дней – трехлетняя. Мама отдала их трупики из вагона, и мы не знаем, на какой станции они похоронены. Я и старшая сестра – выжили. Постепенно жизнь возвращалась к нам. Мы стали улыбаться, беречь и любить друг друга. Мы жили и были счастливы, но пережитое не забывается и без слез не вспоминается.
Хочется, чтобы наши дети и внуки никогда и не слышали того, что пришлось пережить нам. Но и пусть они помнят об этом.
ЦГА УР. Ф. Р-1703. Оп. 1. Д. 25. Л. 36–38.
Таким образом, перед нами предстают воспоминания о блокаде уже взрослых детей, которым на момент начала блокады исполнилось 11–16 лет. Поэтому даже будучи записанными через много десятилетий, они содержат довольно подробные детали блокадной повседневности. В них говорится о том, что волновало детей в ту пору, что наиболее сильно врезалось в память. Это может оказать существенную помощь в изучении такой категории, как «дети войны», поскольку исследовать ее лишь с позиции взрослых недостаточно.
1 Блокада Ленинграда глазами детей и подростков: социокультурный аспект. СПб., 2019; Дети и блокада. Воспоминания, фрагменты дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы. СПб., 2000; Магаева С.В. Библиография публикаций мемуаров ленинградских блокадников. М., 2013.
2 Королева Нина Александровна. URL: http://fc.gasur.ru/fund/100000678683 (дата обращения: 24.11.2020).
3 Кулик С.В. Уголовный процесс 1945–1946 года над гитлеровскими военными преступниками в Ленинграде в освещении региональной прессы // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2018. № 1. С. 9.
Об авторах
Сергей Николаевич Уваров
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
Автор, ответственный за переписку.
Email: sergey.uvarov@mail.ru
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной истории, социологии и политологии
426069, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Студенческая, 11Список литературы
- Кулик С.В. Уголовный процесс 1945–1946 годов над нацистскими преступниками в Ленинграде в освещении региональной прессы // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2018. № 1. С. 5–13.
- Магаева С.В. Библиография публикаций мемуаров ленинградских блокадников. М.: Совет Московской организации общества ветеранов – жителей блокадного Ленинграда, 2013. 122 с.