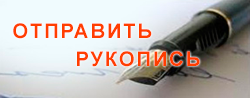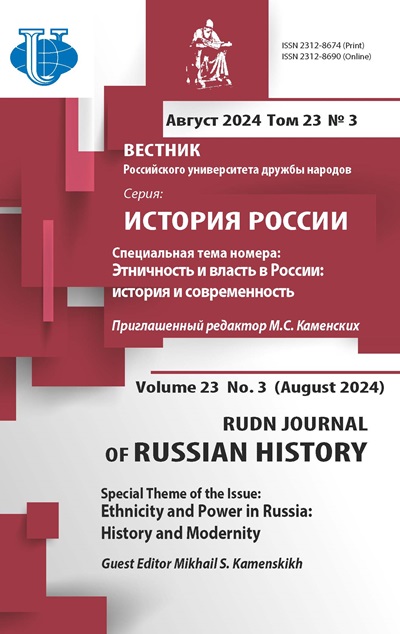«Сталинский руссоцентризм»: интервью с Дэвидом Бранденбергером о втором российском издании его монографии «National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956» (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002. viii, 378 p.)
- Авторы: Бранденбергер Д.1,2
-
Учреждения:
- Ричмондский университет
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 19, № 1 (2020): Жизнь наций СССР в 1920−1950-е гг.
- Страницы: 214-239
- Раздел: НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/22993
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2020-19-1-214-239
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Дэвид Бранденбергер - доктор исторических наук (PhD in History), профессор российской и советской истории кафедры истории Ричмондского университета (США), ассоциированный научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве. Автор книг о формировании русского национального самосознания в сталинскую эпоху, о влиянии на этот процесс партийной пропаганды и массовой культуры. В своем интервью Д. Бранденбергер рассказывает о содержании и научных подходах в освещении темы исследования, которая получила отражение на страницах его первой монографии, вышедшей на английском языке, - «National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956» (Cambridge: Harvard University Press, 2002) и потом в двух российских изданиях - «Национал-большевизм: сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания, 1931-1956 гг.» (СПб.: Академический проект, 2009) и «Сталинский руссоцентризм: Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания, 1931-1956 гг. (M.: РОССПЭН, 2017). Автор делится мыслями о том, как с момента появления первой монографии под влиянием проходивших дискуссий и расширения источниковой базы исследования эволюционировали его взгляды на изучаемую проблему.
Полный текст
Интервью с Дэвидом Бранденбергером о втором российском издании его монографии «National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956» (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002. viii, 378 p.)
— Профессор Бранденбергер, не могли бы Вы в начале интервью рас-сказать немного о себе?
— Я вырос в семье ученых в провинциальной Америке, в районе, который в 1947 году избрал в Конгресс пресловутого противника коммунистов Джозефа Маккарти. Возможно, по этой причине я не могу утверждать, что мой интерес к российской истории и культуре был изначально вызван классикой, например, Ф.М. Достоевским или Л.Н. Толстым. Первоначально я обратил внимание на все русское из-за холодной войны, Рональда Рейгана и Джеймса Бонда из книг Яна Флеминга. Так, я впервые проявил свою зрелую политическую позицию в 1983 году, когда воспротивился тому, что Рейган назвал СССР «империей зла». В то время я заявил отцу, что зло не является аналитической категорией. Хуже того, выбор слов Рейганом представлял собой намеренно подстрекательскую риторику, которая не способствовала взаимопониманию или ослаблению международной напряженности.
Удивленный моими симпатиями левого толка отец подтолкнул меня начать учить русский язык в местном университете, где он преподавал физику, еще когда я учился в старших классах школы. Его совет сыграл поворотную роль в моей жизни. Начав учить русский язык в 1986 или 1987 году, я продолжил его изучать в Макалестерском колледже, где специализировался в истории и написал дипломную работу по историографии средневекового Киева. В 1991 году я учился в Москве и вернулся после колледжа в 1992–1993 годах, чтобы преподавать английский язык в Московском государственном лингвистическом университете (бывший Институт иностранных языков им. Мориса Тореза), одновременно поступив в американскую докторантуру по направлению «история». Вскоре после этого я поступил в Гарвардский университет, где продолжил изучать русский язык, пока писал докторскую диссертацию. В период с 1996 по 1997 годы я провел 15 месяцев в России.
Защитив диссертацию и получив докторскую степень в 1999 году, я работал в Гарварде до 2003 года в качестве лектора и научного сотрудника; затем я устроился на постоянную работу в Ричмондский университет. С тех пор я продолжаю проводить в России ежегодно примерно месяц и в настоящее время являюсь ассоциированным научным сотрудником Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве[1].
— Как Вы решили написать свою первую монографию «Национал-боль-шевизм»?
— Монография «Национал-большевизм» основана на моей докторской диссертации. Корни этого кроются в моем давнем интересе к русской национальной идентичности. В Гарварде во время аспирантуры я провел год у Ричарда Пайпса, изучая русскую интеллектуальную мысль ХVIII и ХIХ веков, и был очарован славянофилами и панславистами. В то же время я работал под руководством Романа Шпорлюка над современной научной литературой о формировании национальной идентичности, как в Восточной Европе, так и в сравнительной перспективе.
Эти исследования оказали на меня большое влияние.
Стремясь написать диссертацию по национальному вопросу, я провел много времени, размышляя о том, как лучше всего применить работы Эрнеста Геллнера, Бенедикта Андерсона, Мирослава Хроха и других к истории русскоязычного общества[2]. Я сопротивлялся совету Р. Пайпса сосредоточиться на русской консервативной мысли ХIХ века. Вместо этого я искал возможность изучать возникновение русской национальной идентичности на низовом уровне, под влиянием идеологии, высокой политики и массовой культуры – к этому подходу подтолкнули работы Рональда Суни, Терри Мартина, Джеймса фон Гельдерна, Ричарда Стайтса и Джеффри Брукса[3]. Изучая широкие массы научной литературы в течение нескольких месяцев, наконец, я наткнулся на малоизвестную статью А.Н. Артизова, нынешнего директора Росархива, о написании ключевого учебника по истории для средней школы сталинской эпохи – «История СССР» А.В. Шестакова 1937 года. Эта статья дала подсказки, которые помогли мне определить точный момент, когда руководство партии начало интерполировать руссоцентричную тематику в государственном образовании, печати и официальной массовой культуре[4].
Исходя из идей Артизова, я начал исследования по моей теме в Москве в 1996–1997 годах и провел много месяцев в бывших партийных и государственных архивах. За это время я также многому научился благодаря совместной работе, которую вел с А.М. Дубровским, когда мы вместе писали статью для британского научного журнала[5]. Эта совместная статья стала первой из моих значительных публикаций на эту тему.
— Каковы главные идеи вашей книги?
— Книга начинается с утверждения, что современное чувство национальной идентичности сформировалось в России позже, чем в других европейских промышленно развитых странах. Будучи конструктивистом, я ссылаюсь на мысль, которая предполагает, что массовое чувство национальной идентичности на низовом уровне является относительно недавним явлением в мировой истории и формируется как побочный продукт массовой политики, популярной прессы, широко распространенной грамотности, почти универсального школьного образования и социальной мобильности. Эта мысль предполагает, что такие институты и общественные явления смогли объединить местнические идентичности на местном и региональном уровне в подлинно национальные только в ХIХ – начале ХХ в.
В случае с Россией я отмечаю, что, хотя интеллектуалы в ХVIII и особенно в ХIХ в. провели много времени, обсуждая вопрос о том, что значит быть русским, они не смогли прийти к консенсусу. Их неспособность ответить на этот важнейший вопрос в сочетании с небольшим энтузиазмом царской империи в отношении демократических общественных движений препятствовали консолидации целостного национального сообщества в России до 1917 года. Даже относительно позднее появление националистической пропаганды, а именно во время Первой мировой войны, не очень сильно активизировало общество вокруг единого представления о том, что значит быть русским.
Если имперское царское правительство мало интересовалось воспитанием массового чувства русской национальной идентичности, то раннее большевистское государство было решительно настроено подавить в обществе то, что оно считало шовинизмом великой державы. Они были заинтересованы в развитии у россиян широкого чувства классовой, а не национальной идентичности[6].
Рассматривая раннее советское «пропагандистское государство», я делю раннюю мобилизационную пропаганду в 1920–1930-х годах на три этапа. На первом этапе – с начала до середины 1920-х годов – большевики пытались сплотить общество для индустриализации и защиты СССР с помощью пропаганды материализма. Эта пропаганда подчеркивала классовые конфликты, безымянные социальные силы и другие марксистские структуры. Пропаганда была предсказуемо схематичной и ориентированной на идеализированные, но общие представления класса. Внимание было обращено на группы главных действующих лиц вместо отдельных героев и на интернационализм, а не национализм или патриотизм. Формирование общности, основанной на едином, последовательном чувстве русскости в то время не поощрялось, поскольку большевики рассматривали такие настроения как пережиток старого режима. Преданные марксисты, большевики вместо этого попытались построить новое сообщество вокруг классовой идентичности и революционного интернационализма.
Я полагаю, что испытание этой новой пропагандистской линии произошло в 1927 году, во время так называемой «военной тревоги» с Великобританией. Думаю, что во время этого дипломатического разрыва с Великобританией советское руководство усилило свою заявку на мобилизацию общества для индустриализации с разговорами о войне и обороне СССР. Но вместо того, чтобы стимулировать поддержку режима со стороны населения, эта «военная тревога» вызвала панику и пораженческие слухи, которые охватили всю страну. По некоторым сведениям, отдельные крестьяне даже с нетерпением ожидали британского вторжения, которое свергнет большевиков и восстановит монархию.
Я полагаю, что этот неудачный ход в десятую годовщину революции 1917 года вынудил партийных идеологов и пропагандистов искать новые способы повышения доступности их схематичной, бескровной, классовой пропаганды. Однако переход к новым формам мобилизации не был быстрым. Между 1927 и началом 1930-х годов, похоже, возникло некоторое недоумение по поводу того, что может быть более эффективным, но не связанным с идеологическими компромиссами. В конце концов, я полагаю, часть ответа пришла не от профессиональных партийных идеологов и пропагандистов, а от журналистов, работавших в молодежных газетах, а затем из центральных партийных газет.
— Так означает ли это переход ко второму этапу советской межвоенной мобилизации?
— Да, именно так. К началу 1930-х годов советские журналисты продемонстрировали работникам отдела ЦК ВКП(б) «Агитпропа», что лучший подход к мобилизационной пропаганде возникнет из возобновленного внимания к индивидуальному героизму[7]. Общий безымянный классовый анализ должен был быть заменен индивидуальными, узнаваемыми героями революции, гражданской войны и социалистического строительства. Эти герои были показаны таким образом, чтобы служить практическими, доступными ролевыми моделями для подражания и восхищения сначала в прессе, а затем постепенно в других формах партийной пропаганды и массовой культуры.
К 1934 году ярые отдельные личности доминировали в том, что я называю вторым этапом советской мобилизационной пропаганды. Этот новый акцент на динамических ролевых моделях и героях был дополнен новым акцентом на патриотизме. Патриотизм в 1920-х годах был отвергнут как буржуазный суррогат – то, что капиталистический мир использовал в качестве маскирующей идеологии, чтобы отвлечь рабочих от их классовых интересов. Однако в начале 1930-х годов, когда возрождается индивидуальный героизм, мы также видим нерешительную реабилитацию идеи патриотизма, теперь называемого «советским патриотизмом». В 1931 году Сталин утверждал, что, если Маркс был прав в 1848 году, заявляя, что у рабочих не было отечества, ситуация в СССР изменилась с 1917 года, когда появилось такое понятие, как отечество рабочих. Патриотизм, следовательно, был оправданной эмоцией пролетариата по отношению к СССР.
По моему мнению, примерно в 1935–1936 годах второй этап советской мобилизационной пропаганды оказался гораздо более эффективным и доступным, чем первый. Новый материал, касающийся героизма и патриотизма, основанный на конкретном материале революции, гражданской войны и социалистического строительства, впервые обрел настоящий резонанс в обществе[8].
— Так какой же была третья фаза советской межвоенной мобилизации?
— Третья фаза межвоенной мобилизационной пропаганды – это то, что я дати-рую второй половиной 1936 г. – началом «Большого террора». Хорошо известно, что чистки оказали разрушительное воздействие на партию, вооруженные силы, интеллигенцию и так далее. Я полагаю, что волны чисток между 1936–1938 гг. также подрывали новую мобилизационную пропаганду, сосредоточенную на героях и патриотизме, поскольку эта охота на ведьм выставила многих известных людей и героев для подражания врагами народа.
По мере того, как «чистки» уничтожали новых героев и патриотов, советские пропагандисты были вынуждены запрещать фильмы, театральные постановки и книги, прославляющие их. Это значительно ослабило пропагандистскую линию. Были предприняты попытки переснять фильмы, переделать картины и переписать книги9. Но это был непредсказуемый процесс, поскольку террор происходил волнами, а не сразу. Книга или фильм, переделанный сегодня, возможно, снова пригодился бы завтра.
В конце концов, партийные пропагандисты во главе со Сталиным были вынуждены отступить от своего нового акцента на героях и патриотизме в партийной пропаганде и вернуться к бескровному схематизму и безымянным социальным силам 1920-х годов. Это наиболее очевидно при введении знаменитого «Краткого курса» по истории партии, выпущенного в 1938 г.10 Сталин пытался оправдать этот новый акцент на схематизме и безымянных социальных силах во время выпуска «Краткого курса», утверждая, что рядовой член партии и руководитель должны лучше понимать марксистскую теорию, и что поэтому история партии должна основываться на более ортодоксальном марксизме-ленинизме11.
В то же время, когда Сталин пытался перенаправить хорошо образованных членов партии в сторону марксистской теории, он направлял пропагандистов и педагогов, работавших в обществе, искать в дореволюционном прошлом новые источники влияния и легитимности. Прежний упор на классику в литературе и искусстве (как предшественника соцреализма) теперь сопровождался реабилитацией политических и военных деятелей дореволюционного периода. Такие исторические личности, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный и Петр Великий, были возрождены в качестве примеров прогрессивных лидеров, и приветствовали их поддержку централизации государственной власти. Также внимание обратили на Александра Суворова и Михаила Кутузова, чтобы признать их предшественниками советской воинской гордости.
Я полагаю, что это знаменует собой третий этап советской мобилизационной пропаганды – консервативность партийной линии и ее замена множеством мобилизационных требований, ориентированных на российское национальное прошлое.
Можно также отметить и другие мобилизационные меры того периода, в частности, постоянное усиление партийным руководством культа личности Сталина.
На данном этапе следует упомянуть, что эта новая историческая линия была официально названа «Историей народов СССР» и теоретически включала в себя дореволюционные истории других нерусских народов в новом великом повествовании. В практическом плане, однако, в межвоенные годы эти намерения были в значительной степени неосуществленными. Одной из причин этого были чистки, которые затрудняли написание истории нерусских республик без обвинений в «буржуазном национализме». Но не менее важным является неизбежный вывод о том, что развитие этих вспомогательных нарративов не было приоритетным. Действительно, единственные нерусские герои, которые привлекли общественное внимание в довоенный период – те, которые касались Украины и Белоруссии – обсуждались в печати только тогда, когда аннексия польских территорий в 1939 году требовала исторического оправдания[12] .
После обзора этого значительного руссоцентричного сдвига в мобилизационной пропаганде между 1917–1937 гг. в первых трех главах книги в следующих четырех главах исследуется, как эта новая пропагандистская линия популяризировалась в школах и массовой культуре и воспринималась в советском обществе. Такой подход выдвигает на первый план сложности, связанные не только с формулированием мобилизационной пропаганды, но и с ее распространением на общественном уровне, а также с ее восприятием на низовом уровне.
Поскольку эта динамика претерпела изменения в 1941 году, вскоре после начала Второй мировой войны, с восьмой по одиннадцатую главы книги прослеживают контуры мобилизационной пропаганды партии до 1945 года. В свою очередь, с двенадцатой по шестнадцатую главы отслеживают эти процессы до середины 1950-х годов.
— Каким образом появление и траектория этой формы мобилизационной пропаганды говорят об официальном руссоцентризме при Сталине?
— Хороший вопрос. Мое исследование политики массовой мобилизации в советском обществе в период с конца 1920-х до середины 1950-х годов показывает, что использование русских национальных героев, легенд и мифов в это время носило в основном прагматический и этатистский характер. Это была попытка дополнить скрытые и недоступные аспекты марксизма-ленинизма популистской риторикой, призванной укрепить легитимность советского государства и способствовать распространению в обществе чувства преданности СССР.
Стоит отметить два момента, касающихся намерения и замысла этой официальной руссоцентричной линии. Во-первых, обращение Сталина к русским историческим героям и символам было далеко не неизбежным, и его следует рассматривать как побочный продукт исторического обстоятельства, вызванного провалом радикальной «советской» пропаганды во время чисток. Во-вторых, даже всеобъемлющий руссоцентризм после 1937 года не следует путать с официальной поддержкой российского государственного или национального строительства, не говоря уж о национализме, поскольку всем трем потребовалась бы определенная институциональная, политическая и культурная автономия, которую большевики и не намеревались предоставить русскому народу.
Вместо этого руссоцентризм сталинской эпохи следует рассматривать как инструментальный и популистский по замыслу шаг, предназначенный для мобилизации, а не для предоставления прав. В конце концов, становится очевидным, что речь шла не о создании независимой институциональной идентичности для РСФСР, отдельной от идентичности СССР[13]. Это разочарование построением российского государства было отражено в позиции партии по построению русской нации. Хотя огромное количество героев, символов и мифов, связанных с русским национальным прошлым, было возрождено после 1937 года, эти усилия были выборочными и осторожными, они были направлены на то, чтобы поддержать советское настоящее, а не стимулировать независимое историческое исследование русского национального прошлого. Царская централизация и построение империи были представлены как необходимые предшественники построения советского государства, в то время как лидеры от Ивана Грозного до Петра Великого использовались, чтобы оправдать предпочтение партией харизматичного единоличного правления. Давние тревоги послужили основой для новых опасений 1930-х годов – будь то «справедливое» подавление Опричниной внутренних врагов или оборонительная борьба Александра Невского против вторжения тевтонских рыцарей. Дореволюционные победы на поле битвы, а также в науке и искусстве предоставили военачальникам, художникам и мыслителям советской эпохи своего рода историческую родословную.
Согласно квазимарксистской парадигме, которая управляла этим ревизионизмом, все данные исторические личности, слава и достижения были прогрессивными в свои исторические периоды и, таким образом, теперь могли быть реабилитированы, чтобы проиллюстрировать, объяснить и оправдать аналогично прогрессивные аспекты советского государства и общества. Как я отмечал выше, это были риторические заявки на мобилизацию, а не на предоставление прав или национализацию.
— Но, если целью было укрепление влияния и легитимности государ-ства, зачем реабилитировать героев, символы, легенды и мифы, которые идентифицировались в основном с русскими, а не были взяты из истории народов СССР в более широком смысле?
— Отличный вопрос. Эта идеалистическая связь с русским национальным прошлым лучше всего понимается как функция особого отношения Сталина к русскому народу в целом. Хотя Сталин был известен своим превознесением русского народа, он не был русским националистом и всегда выступал против всех усилий по продвижению российского самоуправления. Вместо этого Сталин считал русских «государствообразующим народом», который объединял общество и был «первым среди равных» и «старшим братом» в советской семье наций. По мнению Сталина, русская культура, история и демографическая мощь имели уникальную способность укреплять влияние и легитимность советского государства гораздо больше, чем более специфическая национальная идентичность украинцев, армян, грузин, казахов и т. д. [14]
— Какова же тогда связь между сталинским руссоцентризмом и форми-рованием современного чувства русской национальной идентичности среди русскоязычных на массовом уровне общества?
— Эта проблема связана с тем, что я довольно нескромно называю вторым крупным вкладом моей книги. Я полагаю, что, несмотря на тот факт, что Сталин использовал в СССР русское национальное прошлое исключительно во имя мобилизации масс, эта руссоцентричная пропаганда имела непредсказуемый, непреднамеренный эффект в русскоязычном обществе на низовом уровне. Проводя свое исследование, я обнаружил, что письма, дневники, сводки правоохранительных органов и послевоенные интервью с советскими перебежчиками на Западе показывают, что многие русские в советском обществе охотно воспринимали восхваление Сталиным русскости и русского национального прошлого, не связывая эти вопросы с более широкой темой настоящего или будущего Советского Союза.
Действительно, многие отделяли любимых русских героев, мифы и легенды от более схематичных, марксистско-ленинских ценностей и принципов, с которыми они были связаны. Этот избирательный прием и усвоение руссоцентричной пропаганды и образов в сталинскую эпоху означали, что к 1953 году русские стали обладать гораздо более последовательным и четким представлением о том, кем они были по национальности, чем о том, что они имели до 1937 года.
Иными словами, попытка партии укрепить влияние и легитимность советского государства путем избирательной кооптации русских героев, мифов и легенд привела к тому, чего Сталин никак не ожидал: к формированию массового чувства русского национального самосознания, более или менее независимого от советских социалистических атрибутов. Таким образом, хотя появление этого чувства национальной идентичности связано с одной из величайших пропагандистских кампаний середины ХХ века, его также следует рассматривать как непреднамеренный и даже случайный побочный эффект популистского заигрывания Генерального секретаря с мобилизационным потенциалом русского национального прошлого.
— Какова методология вашего исследования?
— Поскольку меня интересуют вопросы, касающиеся групповой идентич-ности и общественного мнения, я полагаю, что изучение мобилизационной пропаганды требует не только сосредоточения внимания на создании официальной линии наверху. Тщательное исследование пропаганды требует внимания к структуре, стоящей не только за ее созданием и производством, но также и акцентом на его проецировании и распространении в обществе. Это потому, что нельзя просто предполагать, что послания сверху эффективно передаются обществу внизу, не распространяя их в учебных заведениях, прессе и массовой культуре.
Я полагаю, что также необходимо взглянуть на массовое восприятие этой мобилизационной пропаганды. Аудитория непостоянна и капризна и часто избирательно запоминает или неправильно понимает то, что слышит от властей. Поэтому вместо того, чтобы предполагать, что официальная линия эффективно передается на массовый уровень, я фактически отслеживаю восприятие этой линии, используя письма, дневники, мемуары, сводки правоохранительных органов и другие источники, указывающие на общественное мнение. Это, на мой взгляд, дает наилучшие данные об общественном восприятии официальной пропаганды.
Конечно, необходимо с самого начала признать, что мои изыскания в этом исследовании общественного мнения, безусловно, являются скромными – я лишь даю некоторое представление о том, как советское население реагировало на официальную мобилизационную пропаганду. В наше время люди привыкли к современным опросам общественного мнения, которые предоставляют огромные объемы данных, сопоставленных по строгой методологии социальных наук по всем видам предметов и сегментированных по нации, классу, образованию, профессии и т. д. Конечно, невозможно получить такие данные за 1930-е годы по СССР или любой другой части света. Тем не менее, я полагаю, что в исследованиях мобилизационной пропаганды по-прежнему важно попытаться оценить общественное восприятие, даже если результаты безусловно ограничены или фрагментарны[15]. Я считаю, что некоторое представление об общественном мнении можно получить, если использовать письма, дневники, мемуары и отчеты партии и секретной полиции, и если добросовестно сверить эти источники друг с другом, чтобы уменьшить проблемы, которые представляет каждый жанр.
Опять же, я признаю ограничения этого подхода и тот факт, что лучшее, на что можно рассчитывать, это лишь некоторое представление о мнении. Тем не менее, я полагаю, что это намного превосходит чисто умозрительные подходы к изучению официальной пропаганды и восприятия ее общественностью.
— Как, по Вашему мнению, первоначальные аргументы в книге «На-ционал-большевизм» изменились в период с 2002 по 2017 годы, когда книга была переиздана под названием «Сталинский руссоцентризм»?
— Во время пересмотра русских изданий 2009 и 2017 годов я внес много небольших редакционных изменений, чтобы улучшить содержание монографии и язык, на котором она была написана[16]. Я также обновил текст, чтобы привести его в соответствие с новыми научными работами, появившимися в последние годы. Это была задача, которой я откровенно боялся, особенно в отношении издания 2017 года, поскольку я ожидал, что, переиздав книгу, я найду множество ошибок или устаревших взглядов, которые мне нужно будет скорректировать или переписать, чтобы отразить новые достижения в этой области. Вместо этого я обнаружил, что, кроме рутинной правки, мне не было необходимо изменять какие-либо основные элементы книги. К моему удивлению большая часть литературы по этому вопросу, опубликованной в последнее десятилетие на английском, русском, немецком и французском языках, либо следует аргументам, которые я первоначально разработал в 1990-х годах, либо выдвигает положения, полностью соответствующие моим открытиям. Я доволен положительным резонансом, который моя работа вызвала в научных кругах; комментаторы и журналисты не всегда были настолько добры[17].
Когда в 2009 году появилось первое русское издание, в нем содержалась новая глава, в которой я связал контуры руссоцентризма с чисткой третьей по величине партийной организации в СССР в 1949 году – так называемое «Ленинградское дело».[18] В этой главе я утверждаю, что, хотя существует ряд факторов, объясняющих репрессии А.А. Кузнецова, Н.А. Вознесенского, П.С. Попкова, М.И. Родионова и других видных партийных деятелей, их судьба частично объясняется ошибками, допущенными в послевоенном руссоцентризме. Оказывается, что Кузнецов и его соратники неправильно поняли мобилизационную пропаганду как поощрение множества националистических проектов, направленных на расширение институционального суверенитета РСФСР (включая создание республиканского уровня российской коммунистической партии и перенос столицы республики в Ленинград). Сталин, конечно же, не собирался поддерживать русский национализм, суверенитет или самоуправление и репрессировал ленинградцев, чтобы предотвратить любые институциональные вызовы СССР.
Благодаря появлению первого русского издания также была исправлена большая ошибка, обнаруженная в английском издании книги. В оригинальной книге 2002 года я приписал А.А. Жданову значительную часть редактирования «Истории СССР» Шестакова 1937 года. Я сделал это потому, что в конце 1990-х годов нашел значительно отредактированную копию текста Шестакова в фонде Жданова в бывшем Центральном партийном архиве и тщетно искал что-то похожее в фонде Сталина. Я ничего не нашел в данном фонде и пришел к выводу, что Сталин, наверное, поручил Жданову курировать работу Шестакова и редактировать его текст. К сожалению, после того, как английское издание уже находилось в печати в 2000–2001 годах, я узнал, что еще несколько экземпляров текста Шестакова были найдены в недавно рассекреченной 11-й описи Сталинского фонда. Последующий анализ показал, что большая часть редактирования Жданова проистекала непосредственно из личной работы Сталина над учебником – это заставило меня внести ряд важных изменений в тексте 2009 года.
Во втором русском издании книги в 2017 году я добавил еще одну новую главу об инакомыслии, высказанном в 1937–1939 годах, о появившейся руссоцентричной линии. Эта глава, основанная на статье, опубликованной в журнале «Критика», продемонстрировала, что представители советской творческой интеллигенции решительно возражали против новой мобилизационной пропаганды партии, поскольку она противоречила их моральной приверженности революции и интернационализму[19]. Я также внес ряд изменений в новое издание книги в части описания «Ленинградского дела», в соответствии с эволюцией моих взглядов спустя десятилетие с начала работы над темой.
— Чем можно объяснить изменение названия с «Национал-большевизма» на «Сталинский руссоцентризм»? Было ли это сделано по просьбе РОССПЭН?
— Хороший вопрос. Решение изменить название книги было полностью моим. Позвольте мне объяснить. В английском языке термин «Национал-большевизм» является броским и провокационным. Данный заголовок отражал содержание моей диссертации о марксистской, социалистической природе мобилизационной пропаганды сталинской эпохи, в то же время отличая руссоцентризм от чего-то более подлинно националистического. Широкая аудитория прочитала книгу на английском языке и сочла этот термин полезным и информативным.
Однако русскоязычная аудитория посчитала термин «национал-большевизм» сбивающим с толку и возражала против его заимствования у предыдущих авторов, таких, как Н.В. Устрялов, М.Н. Рютин и М.С. Агурский. Некоторые специалисты также сочли, что «национал-большевизм» трудно отличить от «национал-коммунизма», который практиковался в 1920-х годах, например, в Украине и Белоруссии. Другие посчитали этот термин излишне провокационным, возможно, в связи со спорным «национал-большевистским» движением, возглавляемым Э.В. Лимоновым в период с 1992 по 2007 годы.
Обеспокоенный тем, что подобное название на русском языке сбивает с толку, я переименовал книгу во втором издании, чтобы преподнести ее на основании моего неологизма «руссоцентризм». Возможно, этот термин даже лучше, чем прежний. Он отражает ключевые элементы моего тезиса, в то же время отличая мобилизационную пропаганду сталинской эпохи от более подлинной националистической агитации. Я надеюсь, что термин «руссоцентризм» в конечном итоге приживется в российском академическом дискурсе также, как и в английском за последние 15 лет.
— Какое влияние оказывает, по Вашему мнению, «Национал-больше-визм» / «Сталинский руссоцентризм» на господствующую в историографии точку зрения о Сталине и сталинизме?
— В моем исследовании Сталин предстает значительно менее дальновид-ным как историческая фигура, по сравнению с тем, как его часто описывают в литературе. Заинтересованный в идеологической обработке и мобилизации масс, Сталин изо всех сил пытался сформулировать четкое видение того, как его работники Агитпропа должны были завоевать советские сердца и умы в обществе 1930-х годов, особенно среди его менее образованных граждан. Агитпроп как институт тоже выглядит удивительно неумелым, когда стоит у руля того, что часто называют первым в мире «пропагандистским государством». Это тема, которую я выделяю во второй книге – «Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор, 1927–1941»[20].
В конце концов, «Национал-большевизм» / «Сталинский руссоцентризм» представляет собой совершенно непредопределенную историю сталинской мобилизационной пропаганды с начала 1930-х годов до середины 1950-х годов, когда официальное использование руссоцентричной, а не националистической мобилизационной пропаганды привело к непреднамеренным последствиям ускоренного формирования массового чувства русской идентичности среди русскоязычных в советском обществе.
1 Brandenberger D. The ‘Short Course’ to Modernity: Stalinist History Textbooks, Mass Culture and the Formation of Popular Russian National Identity, 1934–1956. Harvard, 1999.
2 Gellner E. Nations and Nationalism. Ithaca, 1983; Anderson B. Imagined Communities: Refl ections on the Spread of Nationalism. New York, 1991; Hroch M. The Social Preconditions for a Rational Revival in Europe: A Comparative Analysis of the National Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations. Cambridge, 1985; Hroch M. From National Movement to the Fully-formed Nation: The Nation-building Process in Europe // Mapping the Nation. New York; London, 1996. P. 78–97.
3 Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993; Martin T. The Affi rmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, 2001; Geldern J. von, Stites R. Mass Culture in Soviet Russia. Bloomington, 1995; Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Evanston, 2003.
4 Артизов А.Н. В угоду взглядам вождя. Конкурс 1936 г. на учебник по истории СССР // Кентавр. 1991. № 1. С. 125–135; Шестаков А.В. История СССР: Краткий курс. М., 1937.
5 Brandenberger D.L., Dubrovsky A.M. ‘The People Need a Tsar’: The Emergence of National Bolshevism as Stalinist Ideology, 1931–1941 // Europe Asia Studies. 1998. Vol. 50. № 5. P. 873–892.
6 Программы коренизации, конечно, не распространялись на русскоязычное общество.
7 Здесь я согласен с выводами коллеги. См.: Lenoe M. Closer to the Masses Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers. Cambridge, 2004.
8 Я изучаю общественное восприятие советской мобилизационной пропаганды 1930-х годов с помощью писем, дневников, мемуаров, сводок органов госбезопасности, а также популярных в то время художественных произведений – романов, пьес, опер и фильмов – в моей второй монографии Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination and Terror under Stalin, 1928–1941. New Haven, 2011 (Ее российское издание: Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа. Пропаганда, политпросвещение и террор, 1927–1941. М., 2017).
9 King D. The Commissar Vanishes: The Falsifi cation of Photographs and Art in Stalin’s Russia. New York, 1997.
10 История ВКП (б): Краткий курс. М., 1938.
11 Brandenberger D., Zelenov M. Stalin’s Master Narrative: A Critical Edition of the Short Course on the History of the Communist Party (Bolsheviks). New Haven, 2019.
12 Хотя некоторые историки утверждают, что в период между 1939 и 1941 гг. статус украинцев и белорусов также был повышен до статуса «великих народов», это, по-видимому, является частью кампании по оправданию советизации восточной Польши, а не независимой идеологической инициативой повысить статус украинского или белорусского народов как таковых. Мало того, что время проведения кампании указывает непосредственно на раздел Польши в 1939 г., исторические события, которые получили наибольшую огласку (например, 1654 г., Богдан Хмельницкий и польское иго), являются слишком удобными, чтобы быть просто совпадением. Конечно, вне зависимости от причин продвижения «великого украинского народа» и «великого белорусского народа» между 1939 и 1941 гг., эти события следует рассматривать как полностью совместимые с официальным определением русского народа как «первого среди равных». См. в связи с этим: Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto, 2004. P. 21–26; Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton, 2001. P. 351–352.
13 Важно отметить, что руссоцентризм после 1937 года не устранил глубокого институционального дисбаланса, который лежал в основе советской системы. Как известно, РСФСР изначально была включена в состав СССР без бюрократических институтов, подобных тем, которые были созданы в Украине, в Закавказье или других союзных республиках. Это отрицание отдельной партийной организации, центрального комитета, академии наук и т. д. было преднамеренной стратегией ограничения русского влияния в советском обществе в начале 1920-х годов. Что характерно, этот дисбаланс сохранился после 1937 года, несмотря на официальное выделение русской нации как «первой среди равных».
14 Ree E. van. Heroes and Merchants: Stalin’s Understanding of National Character // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. № 1. P. 41–65.
15 Здесь я не согласен с критикой по поводу возможности характеризовать общественное восприятие мобилизационной пропаганды при Сталине. См.: Менковский В. Рецензия на «Кризис сталинского агитпропа» // Ab Imperio. 2018. № 4. P. 380–389.
16 К.А. Больдовский, А.С. Конохова, А.М. Дубровский и другие поучаствовали в редакции перевода.
17 Беляков С. Нация ex nihilo // Новый мир. 2010. № 10. С. 194–199; Политдруг Е. Русских придумал Сталин // Спутник и погром [сайт]. URL: https://sputnikipogrom.com/society/14545/madeby-stalin/ (дата обращения: 01.10.2019).
18 Brandenberger D. Stalin, the Leningrad Aff air, and the Limits of Postwar Russocentrism // Russian Review. 2004. Vol. 63. № 2. P. 241–255.
19 Brandenberger D. “Simplistic, Pseudo-Socialist Racism”: Ideological Debates Over the Direction of Soviet Socialism within Stalin’s Creative Intelligentsia, 1936–1939 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. № 2. P. 365–393.
20 Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination and Terror under Stalin, 1928–1941. New Haven, 2011; Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор, 1927–1941. М., 2017.
Об авторах
Дэвид Бранденбергер
Ричмондский университет; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: rushistj@rudn.ru
доктор исторических наук (PhD in History), профессор российской и советской истории кафедры истории Ричмондского университета (США); исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия).
Список литературы
- Артизов А.Н. В угоду взглядам вождя. Конкурс 1936 г. на учебник по истории СССР // Кентавр. 1991. № 1. С. 125-135.
- Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор, 1927-1941. М.: Политическая энциклопедия, 2017. 367 с.
- Менковский В. Рецензия на «Кризис сталинского агитпропа» // Ab Imperio. 2018. № 4. P. 380-389.
- Шестаков А.В. История СССР: Краткий курс. М.: Государственное учебно-педагогическое издание, 1937. 223 с.
- Anderson B. Imagined Communities: Refl ections on the Spread of Nationalism. New York: Verso, 1991. 290 p.
- Brandenberger D. “The ‘Short Course’ to Modernity: Stalinist History Textbooks, Mass Culture and the Formation of Popular Russian National Identity, 1934-1956.” PhD diss., Harvard University, 1999. 310 p.
- Brandenberger D.L., Dubrovsky A.M. ‘The People Need a Tsar’: The Emergence of National Bolshevism as Stalinist Ideology, 1931-1941 // Europe Asia Studies. 1998. Vol. 50. № 5. P. 873-892.
- Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination and Terror under Stalin, 1928-1941. New Haven: Yale University Press, 2011. 357 p.
- Brandenberger D., Zelenov M. Stalin’s Master Narrative: A Critical Edition of the Short Course on the History of the Communist Party (Bolsheviks). New Haven: Yale University Press, 2019. 744 p.
- Brandenberger D. Stalin, the Leningrad Aff air, and the Limits of Postwar Russocentrism // Russian Review. 2004. Vol. 63. № 2. P. 241-255.
- Brandenberger D. ‘Simplistic, Pseudo-Socialist Racism’: Ideological Debates Over the Direction of Soviet Socialism within Stalin’s Creative Intelligentsia, 1936-1939 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. № 2. P. 365-393.
- Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917. Evanston: Northwestern University Press, 2003. 330 p.
- Gellner E. Nations and Nationalism. Ithaca, 1983;
- Geldern J. von, Stites R. Mass Culture in Soviet Russia. Bloomington: Indiana University Press, 1995. 544 p.
- Hroch M. The Social Preconditions for a National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the National Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 220 p.
- Hroch M. From National Movement to the Fully-Formed Nation: The Nation-building Process in Europe // Mapping the Nation. New York; London: Verso, 1996. P. 78-97.
- King D. The Commissar Vanishes: The Falsifi cation of Photographs and Art in Stalin’s Russia. New York: Henry Holt and Company, 1997. 192 p.
- Lenoe M. Closer to the Masses Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers. Cambridge: Harvard University Press, 2004. 315 p.
- Martin T. The Affi rmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001. 496 p.
- Ree E. van. Heroes and Merchants: Stalin’s Understanding of National Character // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. № 1. P. 41-65.
- Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford: Stanford University Press, 1993. 200 p.
- Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2001. 416 p.
- Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto: University of Toronto, 2004. 230 p.
Дополнительные файлы