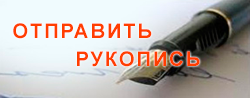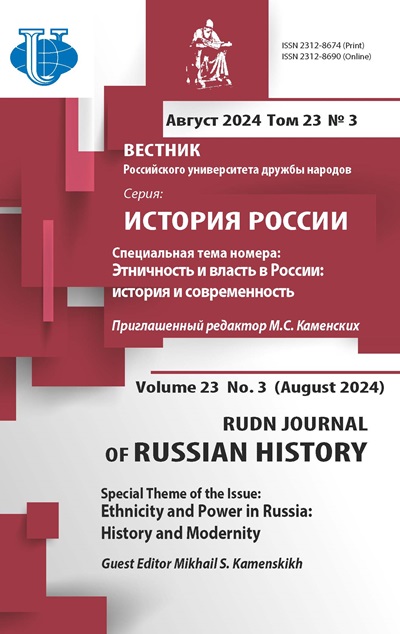Культурное разнообразие и межвоенная конъюнктура: советская национальная политика в сравнительном контексте
- Авторы: Блитстейн П.A.1
-
Учреждения:
- Университет Лоренс
- Выпуск: Том 19, № 1 (2020): Жизнь наций СССР в 1920−1950-е гг.
- Страницы: 16-46
- Раздел: ЖИЗНЬ НАЦИЙ СССР В 1920−1950Е ГГ.
- URL: https://journals.rudn.ru/russian-history/article/view/22983
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2020-19-1-16-46
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Советская национальная политика была одним из нескольких политических ответов на культурное разнообразие СССР в межвоенный период. Автор рассматривает эту политику в сравнительном контексте, противопоставляя Советский Союз его восточноевропейским соседям и британскому и французскому правлению в Африке. В отличие от национализаторской политики новых государств Восточной Европы, которые стремились к национальному единству за счет этнических меньшинств, советская национальная политика изначально была основана на практике дифференциации. В отличие от колониальной политики Великобритании и Франции, которая основывалась на этнической и расовой дифференциации, советская национальная политика была направлена на объединение всех народов в единое государство. Автор приходит к выводу о том, что во второй половине 1930-х гг. советская национальная политика приняла характер, схожий с политикой, проводимой в странах Восточной Европы, но без полного отказа от политики этнической дифференциации, что свидетельствует об уникальной специфике советского подхода к вопросам межнациональных отношений, соединявшего в себе противоречивые практики национализации и дифференциации.
Полный текст
Введение
«Эмир облачен в пышное расшитое одеяние из белого хлопка, покрытое голубовато-серым плащом с алой подкладкой. Его тюрбан цвета индиго, сверкающий чеканным золотом, обмотан толстыми складками вокруг головы и шеи и завязан в узел – прерогатива его происхождения». Так Марджери Перхам, профессор Оксфорда и эксперт по местному управлению в британской колониальной Африке, описала эмира Кано из Северной Нигерии в своей книге «Местное управление в Нигерии», опубликованной в 1937 г.[1] Ее восторженное описание мусульманского африканского правителя было характерно для британской колониальной политики в межвоенный период, когда принципы «непрямого управления» укрепили и узаконили власть африканских доколониальных элит. Перхам чествует эмира как аристократа; ее признание унаследованной им «прерогативы» свидетельствует об уважении и восхищении. Сопоставьте ее описание эмира со следующим замечанием представителя узбекского комитета комсомола на пятом пленуме ЦК ВЛКСМ через год, в феврале 1938 г.: «…Наши комсомольцы носят национальные костюмы, халаты. Это господствует, а я считаю, что это неверно. Это не верно. Мы не против национальной формы. Наша партия это поддерживает. Мы большевики склонны к тому, что наша молодежь должна развиваться наравне с общей мировой социалистической культурой. Иногда приезжают из кишлаков секретари райкомов комсомола в халатах, в чалмах и в тюбетейках… Говорят, что это национальный костюм. Штаны носят из 10 метров мануфактуры и 4 платка (смех). Куда это годится, товарищи? Это культивируют враги, национал-фашистские элементы…»[2].
Партийный пленум, состоявшийся в разгар Большого террора, был созван для рассмотрения работы комсомольских организаций в национальных республиках и областях. В комментарии вызывает удивление то, как традиционная одежда может стать маркером для «врагов и национал-фашистов». В конце концов, советская национальная политика утверждала, что поддерживает культуру, которая была «национальной по форме и социалистической по содержанию». Конечно, одежда была такой формой. В конце 1930-х гг. в Москве появились фольклорно-танцевальные ансамбли, проводились декады, посвященные национальным культурам – одним словом этно-китч, благодаря которому СССР приобрел еще большую популярность[3]. Даже Иосифа Сталина фотографировали в «традиционном» нерусском национальном наряде[4]. Что могло быть плохого в том, что узбекские комсомольцы его носят? И что они должны были носить вместо этого?
По мнению Перхам, одежда эмира свидетельствовала о его статусе традиционного правителя. С точки зрения узбекского функционера, одежда маскировала «врагов» и национал-фашистов и тем самым сигнализировала о сопротивлении советской действительности. В обоих случаях одежда передавала культурную идентичность и служила метафорой политического сообщества[5]. В данной статье я исследую через сравнение подобные альтернативы. Моя цель – понять самобытность советского подхода к управлению и преобразованию разнообразных в культурном плане групп населения. Как полагает Стивен Коткин, «только с помощью сравнений можно в полной мере оценить специфику Советского Союза»; «чтобы оценить советские нововведения» в национальной политике, «нужно оценить не только французскую и британскую переформатированные империи, но и различные конкурирующие подходы к политическому сообществу, которые были приняты в других странах»[6].
После распада СССР наиболее распространенным сравнительным подходом было сравнение СССР с другими территориально смежными многонациональными империями прошлого, такими как Габсбургская, Османская империи и империя Романовых[7]. Несомненно, что этот подход может дать представление об общих политических проблемах, с которыми сталкиваются разные крупные государства в наше время. Но у него есть и свои недостатки. Во-первых, диахроническое сравнение порождает то, что Теда Скокпол называет дилеммой «мирового времени», т. е. очевидным является тот факт, что люди, живущие в более поздние времена, учатся на опыте своих предшественников и реагируют на него[8]. Диахронические сравнения не всегда адекватно учитывают изменения в проблемах, с которыми сталкиваются исторические субъекты, и в решениях, которые они выбирают. Во-вторых, сравнение СССР, в первую очередь, с его многонациональными имперскими предшественниками предполагает, что СССР был такой же империей, как и они, – утверждение, которое должно быть продемонстрировано, а не просто заявлено. По этим причинам более продуктивным подходом может быть выявление и исследование синхронических явлений, которые не предполагают сходства и различия между СССР и другими государствами, а, скорее, находят их через сравнение. Это означает выбор важного момента времени[9]. С точки зрения Ст. Коткина, «межвоенная обстановка» – это такой момент, когда последствия массовой политики, вызванные Первой мировой войной, заставили власти рассмотреть альтернативные модели управления культурным разнообразием в современных условиях[10].
Советская национальная политика, действительно, была своеобразным ответом на эти новые условия. Ее принципы включали в себя создание национальных административно-территориальных единиц (республик), подготовку и продвижение кадров коренных, нерусских народов, а также использование их языков в управлении и образовании (что в совокупности было названо коренизацией). Кроме того, партийное государство развивало культуру многочисленных этнических групп страны[11]. Советская коренизация повлекла за собой идентификацию, ограничение и в некоторых случаях создание этнических общностей, которые затем были включены в собственные «местные» административные единицы[12]. Идея заключалась в том, что нерусские народы были готовы принять советскую власть, если эту власть представляли известные люди, говорившие на родном с ними языке. Иная территория нуждалась в иных правителях или, по крайней мере, в появлении иных правителей. Примечательно, однако, что сначала советская национальная политика не распространялась на русских, которые уже были «развитыми и доминирующими, следовательно, к ним эта политика была неприменима»[13].
В отличие от прежних научных работ, в которых распространенным было мнение о том, что образование Советского Союза вело к отрицанию подлинных прав народов страны на самоопределение, последние исследования по национальной политике СССР подчеркивают саму новизну огромного многонационального государства, сознательно «создающего народы, но не так, как ему заблагорассудится»[14]. В основе этих исследований лежат попытки вплотную заняться подобным, по-видимому, уникальным примером государства, формирующего множество наций; а поиск подходящей метафоры или аналогии был частью этого процесса. Юрий Слезкин обратил внимание на зацикленности Ленина и Сталина на идее «онтологических национальностей, наделенных особыми правами» и «отсталости» нерусских народов. По его мнению, Советский Союз был аналогом советской «коммунальной квартиры»[15]. В своем магистерском исследовании межвоенной национальной политики Терри Мартин предлагает метафору «империи позитивных действий», чтобы «запечатлеть парадоксальную природу многонационального Советского государства», которое стремилось усмирить национализм с помощью того, что называлось «формами государственности». По мнению Т. Мартина, национальная политика была стратегией, направленной на то, чтобы избежать восприятия империи, а также она решительно отвергала модель национального государства[16]. Франсин Хирш предположила, что Советский Союз был, возможно, самым парадоксальным образом, «империй наций», для которой «и европейская колониальная империя, и европейское национальное государство были критическими моделями» для «избирательного заимствования». Ф. Хирш утверждает, что «советская национальная политика, действительно, была вариацией западной колониальной политики» в ее использовании разнообразных культурных форм для окончательного создания советского единства[17].
За этими недавними работами скрываются молчаливые сравнения, которые подчеркивают советскую самобытность. Я предлагаю продолжить исследование этой самобытности, сопоставив советский опыт в условиях межвоенной обстановки с двумя другими примерами: во-первых, с его восточноевропейскими соседями, которые, как и СССР, были новыми и отличающимися национальной множественностью государствами; во-вторых, с колониальными империями Англией и Францией, которые пересмотрели свое собственное управление колонизированным населением после Первой мировой войны. Я сосредоточусь на Африке, в противопоставлении Южной или Юго-Восточной Азии, потому что можно более четко выявить сходства и различия между британской и французской системами управления. Поскольку моя цель состоит в том, чтобы подчеркнуть самобытность советского опыта, я отмечаю, насколько современники СССР придерживались подходов, схожих с его политикой коренизации. Приведенные мною сравнения являются рудиментарными, а выводы – предварительными. Однако в случае их убедительности они могут и должны привести к дальнейшим сравнительным исследованиям.
Восточная Европа: национальное самоопределение и режим защиты меньшинств
Национальная политика «новых государств» в межвоенной Восточной Европе – в Польше, Чехословакии, Югославии и Румынии – имела две общие черты[18]. Во-первых, все они были самопровозглашенными национальными государствами и были приняты в качестве таковых победившими державами, которые, несмотря на политизированный и спорный процесс проведения границ, признали их в качестве примеров осуществления принципа самоопределения. Даже многонациональная Чехословакия и после 1929 г. Югославия называли себя государствами чехословацкой и югославской «наций» соответственно. Во-вторых, эти новые государства не получили международного признания до тех пор, пока не подписали договоры, гарантирующие защиту национальных меньшинств. То есть национальная политика в этих странах определялась восприятием их руководителями того факта, что они не являлись подлинно национальными государствами, поскольку имели в своем составе значительные этнические меньшинства.
Права этих национальных меньшинств были защищены договорами о меньшинствах, которые новые государства были вынуждены подписать на Парижской мирной конференции в 1919 г. Окончательная форма этих договоров была обусловлена двумя соображениями, возникшими в умах лидеров держав-победителей[19]. Во-первых, они боялись, что новые государства будут угнетать свои меньшинства, и этот страх был еще сильнее, учитывая их поведение после войны. Дэвид Ллойд Джордж в июне 1919 г. заявлял: «Мы освободили поляков, чехословаков, югославов, и сегодня в мире есть проблемы, мешающие им угнетать другие народы»[20]. Однако не менее важным, чем переживание о судьбах малых народов, было беспокойство по поводу того, что меньшинства, которым не будут предоставлены права, будут угрожать единству новых государств. Меньшинство не должно представлять собой «государство в государстве» – так говорилось в одном из докладов Комитета по новым государствам на Парижской мирной конференции[21]. По этой причине составители договоров в целом отвергли политическую автономию меньшинств, будь она территориальная или экстерриториальная[22]. Они настаивали только на равенстве по закону для отдельных лиц и на ограниченных культурных правах для общин. По настоянию британской делегации гарантии образования на родном языке в государственных школах, например, были ограничены только начальными классами[23]. «Прежде всего, – заметил в этой связи Ллойд Джордж, говоря о правах евреев на образование в Польше, – мы должны иметь в виду национальное единство»[24].
Составители договоров ожидали, что меньшинства, чьи права были гарантированы, станут лояльными гражданами государств, в которых они живут и интегрируются в свои новые национальные сообщества. Их конечной целью было создание национального государства, хотя и более терпимого, чем предполагали некоторые восточноевропейские лидеры. Миротворцы добивались гарантий для меньшинств не потому, что они выступали за культурную автономию или права меньшинств, а потому что они рассматривали недовольные меньшинства как угрозу миру. Приведем слова президента Вудро Вильсона: «Осмелюсь сказать, ничто не может больше нарушить мир во всем мире, чем обращение, которое при определенных обстоятельствах может быть применено к меньшинствам»[25]. Защита меньшинств, равно как и принцип самоопределения, осуществлялась, таким образом, прежде всего, для предотвращения будущих войн[26].
Сама по себе защита меньшинств не являлась новой практикой; в течение XIX в. признание новых государств великими державами, как правило, включало в себя положение о защите религиозных меньшинств[27]. Исторически новым было создание режима международной защиты под эгидой Лиги Наций. Отдел по делам меньшинств секретариата Лиги получал петиции от групп меньшинств, выносил решения об их приемлемости и направлял представителей в новые государства для проведения регулярных консультаций[28]. Отдел по делам меньшинств руководствовался принципом, согласно которому защита меньшинств являлась «политической», а не «гуманитарной» необходимостью, и был склонен с пониманием относиться к трудному положению самих новых государств[29]. В 1922 г. Ассамблея Лиги Наций признала «основное право меньшинств на защиту от угнетения», а также подчеркнула «обязанность лиц, принадлежащих к расовым, религиозным или языковым меньшинствам сотрудничать в качестве лояльных сограждан с странами, к которым они теперь принадлежат». Также, что важно, при рассмотрении петиций от пострадавших групп меньшинств секретариат должен был учитывать их лояльность[30]. Однако, по словам Кэрол Финк, чиновники Лиги Наций «едва ли были беспристрастны», когда имели дело с меньшинствами. Она отмечает: «Будучи связанными принципом государственного суверенитета, они не только охраняли интересы [новых] государств и отклоняли все, кроме самых политически взрывоопасных жалоб; они также блокировали предложения извне об улучшении, сохраняли свою работу в тайне и не допускали подачи жалоб ни на одном из этапов расследования»[31].
С точки зрения руководства самих новых государств самоопределение и национальное единство были лишь первыми шагами к «национальной революции»[32]. Новые государства Восточной Европы заняли позицию, которую Роджерс Брубейкер называет «национализацией государств». Они были этнически неоднородны, но действовали как «нереализованные национальные государства, доминирующие элиты которых содействовали (в разной степени) языковому, культурному, демографическому положению, экономическому процветанию или политической гегемонии номинально государственной нации»[33]. Перед этими государствами стояли три задачи: национализация населения «номинальной государственной нацией»; коренизация политических и экономических элит государства; национализация географического пространства[34]. Естественно, практика менялась в зависимости от конкретных условий каждого нового государства, но среди основных политических фракций предполагаемой государственной нации редко возникали какие-либо разногласия по поводу цели[35].
Национализация населения повлекла за собой убеждение некоторых потенциальных членов государственной нации в том, что они, действительно, принадлежали ей. Например, в новоприсоединенных Бессарабии и Трансильвании румынское государство обнаружило этнических румын, которые считали своих якобы соотечественников в Бухаресте отсталыми балканцами. Трансильванские румынские политики потребовали автономии; самоопределяющиеся молдаване Бессарабии считали русский, а не румынский язык языком образованных людей и не относили себя к «румынской культурной идентичности»[36]. В Чехословакии «распространенный миф» о чехословацкой «национальности», по словам Дерека Сайра, был необходим для сохранения «национального большинства»; но сельские словаки не всегда считали себя словаками, тем более чехословаками. Как сообщил один переписчик в 1921 г., можно было услышать следующее возражение: «Это та же самая разница! Если хлеб намазан маслом с венгерской стороны, я мадьяр, если он намазан маслом с чешской стороны, я словак». Политические и метафизические последствия такого положения приводили в отчаяние. «Ужас, который вы испытываете от имени этих людей, – жаловался он, – будет больше, чем вы испытали бы от имени тех, кто приговорен к смерти»[37]. В Югославии, конечно, многие сербы, хорваты и словенцы знали, кто они такие; в этом, собственно, и заключалась проблема[38].
Национализация «номинальной государственной нации» по необходимости происходила за счет меньшинств, как правивших в прошлом (например, немцев и венгров), так и диаспор, традиционно занимавших видное положение в экономике (например, евреев). Несмотря на снисходительность Лиги Наций, восточноевропейские государства часто нарушали принцип защиты меньшинств в погоне за национальной революцией. Страх перед враждебными намерениями соседних ревизионистских государств играл определенную роль во многих из этих стратегий, но главной причиной была цель создания полностью реализованного национального государства. Польские власти, например, рассматривали белорусов и украинцев как потенциальные мишени для национализации – и, таким образом, ассимиляции[39]. В трех провинциях Восточной Галиции с их многочисленным украинским населением государство просто проигнорировало статус автономии, принятый сеймом в 1922 г., и в обмен на который суверенитет Польши над территорией был признан Лигой Наций[40]. Школы с преподаванием на белорусском языке, созданные здесь в широких масштабах немецкими оккупационными властями во время Первой мировой войны, были упразднены[41]. Польское законодательство поощряло создание двуязычных школ, в которых польский язык использовался в качестве языка обучения по нескольким предметам. И число таких школ неуклонно росло за счет сокращения одноязычных, что не могло не вызывать протест со стороны представителей различных политических сил меньшинств[42]. В Верхней Силезии, территории, находившейся под особой защитой Лиги Наций, власти стремились воспрепятствовать польским родителям отправлять своих детей в немецкие школы, что противоречило Конвенции о регионе, гарантировавшей выбор со стороны родителей. Польский губернатор «поручил определять школьным инспекторам, был ли ребенок немцем или поляком». «Когда в апреле 1928 года Международный суд признал это незаконным, он в ответ закрыл ряд немецких школ, заявив, что их количество не оправдано долей немцев в составе местного населения»[43]. На Буковине румынское государство обошло договор о защите меньшинств, утверждая, что «украинцы были русинскими румынами, которые должны были быть возвращены к своей истинной румынской идентичности»[44]. Насильственная ассимиляция была также стратегией югославского правительства в Косово и Македонии (так называемая Южной Сербии) в тех случаях, когда положения договора о меньшинствах, касавшиеся образования, не применялись[45]. Одолев корыстные попытки итальянского правительства гарантировать автономию Македонии, новые власти стали относить македонцев к сербам и отказывать косовским албанцам в обучении в школах на родном языке[46].
Другие нарушения защиты прав меньшинств стали результатом усилий по коренизации политической и экономической элиты путем исключения меньшинств из своих рядов. При этом прием в высшие учебные заведения был особенно целенаправленным. Официальный антисемитизм был венцом враждебности к меньшинствам в межвоенной Польше, где действовала ограничительная квота (между 1921–1922 и 1938–1939 гг. доля еврейских студентов университетов сократилась с 25 до 8 %) и где правительство в конечном счете узаконило так называемые гетто-скамейки для еврейских студентов университетов. Среди новых государств Восточной Европы аналогичными были, пожалуй, только требования румынских студентов-медиков запретить своим еврейским коллегам заниматься вскрытием трупов неевреев[47].
Даже либерально-демократическое чехословацкое государство было уязвимо для обвинений в дискриминации, несмотря, например, в целом на позитивную ситуацию в отношении школ для немецкого меньшинства[48]. Отбросив в сторону миф о чехословацкой нации, на котором основывалось новое государство и который обеспечивал то, чтобы титульная нация состояла из двух третей населения, новые власти не смогли выполнить свои гарантии по автономии Подкарпатской Руси, создавая там чешские школы в количестве, несоразмерном с количеством чехов в регионе[49]. Чехи значительно превосходили числом русинов в управлении регионом[50]. Под предлогом осуществления земельной реформы правительство также содействовало чешской и словацкой колонизации приграничных районов, населенных преимущественно немецким и венгерским меньшинствами[51]. При этом меньшинствам не было отказано в предоставлении услуг на родном языке. «Когда административные, судебные и прочие округа Словакии были реорганизованы в 1926 году, – писал Карлайл Макартни в 1937 году, – границы пяти судебных округов, в которых мадьяры были особенно сильны, ... были так переделаны, чтобы довести процент мадьяр ниже уставных 20»[52]. Тем самым можно было обойти необходимость предоставления услуг местным жителям на венгерском. Колонизация сербами была также стратегией Югославии в Македонии и Косово[53]. Все эти меры можно рассматривать как усилия по национализации важнейших пограничных территорий новых государств.
Хотя Советский Союз обязался защищать свое польское меньшинство по Рижскому договору, который положил конец войне с Польшей, на практике советская национальная политика не была обусловлена международным режимом защиты. Скорее она возникла из условий Гражданской войны и цели большевиков максимально сохранить территориальную целостность в рамках бывшей царской империи. Однако, как и политика в новых государствах, советская национальная политика характеризовалась двумя принципами: самоопределения наций и защиты меньшинств. Под лозунгом коренизации более крупные этнические общины были выделены в республики. Язык этих этносов пользовался преференциями, а их представители должны были занимать ответственные посты в республиках. Теоретически они выражали свое стремление к национальному самоопределению. В то же время «некоренному» населению этих территорий, расселенному в компактных районах, были предоставлены локализованные варианты коренизации в виде районов и деревень. Эти районы национальных меньшинств и сельские советы быстро расширялись в 1920-х и начале 1930-х гг. Подлинная политическая автономия была отвергнута советской властью (также, как и великими державами в Париже и лидерами новых государств), которая стремилась к тому, чтобы национальное развитие направлялось партийным руководством.
Поэтому может показаться, что СССР в 1920-х и начале 1930-х гг. воспроизводил восточноевропейскую ситуацию в более широком масштабе. Но в Советском Союзе логика принципов самоопределения и защиты меньшинств была обратной тому, что было в новых государствах. Осуществление самоопределения в советском контексте, каким бы принудительным и ограниченным оно ни было, должно было привести к многонациональному единству, к тому, что Макартни называл в то время «не-национальным государством»[54]. Защита меньшинств посредством территориального размежевания и создания культурных учреждений была направлена в СССР на предотвращение ассимиляции меньшинств, а не на ее поощрение[55]. Политика советской коренизации применялась как к национальному большинству, так и к нацменьшинствам (но не к русским). Несмотря на официальную заботу о том, чтобы каждый советский гражданин был отнесен к соответствующей этнической категории, целью советской национальной политики не была национализация отдельных наций за счет признанных этнических меньшинств[56]. В этом смысле контраст с политикой восточноевропейских национальных государств был, действительно, разительным, по крайней мере, как мы увидим, до середины 1930-х гг.
Колониальная Африка: расовая дифференциация и этническая коренизация
Восточные европейцы не преминули указать, что победившие державы не имели намерения применять принципы мира к своим собственным территориям. Действительно, одна из жалоб с их стороны заключалась в том, что защита меньшинств не является универсальной[57]. Ни защита меньшинств, ни самоопределение не применялись к колониальным империям Великобритании или Франции. И неудивительно, что их политика в Африке была противоположной восточноевропейской модели в межвоенный период. Франция и Великобритания управляли подвластными им народами посредством радикальной политики рассовой дифференциации. Англичане называли это «непрямым управлением», французы – «ассоциацией»[58]. Обе политические модели представляли собой «уменьшение» европейских «амбиций по переделу и систематической эксплуатации Африканского континента» и свидетельствовали о том, что «их цель состоит в сохранении африканских обществ и культуры, позволяя лишь медленные изменения изнутри»59.
Колониальная практика работы через местных правителей была отнюдь не нова. То, что было новым в годы перед Первой мировой войной, поднимало практику до уровня принципа60. Этот принцип окончательно оформился в межвоенный период. За этой политикой «колониальной коренизации» стояла система правовой сегрегации. За очень редкими исключениями африканцы являлись субъектами обычного права, а не равноправными членами гражданского общества. Как в британских, так и во французских колониях существовали специальные местные суды; на французских территориях африканцы также подчинялись «индигенату» – правовому кодексу, который наделял французских колониальных чиновников полнотой власти в уголовных и гражданских делах. Таким образом, межвоенный период ознаменовался кульминацией и радикализацией правового плюрализма, который всегда характеризовал европейское колониальное управление61. Британская версия непрямого управления «основывалась на существовании культурно однородных территориальных племен, управляемых вождями», в то время как французская модель «ассоциации» имела тенденцию навязывать новую административную систему и находить наиболее подходящих вождей62. И те, и другие все больше полагались на этнографическую ситуацию в регионе, которая помогала им выявлять местные традиции, на которых они могли бы основывать соответствующую «адаптированную» колониальную политику 63.
Колониальные правители в Африке, таким образом, отвергли в межвоенный период идею о том, что Европа представляет Африке образ ее собственного будущего. В 1925 г. сэр Дональд Кэмерон, губернатор Танганьики (и Нигерии, в то время, когда Перхам проводила свои исследования в середине 1930-х гг.) утверждал: «Наш долг – сделать все, что в наших силах, чтобы развить туземца по тем направлениям, которые не будут вестернизировать его и превращать в плохую имитацию европейца»64. Скорее задачей системы местного управления было сделать из него «хорошего африканца». Французы, в свою очередь, утверждали, что объединение соответствовало их цивилизаторской миссии даже когда они приспособили эту миссию к отказу от модели ассимиляции с французской культурой (и, что важно, французским гражданством), подчеркивая, «насколько африканцы отличаются от французов, и как важно, чтобы эти две расы были разделены»65. В конечном счете, как утверждает Махмуд Мамдани, колониальная политика стремилась «стабилизировать расовое господство» путем «закрепления его в политически навязанной системе этнического плюрализма»66. Непрямое управление и объединение были направлены на предотвращение возникновения националистических или рабочих движений, возглавляемых прозападными интеллектуалами, которые угрожали бы колониальному правлению. «Детрайбализация», по словам Джона Флинта, «была призраком, который преследовал систему»67.
Заявления французских и британских колониальных чиновников о непрямом управлении и объединении пронизаны расизмом, который служил оправданием европейской власти над коренными жителями и удерживал африканцев, получивших образование на Западе, от оказания влияния на остальных. События периода Первой мировой войны, особенно во французской Западной Африке, показали, какую опасность они представляют 68. И все же непрямое управление и ассоциация также представляли собой ответ на события в метрополии. Джон Келл отмечает, что «широко распространенное разочарование западной цивилизацией» европейцами в период между войнами «сыграло свою роль в принятии непрямого управления»69. Элис Конклин увидела намек на то, что французские правители Западной Африки смотрят с тоской в прошлое; они, вероятно, «обнаружили в “примитивной” Африке идеализированный досовременный и патриархальный мир, напоминавший тот, который они потеряли в Вердене»70. В этом отношении идеологии, лежавшие в основе непрямого управления и ассоциации, можно рассматривать как реакцию на межвоенную обстановку.
Изучение колониальной образовательной политики подчеркивает это двойственное отношение к современности. Англичане и французы не приняли всеобщего начального, не говоря уже о среднем, образования для своих африканских подданных, поскольку они были озабоченны тем, чтобы предотвратить появление большой группы безработных и политически опасных, псевдоевропейских коренных жителей. Колониальные власти создали четкие учебные программы, чтобы гарантировать, что африканцы будут выполнять те роли, которые они были призваны играть – в качестве крестьян, мелких клерков и рабочих. В докладе Консультативного комитета по образованию коренных народов в британских тропических африканских зависимых странах за 1925 г. это разъяснялось следующим образом: «Образование должно быть адаптировано к менталитету, способностям, занятиям и традициям различных народов, сохраняя, насколько это возможно, здравые элементы в структуре их социальной жизни»[71]. Как отмечал один видный колониальный чиновник, цель образования «состояла в том, чтобы побудить африканца гордиться своей расой, чувствовать, что она вносит свой собственный вклад в мировой прогресс, и этот контакт с западной цивилизацией должен означать не рабское подражание, а возможность выбора всего, что может помочь росту всего наилучшего в его собственных институтах и культуре»[72]. Начальные школы во французской Западной Африке отдавали приоритет сыновьям вождей и знати и подчеркивали «африканское содержание» (например, краеведение, а не французская история); среднее образование было в основном профессионально-техническим[73]. Колониальные власти санкционировали использование французского языка в таких школах главным образом по практическим соображениям в связи с многочисленностью местных языков, присутствующих в колониях. Прямая ассимиляция не была целью[74]. Действительно, по мере того как власти французской Западной Африки во второй половине 1930-х гг. расширяли сферу охвата системы сельских школ, они все больше подчеркивали самобытность африканской культуры[75]. Ограниченность французского и британского видения будущего Африки, пожалуй, наиболее ярко проявилась в их отношении к наемному труду и пролетаризации. И те, и другие власти рассматривали наемных работников только «детрайбализованными» и, следовательно, опасными; французским и британским колониальным чиновникам «понятие “африканец” и “рабочий” казалось двумя понятиями, несовместимыми друг с другом»[76]. В европейском представлении нормальные африканцы были либо крестьянами, либо традиционными элитами[77]. Многие колониальные чиновники выступали за крестьянский путь развития африканских стран[78]. Там, где был необходим наемный труд (например, в горнодобывающей промышленности), идеальной моделью было общество мелких производителей, которое могло обеспечить временными сезонными работниками по мере необходимости. Признание африканцев наемными рабочими в конечном счете приравняло бы их к европейцам и, возможно, потребовало бы сходных условий социального обеспечения, в частности, членства в профсоюзах, страхования, создания фонда семейной заработной платы[79].
Как мы видим, подобно колониальным режимам в Африке в межвоенный период, советская национальная политика делала упор на коренизацию институтов местного управления. Но основная цель советской политики была прямо противоположна европейской политике «колониальной коренизации» в Африке. Советская политика была направлена не на сохранение традиционного содержания, а на его замену. В советском контексте идея того, чтобы «хороший узбек» оставался хорошим узбеком, была бессмысленной. Цель состояла в том, чтобы сделать его хорошим европейцем в том смысле, что европейцы были современными, а большинство узбеков – нет. Эта «европейскость» не была этнической идентичностью. Скорее, это был другой термин для обозначения «современного» и «социалистического». Как подчеркивает Адиб Халид, предполагалось, что советская современность должна была иметь универсальное содержание, которое выражалось, по известной фразе Сталина, в национальной форме. Когда европейские правители Африки представляли себе современное будущее для своих подданных, что им было отнюдь нелегко сделать, эта современность должна была иметь отчетливое национальное (в советском понимании) содержание. Лорд Лугард, создатель политики непрямого управления в Северной Нигерии на рубеже XX в., смог признать «базовый принцип британской политики в отношении коренных народов» как идею о том, что «институты и методы, чтобы добиться успеха и способствовать счастью и благосостоянию народа, должны быть глубоко укоренены в его традициях и предрассудках»[80]. Сэр Дональд Камерон мог утверждать, что было бы «просто вандализмом пытаться разрушить» такой «глубоко укоренившийся» институт, как «племенное вождество»[81].Советская политика, напротив, подчеркивала не содержание этнической традиции, а лишь форму (особенно языка) как необходимую для укорененности в политике коренизации. Во имя социалистической трансформации советское государство значительно разрушило традиционные институты.
Это различие между советским универсалистским проектом и колониальным проектом особенно ярко проявляется в трудовой политике и политике образования. В то время, как европейская политика в странах Африки была направлена на предотвращение или, по крайней мере, ограничение формирования урбанизированного, «детрайбализированного» рабочего класса, сталинские власти, напротив, постоянно сетовали на медленный процесс формирования рабочего класса среди народов Центральной Азии. Относительно низкая численность выходцев из этого региона в советских высших учебных заведениях в конце 1930-х и 1940-х гг. была также постоянной больной темой для режима, озабоченного подготовкой национальных кадров[82]. Основополагающим принципом советской образовательной политики было осуществление обязательного всеобщего начального и, в конечном счете, среднего образования. Учебная программа была одинаковой, независимо от этнической принадлежности учащегося. Универсальная советская учебная программа также имела экономическую и политическую логику, хотя и совершенно отличную от колониального подхода: сформировать лояльное, современное, взаимозаменяемое население, пригодное для быстрого промышленного развития. Пожалуй, единственное, что она имела общего с колониальной политикой, – это враждебность или, по крайней мере, подозрение в отношении капитализма[83]. С точки зрения управления, «в сравнительных имперских терминах», действительно, может показаться, что, цитируя Доминика Ливена, «советский федерализм был разновидностью непрямого управления»84. И то и другое могло возникнуть в некотором смысле из практической необходимости управлять большими, разнообразными территориями дешево и эффективно. Но, в конечном счете, обе политические модели были ориентированы на совершенно противоположные цели.
Советская политика в переходный период в 1934–1938 гг.
Подводя итог моим рассуждениям, необходимо отметить следующее: в отличие от политики новых государств Восточной Европы первоначально советская национальная политика основывалась на методах культурной дифференциации. В отличие от колониальной политики Англии и Франции, она, в конечном счете, стремилась преобразовать и интегрировать все народы в одно политическое сообщество.
Однако во второй половине 1930-х гг. советская политика резко изменилась. Пересмотр первоначальной советской национальной политики был хорошо задокументирован Терри Мартином. Он включал в себя прежде всего «возрождение русских» как нации и «сокращение и рационализацию» самой коренизации. И то, и другое было, по большому счету, политическим решением, реакцией на возмущение русских и рост нерусского национализма, который сам по себе был следствием политики коренизации[85]. Использование нерусских языков в управлении, в частности, было сокращено в большинстве мест, поскольку партия «отделяла нерусские кадры от нерусских языков», как это описывает Джордж Либер86. Анализ двух политических сдвигов, которые обычно рассматриваются как часть этих изменений – усиление репрессий в отношении этнических диаспор и введение обязательного обучения на русском языке – демонстрирует, что новые элементы советской национальной политики двигались по образцу ее восточноевропейских соседей.
В 1930 г. режиму стало очевидно, что особенно ожесточенное сопротивление коллективизации было в польских и немецких деревнях, в украинских и белорусских пограничных районах, и против этих сообществ были приняты жесткие меры[87]. Но только в 1934 г. была начата политика выборочной депортации, нацеленной на целые деревни немцев и поляков; вскоре последовала депортация советского корейского населения в Центральную Азию. В декабре 1937 г. решениями Политбюро ЦК ВКП (б) были упразднены административные районы и школы, предназначенные для меньшинств, «родины» которых находились за пределами советских границ[88]. Несколькими месяцами ранее, в разгар Большого террора, Сталин развязал свои «национальные операции» против советских граждан и неграждан из этих диаспорных групп, которые были арестованы или казнены тысячами[89]. С точки зрения режима, эти меньшинства проявили нежелание или неспособность интегрироваться в советский строй. Режим отреагировал национализацией политики депортации и отказом в предоставлении услуг на родном языке, аналогично тому, что новые государства Восточной Европы практиковали в течение десятилетия или более. Новые школы характеризовались как «обычные советские», где преподавание велось либо на русском языке, либо на языке титульной нации рассматриваемой союзной республики (например, украинский язык на Украине).
Однако следует подчеркнуть, что режим сохранил школы для советских граждан тех этнических групп, которые имели свою союзную или автономную республику, но проживали за ее пределами (например, татарские школы в районах, прилегающих к Татарской АССР). То есть упразднение школ и районов проживания диаспорных меньшинств не способствовало национализации отдельных этнических районов в различных республиках СССР[90]. Скорее, эти меры депортации и упразднения институтов меньшинств были направлены на национализацию советского населения и территории в целом. Сталинское руководство все больше занимало позицию национализирующегося государства и стремилось сформировать нечто вроде советского национального сообщества, как это делали его западные соседи на протяжении более десяти лет. Это стремление далее подтверждено тем шагом, который режим предпринял четыре месяца спустя.
В марте 1938 г. Сталин ввел обязательное обучение на русском языке во всех нерусских школах[91]. Теперь требовался не только русский язык, но и были введены всеобщее расписание и учебная программа для всех школ, независимо от языка, на котором они работали. Хотя это не привело к отмене принципа родного языка как средства обучения, это, действительно, означало новый приоритет. Данная мера привела советскую политику в соответствие с аналогичной политикой восточноевропейских национальных государств, которые требовали преподавания общего языка в качестве предмета в своих школах. Фактически, право на это было включено в сами договоры о меньшинствах. Эта мера была осуществлена, однако не потому что русский язык был языком правящей нации государства, но потому, что общий язык был необходим для эффективного функционирования современной экономики, государства и армии. Сам Сталин на пленуме ЦК ВКП(б) так представлял эту идею: «Есть у нас один язык, на котором могут изъяснятся все граждане СССР более или менее, – это русский язык. Поэтому, мы пришли к тому, чтобы он был обязательным. Хорошо было бы, если бы все призываемые в армию граждане мало-мальски изъяснялись бы на русском языке, чтобы, передвигая какую-нибудь дивизию, скажем, Узбекскую в Самару, чтобы она могла с населением объясняться»[92].
Закон, лично отредактированный самим Сталиным, отражал эту идею еще более прямолинейно: «В условиях многонационального государства, каковым является СССР, знание русского языка должно явиться мощным средством связи и общения между народами СССР, способствующим их дальнейшему хозяйственному и культурному росту».93 Здесь мы видим логику национализирующего государства. Возможно, это, действительно, так, как утверждают Терри Мартин и другие, что советское руководство никогда не намеревалось превратить Советский Союз в национальное государство или создать советскую нацию; но после середины 1930-х гг. данная политика все больше напоминала политику национализирующихся восточноевропейских соседей.
Конечно, сталинский режим не полностью отвернулся от политики коренизации, которую он принял в начале 1920-х гг. Напротив, она была продолжена, хотя более спокойно и для более ограниченного спектра этнических общностей, в основном из союзных и автономных республик. Коренизация была идеологически подкреплена утверждением Сталина о том, что могут существовать социалистические нации, которые будут продолжать развиваться[94].
Таким образом, к 1938 г. советская национальная политика стала своеобразным гибридом противоречивых практик. Если в восточноевропейских государствах коренизация политической и экономической элиты и национализация «номинальной государственной нации» шли рука об руку для продвижения национальной революции, то, в конечном счете, в Советском Союзе коренизация для различных нерусских народов все больше вступала в конфликт с политикой советской национализации.
В африканских колониях Франции и Великобритании коренизация в «колониальном стиле» также была альтернативой национализации; ни та, ни другая держава не стремились превратить колониальные территории в нечто вроде наций. Однако попытка сохранить африканское общество в межвоенный период оказалась тупиковой и начала разваливаться во второй половине 1930-х гг. После Второй мировой войны колониальная политика все больше оправдывала себя, поощряя схемы экономического и культурного развития и, в случае Великобритании, самоуправления как школы будущей независимости[95]. Это определило судьбу непрямого управления, и ассоциации, которые, как теперь признано, не могли быть предшественниками современности. Как только колониальные державы решили, что их смыслом существования является развитие, они все чаще обращались (как это было в СССР много лет назад) к национализации, а не к колониальному решению проблемы культурного разнообразия. Они делали это двумя способами, которые по случайному совпадению повторили советские методы[96].
Англичане, опираясь на модель Содружества, созданную для «белых» колоний поселения, передали власть африканским колониальным государствам, которые все больше управлялись самими африканцами (англичане называли это «африканизацией», но принцип был похож на советскую коренизацию, а не на то, что я назвал колониальной коренизацией). Этот процесс также, в конечном итоге, включал движение власти вверх: от местных институтов непрямого управления к формирующимся национальным институтам колониального государства. В течение десятилетия после Второй мировой войны французы стремились убедить себя и своих африканских подданных в том, что они могут быть и будут интегрированы в единое культурное и политическое пространство (Французский союз)[97]. И хотя африканские политики быстро адаптировались к потенциалу интеграции, вскоре стало очевидно, что такой подход будет слишком дорогостоящим и будет угрожать «колонизацией колонизатора»; от него отказались в пользу передачи власти и формальной независимости[98]. В обоих случаях Советский Союз межвоенного периода косвенно показал англичанам и французам будущие возможности их собственных колониальных империй – либо культурное единство через национализацию (первоначальный французский подход), либо национальное самоопределение через коренизацую (британский подход, а в конечном счете и французский).
Если мы кратко рассмотрим альтернативные колониальные и национальные подходы к управлению культурным разнообразием в межвоенный период, то обнаружим, что все они были ориентированы на будущее государство, но только восточные европейцы имели четкое представление о том, как оно будет выглядеть. «Подлинное» восточноевропейское национальное государство, возможно, было утопическим проектом с точки зрения 1918 г., но к 1945 г. оно стало достижимой целью в результате геноцида и этнической чистки, а не мирной интеграции, предусмотренной великими державами. Действительно, как утверждает Иштван Дик, это, возможно, был единственный «подлинный успех» этих государств[99]. В случае с Великобританией непрямое управление теоретически постепенно привело бы африканцев к их собственной версии современности; однако точная природа этой современности так и не была разъяснена. В 1918 г. Лугард ясно дал понять, что «какой бы ни была эволюция будущего, не может быть никаких сомнений, кроме того, что британское руководство и контроль будут необходимы в течение многих лет – возможно, поколений – в будущем»[100]. Французы были одновременно более прямыми и более уклончивыми в отношении будущего. Целью их цивилизаторской миссии могла быть только французская современность, но как африканцы достигнут этой цели через ассоциацию, так и осталось неясным. Что касается Советского Союза, то его конечная цель была ясна – коммунистическое общество, в котором исчезли бы этнические особенности. Сам Сталин относил это к тому времени, когда социализм одержит победу в мировом масштабе101. Как и в случае колониальной политики Великобритании и Франции, советская конечная точка находилась так далеко в будущем, что давала мало ориентиров для политики.
Почти три десятилетия спустя, после появления книги «Местное управление в Нигерии», Перхам отметила, что британские колониальные управленцы не были «ни на самом деле, ни в их собственной оценке... гончарами, которые лепят людей. Они больше походили на портных, пытающихся сделать так, чтобы “одежда” их управления соответствовала неспокойным, разнородным и быстро растущим формам их африканских подопечных»[102]. Напротив, советские управленцы стремились создать что-то новое. В начале этой статьи я задавал вопрос: что плохого в том, что узбекские комсомольцы носят национальную одежду и что они должны носить вместо этого? Простой ответ заключается в том, что они будут носить русскую или, как многие, вероятно, назвали бы ее в то время, европейскую одежду. Еще до того, как русские стали первыми среди равных в Советском многонациональном государстве конца 1930-х гг., их поведение и культурные нравы «считались в значительной степени прозрачными, лишенными смысла и, следовательно, равными современности»[103]. Действительно, упомянутый выше узбекский чиновник считал, что роль комсомола в Узбекистане состоит в том, чтобы привить «новую европейскую обстановку в Узбекистане», чтобы люди стали «действительно, культурными и социалистическими»[104]. Дискурс такого рода убедил некоторых в колониальном характере советской национальной политики в Центральной Азии[105]. Стивен Коткин в той же статье, в которой он призывает к сравнительному изучению СССР, утверждает, что «Советский Союз был колониальным проектом – с некоторым отличием»[106]. Коткин видит эту разницу в стремлении сделать нацию и империю совместимыми, а не противоречащими друг другу. И все же, как следует из приведенных мною сравнений, советский проект был, в конечном счете, ориентирован на универсальную современность, в отличие от тех, что существовали в межвоенной колониальной Африке. Если Советский Союз, действительно, был колониальным проектом, то он был настолько своеобразен, что был поднят вопрос, стоит ли его таковым называть. Колониальные проекты 1920-х и 1930-х гг. прославляли эмиров в их широких одеяниях; они их не осуждали.
Не менее важной, принципиальной чертой изменения национальной политики СССР в середине 1930-х гг. были национализация (хотя и не националистическая), и это приблизило СССР к его восточноевропейским соседям. Хотя политика подавления этнических меньшинств и введения обязательного обучения на русском языке может казаться аспектом советского (или даже российского) империализма, рассмотрение ее в сравнительной перспективе показывает, что советская политика, в конечном счете, стала практически идентичной политике ее соседей. Советское государство становилось национализирующимся государством, противостоящим разнородному обществу, а не тем «ненациональным» государством, которое изначально создали Ленин и Сталин. Каким образом это государство примирится со своими многочисленными развивающимися социалистическими нациями, было проблемой будущего (и, в конечном счете, она не была решена). Но ясно одно было: в таком государстве не было места подданным, которые носили «штаны из десяти метров мануфактуры».
1 Perham M. Native Administration in Nigeria. London, 1937. P. 89; Louis W.R. Historians I Have Known // Perspectives. 2001. Vol. 39. № 5. P. 16–17; Smith A., Bull M. Margery Perham and British Rule in Africa. Totowa, N.J., 1991.
2 РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). Ф. М-1. Оп. 2. Д. 134. Л. 48–49.
3 Martin T. The Affi rmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, 2001. P. 443.
4 Волкогонов Д. Триумф и трагедия: политический портрет И.В. Сталина. М., 1989.
5 Martin P.M. Contesting Clothes in Colonial Brazzaville // Journal of African History. 1994. Vol. 35. P. 401–426.
6 Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika. 2002. Vol. 2. № 1. P. 114, 151; Martin T. The Soviet Union as Empire: Salvaging a Dubious Analytical Category // Ab Imperio. 2002. № 2. P. 104.
7 Rudolph R.L., Good D.F. Nationalism and Empire: The Habsburg Empire and the Soviet Union. New York, 1992; Barkey K., Hagen M. von. After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires. Boulder, Colo., 1997; Dawisha K., Parrott B. The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective. Armonk, N.Y., 1997; Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven, 2001.
8 Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge, 1979. P. 23, 288.
9 Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914–1923. London, 2001; Holquist P. Information Is the Alpha and Omega of Our Work’: Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context // Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415–450; Hoff mann D.L. Mothers in the Motherland: Stalinist Pronatalism in Its Pan-European Context // Journal of Social History. 2000. Vol. 34. № 1. P. 35–54.
10 Kotkin S. Modern Times... P. 113.
11 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 414–452; Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993; Martin T. Affi rmative Action Empire; Adrienne Edgar, Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton, 2004; Liber G.O. Soviet Nationality Policy, Urban Growth, and Identity Change in the Ukrainian SSR, 1923–1934. Cambridge, 1992.
12 Это было сложным и спорным. См. Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of Soviet Union. Ithaca, 2005.
13 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment... P. 425.
14 Suny R.G. The Revenge of the Past... P. 160; Pipes R. The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923. Cambridge, 1964; Blank S. The Sorcerer as Apprentice: Stalin as Commissar of Nationalities, 1917–1924. Westport, 1994; Carrere d’Encausse H. The Great Challenge: Nationalities and the Bolshevik State, 1917–1930. New York, 1992.
15 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment. P. 414.
16 Martin T. Affi rmative Action Empire. P. 3, 15, 18.
17 Hirsch F. Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of Soviet National Identities // Russian Review. 2000. Vol. 59. № 2. P. 202–203, 224–225; Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of Soviet Union… P. 4–5.
18 Fink C. Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938. Cambridge, 2004. P. 278.
19 Там же; Macartney C.A. National States and National Minorities. London, 1934. P. 212–272; Levene M. Nationalism and Its Alternatives in the International Arena: The Jewish Question at Paris, 1919 // Journal of Contemporary History. 1993. Vol. 28. P. 511–531.
20 Link A.S. The Deliberations of the Council of Four (March 24–June 28, 1919): Notes of the Offi cial Interpreter, Paul Mantoux. Princeton, 1992. P. ii, 312.
21 The Committee on New States, Second Report (13 May 1919) // The Papers of Woodrow Wilson. Princeton, 1988. P. 182.
22 Еврейские организации предложили раздельное пропорциональное представительство для евреев и других национальных меньшинств в польском сейме. Исключение составили районы Прикарпатья, Чехословакии и Восточной Галиции. Судьба этих территорий обсуждается ниже.
23 Augustinos G. The National Idea in Eastern Europe: The Politics of Ethnic and Civic Community. Lexington, 1996. P. 34; Fink C. Defending the Rights of Others… P. 254; Macartney C.A. National States and National Minorities… P. 283.
24 Link A.S. The Deliberations of the Council of Four… P. 526.
25 Preliminary Peace Conference, Protocol No. 8, Plenary Session of May 31, 1919 // United States Department of State, Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919. Washington, 1942–1947. P. 406.
26 Macartney C.A. National States and National Minorities… P. 274–279; Rossos A. The British Foreign Offi ce and Macedonian National Identity, 1918–1941 // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 369–394; Finney P.B. An Evil for All Concerned’: Great Britain and Minority Protection after 1919 // Journal of Contemporary History. 1995. Vol. 30. № 3. P. 533–551.
27 Macartney C.A. National States and National Minorities… P. 157–575; Fink C. Defending the Rights of Others..; United States Department State, Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919… P. 571.
28 Macartney C.A. National States and National Minorities… P. 297–419; Fink C. Defending the Rights of Others… P. 9–10; Mair L.P. The Protection of Minorities: The Working and Scope of the Minorities Treaties under the League of Nations. London, 1928; Pablo de Azcirate. League of Nations and National Minorities: An Experiment. Washington, 1945.
29 Pablo de Azcirate. League of Nations and National Minorities: An Experiment… P. 14.
30 Там же. Р. 88–89.
31 Fink C. Defending the Rights of Others… P. 282.
32 Berend I.T. Decades of Crisis: Central and Eastern Europe before World War II. Berkeley, 1998. P. 145–184; Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation Building and Ethnic Struggle, 1918–1930. Ithaca, 1995. P. 7.
33 Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.
Cambridge, 1996. P. 57, 63.
34 Брубейкер объединяет эти задачи под общим названием «национализированных» практик; для анализа это необходимо учитывать. Я использую термин «коренизация» политической и экономической элиты в этом контексте, чтобы подчеркнуть ее сходство с советской национальной политикой, хотя, как я утверждаю ниже, ее конечная цель была иной.
35 Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania… P. 304; Mendelsohn E. Jews of East Central Europe between the World Wars. Bloomington, 1983. P. 39.
36 Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania… P. 100, 130 –135.
37 Sayer D. The Coasts of Bohemia: A Czech History. Princeton, 1998. P. 174–175.
38 Lampe J.R. Yugoslavia as History: Twice There Was a Country. Cambridge, 1996. P. 157; Banac I. The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, 1984.
39 Brubaker R. Nationalism Reframed… P. 97–103.
40 Polonsky A. Politics in Independent Poland, 1921–1939: The Crisis of Constitutional Government. Oxford, 1972. P. 51–52; Korzec P. The Minority Problem of Poland, 1919–1939 // S. Vilfan. Ethnic Groups and Language Rights. New York, 1993. P. 207; Fink C. Defending the Rights of Others… P. 255; United States Department of State, Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919… P. 847–855.
41 Polonsky A. Politics in Independent Poland, 1921–1939… P. 141; Liulevicius V.G. War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity, and German Occupation in World War I. Cambridge, 2000.
42 Korzec P. The Minority Problem of Poland, 1919–1939 // S. Vilfan. Ethnic Groups and Language Rights… P. 208–209; Polonsky A. Politics in Independent Poland, 1921–1939: The Crisis of Constitutional Government… P. 142; Tomiak J. Education of the Non-Dominant Ethnic Groups in the Polish Republic, 1918–1939 // J. Tomiak. Schooling, Educational Policy Ethnic Identity. New York, 1991. P. 185–209.
43 Polonsky A. Politics in Independent Poland, 1921–1939… P. 217; Mair L.P. The Protection of Minorities… P. 92; Pablo de Azcirate. League of Nations and National Minorities: An Experiment… P. 147; Raitz von Frentz Ch. Lesson Forgotten: Minority Protection under the League of Nations. The Case of the German Minority in Poland, 1920–1934. New York, 1999.
44 Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania… P. 65.
45 Temperley H.M. A History of the Peace Conference of Paris. London, 1921. P. 451.
46 Macartney C.A. National States and National Minorities… P. 251; Banac I. The National Question in Yugoslavia… P. 319–321; Malcolm N. Kosovo: A Short History. New York, 1998. P. 267.
47 Mendelsohn E. Jews of East Central Europe between the World Wars… P. 73; Polonsky A. Politics in Independent Poland, 1921–1939… P. 467; Hagen W.W. Before the ‘Final Solution’: Toward a Comparative Analysis of Political Anti-Semitism in Interwar Germany and Poland // Journal of Modern History. 1996. Vol. 68. № 2. P. 372; Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania… P. 269.
48 Mitter W. German Schools in Czechoslovakia, 1918–1938 // J. Tomiak. Schooling, Educational Policy Ethnic Identity. New York, 1991. P. 211–232.
49 Macartney C.A. Hungary and Her Successors: The Treaty of Trianon and Its Consequences, 1919–1937. London, 1937. P. 233; Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle, 1874. P. 89.
50 Macartney C.A. Hungary and Her Successors… P. 225.
51 Miller D.E. Colonizing the Hungarian and German Border Areas during the Czechoslovak Land Reform, 1918–1938 // Austrian History Yearbook. 2003. Vol. 34. P. 303–317.
52 Macartney C.A. Hungary and Her Successors… P. 156.
53 Banac I. The National Question in Yugoslavia… P. 320; Lampe J.R. Yugoslavia as History… P. 146–148; Malcolm N. Kosovo… P. 278–280.
54 Macartney C.A. National States and National Minorities… P. 12.
55 Martin T. Affi rmative Action Empire. P. 16.
56 Франсин Хирш утверждает, что с самого начала советская политика была ориентирована на объединение этноисторических групп. См.: Hirsch F. Empire of Nations… 9–10n21, and chap. 3; Не менее важно, что в отдельных республиках и регионах местное русское меньшинство могло быть объединенно в категорию «украинцы», хотя подобная практика была очень недолгой и велась лишь до конца 1920-х годов. См.: Martin T. Affi rmative Action… Р. 282–291.
57 Как посетовал премьер-министр Румынии Ион Братиану, учреждение договоров о меньшинствах создали два разных класса членства в Лиге наций. См. об этом: Pablo de Azcirate, League of Nations and National Minorities… Р. 26.
58 Mamdani M. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton, 1996; Mamdani M. Historicizing Power and Responses to Power: Indirect Rule and Its Reform // Social Research. 1999. Vol. 66. № 3. P. 859–886; Young C. The African Colonial State in Comparative Perspective. New Haven, 1994; Cell J.W. Colonial Rule // J.M. Brown, W.R. Louis. The Oxford History of the British Empire. The Twentieth Century. New York, 1999; Crowder M. Indirect Rule-French and British Style // R.O. Collins. Historical Problems of Imperial Africa. Princeton, 1994; Iliff e J. A Modern History of Tanganyika. Cambridge, 1979. P. 318–341; Low D. A., Pratt R.C. Buganda and British Overrule, 1900–1955. London, 1960; Perham M. Lugard: The Years of Authority, 1898–1945. London, 1960; Raymond F. Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890–1914. New York, 1961; Conklin A.L. A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895–1930. Stanford, 1997; Perham M. Some Problems of Indirect Rule in Africa // Journal of the Royal African Society. 1934. Vol. 34. № 135. P. 1–23.
59 Cooper F. Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa. Cambridge, Eng., 1996. P. 11.
60 Low D. A., Pratt R.C. Buganda and British Overrule… P. 163–164; Burroughs P. Imperial Institutions and the Government of Empire // A. Porter. The Oxford History of the British Empire. The Nineteenth Century. New York, 1999. P. 196; Young C. The African Colonial State in Comparative Perspective… P. 107.
61 Benton L.A. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400–1900. Cambridge, 2002. P. 127–166.
62 Spear T. Neo-Traditionalism and the Limits of Invention in British Colonial Africa // Journal of African History. 2003. Vol. 44. № 1. P. 164; Crowder M. West Africa under Colonial Rule. Evanston, 1968; Vail L. The Creation of Tribalism in Southern Africa. Berkeley, 1989.
63 Kuklick H. The Savage Within: The Social History of British Anthropology, 1885–1945. Cambridge, 1991. P. 204; Mair L.P. Colonial Administration as Science // Journal of the Royal African Society. 1933. Vol. 32. № 129. P. 367; Perham M. Some Problems of Indirect Rule in Africa… P. 8–10; Gellner E. The Political Thought of Bronislaw Malinowski // Current Anthropology. 1987. Vol. 28, № 4. P. 557–559; Mair L. Anthropology and Colonial Policy // African Aff airs. 1975. Vol. 74. № 295. P. 191–195; Conklin M. Mission to Civilize… P. 196–198; Wilder G. Colonial Ethnology and Political Rationality in French West Africa // History and Anthropology. 2003. Vol. 14. № 3. P. 219–252.
64 Iliff e J. Modern History of Tanganyika… P. 320; Cameron D. The Principles of Native Administration and Their Application. Lagos, 1934.
65 Conklin M. Mission to Civilize… P. 164; Genova J.E. Confl icted Missionaries: Power and Identity in French West Africa during the 1930s // The Historian. 2004. Vol. 66. № 1. P. 45–66.
66 Mamdani M. Historicizing Power and Responses to Power: Indirect Rule and Its Reform // Social Research. 1999. Vol. 66. № 3. P. 6.
67 Flint J. Planned Decolonization and Its Failure in British Africa // African Aff airs. 1983. Vol. 82. № 328. P. 394.
68 Conklin M. Mission to Civilize… P. 143–151.
69 Cell J.W. Colonial Rule… P. 249.
70 Conklin M. Mission to Civilize… P. 253.
71 Advisory Committee on Native Education in the British Tropical African dencies, “Education Policy in British Tropical Africa” // L.G. Cowan, J. O’Connell, D.G. Scanlon. Education and Nation-Building in Africa. New York, 1965. P. 46.
72 Lugard L. Education and Race Relations // Journal of the Royal African Society. 1933. Vol. 32. № 126. P. 5.
73 Kelly G.P. The Presentation of Indigenous Society in the Schools of French West Africa and Indochina, 1918–1938 // Comparative Studies in Society and History. 1984. Vol. 26, № 3. P. 525.
74 Giff ord P., Weiskel T.C. African Education in a Colonial Context: French and British Styles // P. Giff ord, W.R. Louis. France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule. New Haven, 1971. P. 675; Chafer T. Teaching Africans to Be French? France’s ‘Civilizing Mission’ and the Establishment of a Public Education System in French West Africa, 1903–1930 // Africa. 2001. Vol. 56. № 2. P. 190–209; Hailey L. An African Survey. London, 1938, 1257–1259.
75 Genova J.E. Confl icted Missionaries: Power and Identity in French West Africa during the 1930s // The Historian. 2004. Vol. 66. № 1. P. 45–66.
76 Cooper F. Decolonization and African Society… P. 56.
77 Там же. С. 23, 169.
78 Phillips A. The Enigma of Colonialism: British Policy in West Africa. Bloomington, 1989; Dimier V. For a Republic ‘Diverse and Indivisible’? France’s Experience from the Colonial Past // Contemporary European History. 2004. Vol. 13. № 1. P. 53–55; Wilder G. Colonial Ethnology and Political Rationality in French West Africa… P. 235.
79 Phillips A. The Enigma of Colonialism: British Policy in West Africa… P. 139; Cooper F. Decolonization and African Society… P. 56.
80 Lugard L. The Dual Mandate in British Tropical Africa. Hamden, 1965. P. 211.
81 Cameron D. Native Administration in Tanganyika and Nigeria // Journal of the Royal African Society. 1937. Vol. 36, № 145. P. 5.
82 Blitstein P.A. Stalin’s Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936 –1953. Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1999.
83 Flint J. Planned Decolonization and Its Failure in British Africa… P. 394.
84 Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals… P. 313.
85 Martin T. Affi rmative Action Empire... P. 344–431; Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 441.
86 Liber G.O. Soviet Nationality Policy… P. 179.
87 Martin T. Affi rmative Action Empire... P. 244, 319–325; Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.).
СПб., 2000. С. 508–514.
88 РГАСПИ. Ф 17. Оп. 114. Д. 633. Л. 3–4.
89 Охотин Н., Рогинский А.В. Из ист ории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. // И.Л. Щербакова. Наказанный народ. М., 1999; Петров Н.В., Рогинский А.В. Польская операция НКВД 1937–1938 гг. // Гурьянов А.Е. Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997.
90 Blitstein P.A. Stalin’s Nations… P. 164–167.
91 Blitstein P.A. Nation-Building or Russifi cation? Obligatory Russian Instruction in the Soviet Non-Russian School, 1938–1953 // R.G. Suny, T. Martin. A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. New York, 2001. P. 253–274; Переиздание на русском: Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. М., 2011.
92 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 628. Л. 121–122.
93 Там же. Оп. 3. Д. 997. Л. 103.
94 Сталин И.В. Национальный вопрос и ленинизм // И.В. Сталин. Сочинения. М., 1949. Т. 11. С. 333–355; Martin T. Affi rmative Action Empire… P. 442–451; Slezkine Y.N. Ia. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenetics // Slavic Review. 1996. Vol. 55. № 4. P. 826–861.
95 Cooper F. Africa since 1940: The Past of the Present. New York, 2002; Hargreaves J.D. Decolonization in Africa. London, 1988; Chafer T. The End of Empire in French West Africa: France’s Successful Decolonization? Oxford, 2002.
96 Я не утверждаю, что советская национальная политика была предшественником этой колониальной политики. Но логика управления культурным разнообразием в современных условиях, безусловно, предлагала ограниченные возможности, и при выборе доступной альтернативы колониальные державы двигались в направлении советской модели.
97 Dimier V. For a Republic ‘Diverse and Indivisible’? France’s Experience from the Colonial Past // Contemporary European History. 2004. Vol. 13. № 1. P. 53–55.
98 Cooper F. Africa since 1940… P. 77–80.
99 Deak I. How to Construct a Productive, Disciplined, Monoethnic Society: The Dilemma of East Central European Governments, 1914–1956 // A. Weiner. Landscaping the Human Garden: 20th Century Population Management in a Comparative Frame-work. Stanford, 2003. P. 206.
100 Lugard L. Lugard’s Political Memoranda (1918) // A.H. M. Kirk-Greene. The Principles of Native Administration in Nigeria: Selected Documents, 1900–1947. London, 1965. P. 76.
101 Сталин И.В. Сочинения. С. 348.
102 Perham M. Foreword // A.H. M. Kirk-Greene. The Principles of Native Administration in Nigeria: Selected Documents, 1900–1947. London, 1965. P. 12
103 Slezkine Y.N. Imperialism as the Highest Stage of Socialism // Russian Review. 2000. Vol. 59. № 2. P. 231; Payne M.J. The Forge of the Kazakh Proletariat? The Turksib, Nativization, and Industrialization during Stalin’s First Five-Year Plan // R.G. Suny, T. Martin. A State of Nations… P. 223–252.
104 РГАСПИ. Ф. М-l. Оп. 2. Д. 134. Л. 48–49.
105 Michaels P. Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia. Pittsburgh, 2003; Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca, 2004.
106 Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 2. № 1. P. 152.
Об авторах
Питер A. Блитстейн
Университет Лоренс
Автор, ответственный за переписку.
Email: peter.a.blitstein@lawrence.edu
доктор исторических наук, доцент кафедры истории
WI 54911, США, Эпплтон, Болдт Вэй, 711 EСписок литературы
- Волкогонов Д. Триумф и трагедия: политический портрет И.В. Сталина. М.: Новости, 1989. 310 с.
- Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с запанными соседними государствами (конец 1920-1930-х гг.). СПб.: Европейский дом, 2000. 350 с.
- Охотин Н., Рогинский А.В. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937-1938 гг. // И.Л. Щербакова. Наказанный народ. М.: Звенья, 1999. С. 35-74.
- Петров Н.В., Рогинский А.В. Польская операция НКВД 1937-1938 гг. // Гурьянов А.Е. Репрессии против поляков и польских граждан. М.: Звенья, 1997. С. 30-45.
- Сталин И.В. Национальный вопрос и Ленинизм // Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1949. Т. 11. С. 333-355.
- Сталин И.В. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1949. Т. 11. 540 с.
- Augustinos G. The National Idea in Eastern Europe: The Politics of Ethnic and Civic Community. Lexington: D.C. Heath, 1996. 211 p.
- Barkey K., Hagen M. von. After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997. 200 p.
- Banac I. The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca: Cornel University Press, 1984. 456 p.
- Berend I.T. Decades of Crisis: Central and Eastern Europe before World War II. Berkeley: University of California Press, 1998. 485 p.
- Benton L.A. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 285 p.
- Blank S. The Sorcerer as Apprentice: Stalin as Commissar of Nationalities, 1917-1924. Westport: Greenwood Press, 1994. 295 p.
- Blitstein P.A. Stalin’s Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936-1953. PhD duss. University of California, Berkeley, 1999. 566 p.
- Blitstein P.A. Nation-Building or Russifi cation? Obligatory Russian Instruction in the Soviet NonRussian School, 1938-1953 // R.G. Suny, T. Martin. A State of Nations: Empire and NationMaking in the Age of Lenin and Stalin. New York: Oxford University Press, 2001. P. 253-274.
- Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 350 p.
- Burroughs P. Imperial Institutions and the Government of Empire // A. Porter. The Oxford History of the British Empire. The Nineteenth Century. New York: OUP Oxford, 1999. P. 180-210.
- Cameron D. The Principles of Native Administration and Their Application. Lagos: Government Printer, 1934. 210 p.
- Cameron D. Native Administration in Tanganyika and Nigeria // Journal of the Royal African Society. 1937. Vol. 36. № 145. P. 3-29.
- Chafer T. Teaching Africans to Be French? France’s ‘Civilizing Mission’ and the Establishment of a Public Education System in French West Africa, 1903-1930 // Africa. 2001. Vol. 56. № 2. P. 190-209.
- Chafer T. The End of Empire in French West Africa: France’s Successful Decolonization? Oxford: Berg, 2002. 264 p.
- Carrere d’ Encausse H. The Great Challenge: Nationalities and the Bolshevik State, 1917-1930. New York: Holmes & Meier, 1992. 262 p.
- Connor W. Nation-Building or Nation-Destroying? // World Politics. 1972. № 24. P. 319-355.
- Conklin A.L. A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930. Stanford: Stanford University Press, 1997. 384 p.
- Cooper F. Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 677 p.
- Cooper F. Africa since 1940: The Past of the Present. New York: Cambridge University Press, 2002. 230 p.
- Cell J.W. Colonial Rule // J.M. Brown, W.R. Louis. The Oxford History of the British Empire. The Twentieth Century. New York: OUP Oxford, 1999. P. 304-319.
- Crowder M. Indirect Rule-French and British Style // R.O. Collins. Historical Problems of Imperial Africa. Princeton: Markus Wiener, 1994. P. 212-243.
- Crowder M. West Africa under Colonial Rule. Evanston: Hutchinson, 1968. 540 p.
- Dawisha K., Parrott B. The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective. Armonk: M.E. Sharpe, 1997. 374 p.
- Dimier V. For a Republic ‘Diverse and Indivisible’? France’s Experience from the Colonial Past // Contemporary European History. 2004. Vol. 13. № 1. P. 53-55.
- Deak I. How to Construct a Productive, Disciplined, Monoethnic Society: The Dilemma of East Central European Governments, 1914-1956 // A. Weiner. Landscaping the Human Garden: 20th Century Population Management in a Comparative Framework. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 205-218.
- Fink C. Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878-1938. Cambridge: Cambridge University, 2004. 420 p.
- Flint J. Planned Decolonization and Its Failure in British Africa // African Aff airs. 1983. Vol. 82. № 328. P. 389-411.
- Finney P.B. An Evil for All Concerned’: Great Britain and Minority Protection after 1919 // Journal of Contemporary History. 1995. Vol. 30. № 3. P. 533-551.
- Gellner E. The Political Thought of Bronislaw Malinowski // Current Anthropology. 1987. Vol. 28, № 4. P. 557-559.
- Genova J.E. Confl icted Missionaries: Power and Identity in French West Africa during the 1930s // The Historian. 2004. Vol. 66. № 1. P. 45-66.
- Giff ord P., Weiskel T.C. African Education in a Colonial Context: French and British Styles // P. Giff ord, W.R. Louis. France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule. New Haven: Yale University Press, 1971. P. 663-711.
- Hargreaves J.D. Decolonization in Africa. London: Longman, 1988. 263 p.
- Hagen W.W. Before the ‘Final Solution’: Toward a Comparative Analysis of Political Anti-Semitism in Interwar Germany and Poland // Journal of Modern History. 1996. Vol. 68. № 2. P. 351-381.
- Hailey L. An African Survey. London: Oxford University Press, 1938. 28 p.
- Holquist P. Information Is the Alpha and Omega of Our Work’: Bolshevik Surveillance in Its PanEuropean Context // Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415-450.
- Hoff mann D.L. Mothers in the Motherland: Stalinist Pronatalism in Its Pan-European Context // Journal of Social History. 2000. Vol. 34. № 1. P. 35-54.
- Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of Soviet Union. Ithaca: Cornell University Press, 2005. 392 p.
- Hirsch F. Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of Soviet National Identities // Russian Review. 2000. Vol. 59. № 2. P. 202-225.
- Iliff e J. A Modern History of Tanganyika. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 616 p.
- Kolarz W. Russia and Her Colonies. New York: Frederick A. Praeger, 1953. 334 p.
- Korzec P. The Minority Problem of Poland, 1919-1939 // S. Vilfan. Ethnic Groups and Language Rights. New York: Dartmouth Publishing Co, 1993. P. 120 - 135.
- Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjunc-ture // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 2. № 1. P. 110-160.
- Kelly G.P. The Presentation of Indigenous Society in the Schools of French West Africa and Indochina, 1918-1938 // Comparative Studies in Society and History. 1984. Vol. 26. № 3. P. 523-542.
- Kirk-Greene A.H. M. Introduction // A.H. M. Kirk-Greene. The Principles of Native Administration in Nigeria: Selected Documents, 1900-1947. London: Oxford University Press, 1965. P. 1-43.
- Kuklick H. The Savage Within: The Social History of British Anthropology, 1885-1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 325 p.
- Lampe J.R. Yugoslavia as History: Twice There Was a Country. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 441 p.
- Louis W.R. Historians I Have Known // Perspectives. 2001. Vol. 39. № 5. P. 15-47.
- Low D. A., Pratt R.C. Buganda and British Overrule, 1900-1955. London: Oxford University Press, 1960. 373 p.
- Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven: Yale University Press, 2001. 486 p.
- Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation Building and Ethnic Struggle, 1918-1930. Ithaca: Cornell University Press, 1995. 340 p.
- Liber G.O. Soviet Nationality Policy, Urban Growth, and Identity Change in the Ukrainian SSR, 1923-1934. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 316 p.
- Liulevicius V.G. War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity, and German Occupation in World War I. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 121 p.
- Levene M. Nationalism and Its Alternatives in the International Arena: The Jewish Question at Paris, 1919 // Journal of Contemporary History. 1993. Vol. 28. P. 511-531.
- Link A.S. The Deliberations of the Council of Four (March 24-June 28, 1919): Notes of the Offi cial Interpreter, Paul Mantoux. Princeton: Princeton University Press, 1992. 692 p.
- Lugard L. Education and Race Relations // Journal of the Royal African. 1933. Vol. 32. № 126. P. 1-11.
- Lugard L. The Dual Mandate in British Tropical Africa. Hamden: Cass, 1965. 696 p.
- Lugard L. Lugard’s Political Memoranda (1918) // A.H. M. Kirk-Greene. The Principles of Native Administration in Nigeria: Selected Documents, 1900-1947. London: Oxford University Press, 1965. P. 68-149.
- Macartney C.A. National States and National Minorities. London: Oxford University Press, 1934. 572 p.
- Macartney C.A. Hungary and Her Successors: The Treaty of Trianon and Its Consequences, 1919-1937. London: Oxford University Press, 1937. 504 p.
- Mair L.P. The Protection of Minorities: The Working and Scope of the Minorities Treaties under the League of Nations. London: Oxford University Press, 1928. 270 p.
- Mair L.P. Colonial Administration as Science // Journal of the Royal African Society. 1933. Vol. 32. № 129. P. 350-370.
- Mair L. Anthropology and Colonial Policy // African Aff airs. 1975. Vol. 74. № 295. P. 191-195. Malcolm N. Kosovo: A Short History. New York: Macmillan, 1998. 492 p.
- Mamdani M. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton: Princeton University Press, 1996. 384 p.
- Mainmdani M. Historicizing Power and Responses to Power: Indirect Rule and Its Reform // Social Research. 1999. Vol. 66. № 3. P. 859-886.
- Martin P.M. Contesting Clothes in Colonial Brazzaville // Journal of African History. 1994. Vol. 35. P. 401-426.
- Martin T. The Affi rmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001. 496 p.
- Martin T. The Soviet Union as Empire: Salvaging a Dubious Analytical Cate- gory // Ab Imperio. 2002. № 2. P. 143-186.
- Mendelsohn E. Jews of East Central Europe between the World Wars. Bloomington: Indiana University Press, 1983. 300 p.
- Michaels P. Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2003. 264 p.
- Mitter W. German Schools in Czechoslovakia, 1918-1938 // J. Tomiak. Schooling, Educational Policy Ethnic Identity. New York: New York University Press, 1991. P. 211-232.
- Miller D.E. Colonizing the Hungarian and German Border Areas during the Czechoslovak Land Reform, 1918-1938 // Austrian History Yearbook. 2003. Vol. 34. P. 303-317.
- Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 392 p.
- Pablo de Azcirate. League of Nations and National Minorities: An Experiment. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1945. 216 p.
- Perham M. Native Administration in Nigeria. London: Oxford University Press, 1937. 317 p.
- Perham M. Lugard: The Years of Authority, 1898-1945. London: Collins, 1960. 748 p.
- Perham M. Foreword // A.H. M. Kirk-Greene. The Principles of Native Administration in Nigeria: Selected Documents, 1900-1947. London: Oxford University Press, 1965. P. 3-45.
- Perham M. Some Problems of Indirect Rule in Africa // Journal of the Royal African Society. 1934. Vol. 34. № 135. P. 1-23.
- Polonsky A. Politics in Independent Poland, 1921-1939: The Crisis of Constitutional Government. Oxford: Oxford University Press, 1972. 572 p.
- Phillips A. The Enigma of Colonialism: British Policy in West Africa. Bloomington: Indiana University Press, 1989. 184 p.
- Pipes R. The Formation of the Soviet Union: Communism and nationalism, 1917-1923. Cambridge: Harvard University Press, 1964. 365 p.
- Raitz von Frentz Ch. Lesson Forgotten: Minority Protection under the League of Nations. The Case of the German Minority in Poland, 1920-1934. New York: Verlag Münster, 1999. 290 p.
- Raymond F. Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914. New York: Columbia University Press, 1961. 224 p.
- Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914-1923. London: Routledge, 2001. 273 p.
- Rossos A. The British Foreign Offi ce and Macedonian National Identity, 1918-1941 // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 369-394.
- Rudolph R.L., Good D.F. Nationalism and Empire: The Habsburg Empire and the Soviet Union. New York: Richard L. Rudolph and David F. Good, 1992. 313 p.
- Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle: University of Washington Press, 1874. 438 p.
- Sayer D. The Coasts of Bohemia: A Czech History. Princeton: Princeton University Press, 1998. 442 p.
- Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 407 p.
- Smith A., Bull M. Margery Perham and British Rule in Africa. Totowa: Psychology Press, 1991. 243 p.
- Smith J. The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923. New York: St. Martin’s Press, 1999. 281 p.
- Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 414-452.
- Slezkine Y. N. Ia. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenetics // Slavic Review. 1996. Vol. 55. № 4. P. 826-861.
- Slezkine Y. Imperialism as the Highest Stage of Socialism // Russian Review. 2000. Vol. 59. № 2. P. 227-234.
- Spear T. Neo-Traditionalism and the Limits of Invention in British Colonial Africa // Journal of African History. 2003. Vol. 44. № 1. P. 150-170.
- Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford: Stanford University Press, 1993. 200 p.
- Tomiak J. Education of the Non-Dominant Ethnic Groups in the Polish Republic, 1918-1939 // J. Tomiak. Schooling, Educational Policy Ethnic Identity. New York: New York University Press, 1991. P. 185-209.
- Vail L. The Creation of Tribalism in Southern Africa. Berkeley: University of California Press, 1989. 442 p.
- Wilder G. Colonial Ethnology and Political Rationality in French West Africa // History and Anthropology. 2003. Vol. 14. № 3. P. 219-252.
- Young C. The African Colonial State in Comparative Perspective. New Haven: Yale University Press, 1994. 368 p.