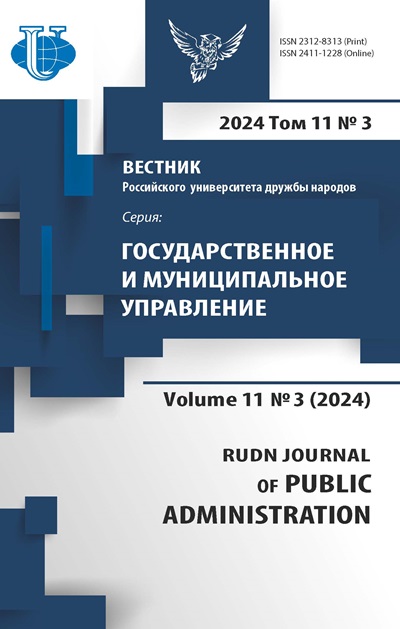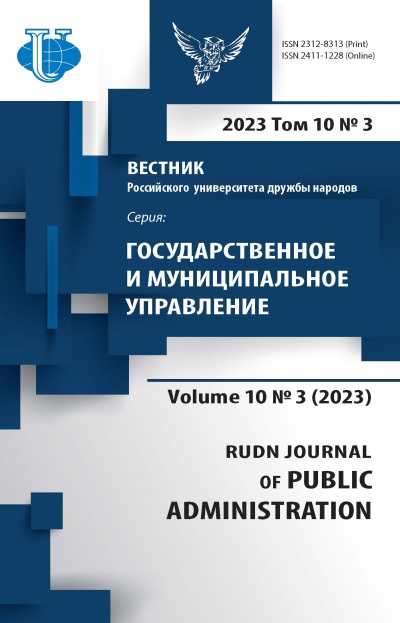Городские сообщества как группы интересов в локальной политике: концептуальный анализ
- Авторы: Кольба А.И.1, Орфаниди Э.В.1
-
Учреждения:
- Кубанский государственный университет
- Выпуск: Том 10, № 3 (2023)
- Страницы: 357-366
- Раздел: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/public-administration/article/view/36394
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8313-2023-10-3-357-366
- EDN: https://elibrary.ru/WZSPSR
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Городские сообщества выступают в локальной политике как одна из разновидностей групп интересов. Рассматриваются каналы и возможности их влияния на формирование политической повестки дня. Анализируются ресурсы взаимодействия сообществ с другими политическими субъектами. Успешность сообществ в защите групповых интересов оценивается с точки зрения двух типов факторов - внутренних, отражающих состояние и ресурсную базу самих сообществ, и внешних, в первую очередь институциональных. Выявлены практики влияния городских сообществ на локальную политику, а также степень и барьеры участия в политических процессах крупных городов в современной России.
Полный текст
Введение Роль городских сообществ в политических процессах локального уровня в настоящее время является предметом весьма активных научных дискуссий. Среди обсуждаемых проблем, в частности, рассматриваются возможности их участия в принятии политических решений по различным вопросам развития городов. Разногласия, несовпадение точек зрения на использование городского пространства, неспособность систем управления городами согласовать интересы различных субъектов становятся причиной многочисленных конфликтов. С позиций теории городского конфликта одним из важных механизмов управления ими может быть обеспечение доступа к обсуждению проектов принимаемых решений представителей значимых в городской среде групп интересов. В связи с этим актуальность приобретает вопрос о том, каким образом городские сообщества могут выступать как группы интересов локального уровня, какие политические институты и механизмы необходимы для этого. Представленное исследование посвящено концептуальному анализу этой проблемы. Особенности реализации групповых интересов на локальном уровне политики Городские сообщества традиционно рассматриваются учеными и экспертным сообществом как важные субъекты городской политики и изменений. Одно из важных направлений научного анализа их активности сложилось в рамках исследований городского конфликта [1-3]. При этом наибольшее внимание уделяется таким аспектам деятельности сообществ, как формирование стратегий поведения в конфликтах, сценарии их развития, влияние конфликтов на решение проблем городского пространства и на развитие самих сообществ, участие в переговорных процессах и т.д. Рассмотрение этих проблем происходит как в контексте возможностей согласования интересов (коллаборативное, адвокативное планирование и др.), так и в рамках более конфликтных сценариев в духе борьбы за «право на город». Последний особенно интересен тем, что отражает существующее неравенство различных сегментов городского населения относительно реализации своих интересов в пространстве города, обусловленное институциональными и ресурсными ограничениями. Как отмечают исследователи, возможности участвовать в конфликтах и решениях относительно существующих в городском пространстве противоречий неравномерно распределяются между различными слоями и группами населения городов [4]. При этом граждане считают процессы формирования политики менее легитимными, если некоторые ключевые заинтересованные стороны имеют в консультациях приоритет над другими [5]. Это неравенство, фиксируемое как на концептуальном, так и на эмпирическом уровне, требует анализа в контексте возможностей организованного представления различных интересов в городской политике, каналах и ресурсах политического влияния её «игроков», в частности, городских сообществ. Взаимодействие групп интересов и органов власти на локальном уровне имеет определённые отличия от схожих видов отношений на более высоких «этажах» политической системы. В частности, группы интересов в местной политике активнее используют механизмы прямого, а не опосредованного, например, через политические партии, взаимодействия с представительной и исполнительной властью [6; 7]. Ряд исследований демонстрирует, что в условиях плюралистического режима городского управления бизнес-структуры, ведущие деятельность на территории города, зачастую имеют не большее влияние, чем объединения граждан (соседские, экологические, религиозные, профсоюзы и др.) [8]. Это также является существенной особенностью локальной политики. Кроме того, в качестве существенных характеристик деятельности местных групп интересов выделяют более низкий уровень конкуренции по поводу реализации той или иной государственной политики и более низкий уровень знаний и участия граждан на субнациональном уровне, что создает условия, которые более благоприятны для групповой активности [9]. Таким образом, роль групп интересов в муниципальной политике весьма значима, и значительную часть городских конфликтов можно рассматривать в контексте их влияния на решение актуальных проблем города. Существенной характеристикой возможностей политического влияния групп интересов на местном уровне является наличие каналов взаимодействия с органами представительной и исполнительной власти. Степень, в которой заинтересованные группы получают доступ к политикам, часто объясняется сосредоточением внимания на обмене ресурсами в диадических отношениях между заинтересованными группами и политиками, а также способностью создавать коалиции [10]. В то же время сообщества, на основе лоббирования получающие доступ к распределяемым государственными или муниципальными властями ресурсам, становятся более рентоориентированными, что проявляется в мобилизации их социального капитала и конвертации его в политическое влияние в борьбе за дальнейшее расширение такого доступа [11]. Значительным фактором с точки зрения доступа к влиянию на проводимую политику также является «плотность» групп интересов в определённой области [12]. Х. Клювер отмечает, что длительность существования группы интересов в политическом пространстве зависит от двух ключевых факторов: общественной значимости представляемых интересов и степени их концентрации в рамках определённого сектора экономики, территории и т.д. [13]. Таким образом, успешность городских сообществ в защите своих интересов зависит от наличия собственных ресурсов (человеческого, социального, политического и других видов капитала), так и от сочетания внешних факторов, связанных с институциональным дизайном и политической конкуренцией в сфере взаимодействия заинтересованных сторон. Исходя из комплекса указанных условий складываются определённые практики их участия в локальной политике и влияния на процессы принятия решений. Практики влияния городских сообществ на локальную политику Одним из зримых проявлений политического влияния городских сообществ на местном уровне является городской активизм, проявляющийся как в деятельности отдельных горожан, так и в возникновении активистских движений. Последнее связано с реакцией на внешние воздействия, угрожающие разрушением сложившихся городских сообществ (со стороны властей или бизнеса), потенциалом самоорганизации, в частности, наличием низовых связей (дружеских, соседских и др.). Зачастую социальные инициативы подобного типа имеют антиинституицональную ориентацию, противопоставляя себя более формализованным организациям (НКО, профсоюзы и др.) и опираясь на сетевые способы коммуникации и управления [14]. Их развитие отражает концепт критического планирования в городской конфликтологии [15]. Степень их влияния на формирование городской политики в отношении актуальных проблем, как правило, зависит от возможности обеспечить достаточно массовое и организованное участие в проводимых акциях. Отсутствие централизованного руководства, а в некоторых случаях - и признаваемого большинством участников лидерства является преимуществом с точки зрения гибкости структуры, но может препятствовать артикуляции и продвижению конструктивных требований, необходимых для участия в принятии решений. Ещё один возможный аспект влияния связан с взаимодействием с политическими организациями, действующими на местном уровне. К таковым прежде всего можно отнести политические партии. В целом отношения между группами интересов и политическими партиями рассматриваются в политической науке как сложный комплекс формальных и неформальных связей, основанных на идеологической близости и возможности обмена ресурсами [16], что позволяет партиям участвовать в процессе лоббирования групповых интересов, не слишком отклоняясь от собственного политического курса [17]. На местном уровне, как уже отмечалось, необходимость взаимодействия с политическими партиями не столь велика для сообществ, однако оно может быть значимым: партии могут кооптировать в свои ряды городских активистов, а те, в свою очередь, придать определённый политический статус себе и своей деятельности. Традиционно политическое влияние осуществляется через институты представительной власти, которые рассматриваются в качестве основных площадок для лоббизма. Корпоративный тип представительства интересов в данных структурах зачастую подвергается критике, однако, как уже упоминалось, способствует легитимации принимаемых решений. В политологических исследованиях распространено мнение, что связь депутатов местных легислатур с гражданами является более тесной в силу пространственной близости. Однако ещё в 1985 г. Г. Эбни и Т. Лаут поставили под сомнение это утверждение, отмечая, что степень чувствительности местной власти к требованиям групп интересов в большей мере определяется институциональными условиями [18]. В целом нет оснований считать, что муниципальные парламенты «по умолчанию» могут быть площадками для преимущественного отстаивания интересов сообществ. Теоретически эффективными для реализации сообщественных интересов могут быть институты прямой демократии на муниципальном уровне, в частности, публичные слушания. Однако в исследованиях их функционирования часто отмечается, что обсуждение в ходе слушаний имеет преимущественно формальный характер и мало влияет на принятие муниципальных актов [19]. Ограничивает возможности для участия в принятии решений, рекомендательный характер принимаемых в режиме «консультативной демократии» [20] заключений, а также необходимость достаточно высокого развития профессиональных навыков оценки и критики обсуждаемых проектов (чаще всего данный механизм принимается в градостроительных и инфраструктурных решениях). В последние десятилетия отмечается рост влияния на принятие политических решений сетевых взаимодействий. Ряд исследователей отмечает весьма значимую роль общественных ассоциаций и некоммерческих организаций в формировании сетей по конкретным проблемам на муниципальном уровне, хотя ключевыми акторами управления все-таки остаются бюрократические структуры [21]. Данный тип взаимодействия может быть описан как гетерархия [22], где инициаторами формирования новых связей могут выступать как властные, так и общественные структуры [23]. Однако само по себе включение городских сообществ в сетевые структуры не гарантирует возможности отстаивать свои интересы в процессе принятия решений. Важно наличие ресурсов, позволяющих оказать влияние на центры их принятия. В связи с растущими темпами цифровизации политики, в том числе и на городском уровне, всё более распространёнными становятся цифросетевые способы взаимодействия с органами власти, в первую очередь исполнительной. Они в некоторых случаях могут стать наиболее коротким путём к реализации интересов соответствующими группами. Формируется «гибридное пространство коммуникаций» [24]. Для городских сообществ это открывает определённые перспективы, о чём косвенно свидетельствует распространение групп, посвящённых городским проблемам, в социальных сетях. Во многом перемещается на цифровые платформы и городской активизм. Однако, как отмечают исследователи, это также создаёт определённые проблемы: в частности, цифровые практики отчуждают пользователей от реальных протестных действий, а различия в доступе к ним порождают новые формы цифрового неравенства и социальные дистанции [25]. Возможности и ограничения реализации групповых интересов городских сообществ в крупных городах современной России Таким образом, городские сообщества имеют возможность «входа» в формирование актуальной повестки дня в локальной политике. При этом их «удельный вес» может ограничиваться рядом факторов, связанных с численностью, структурой и деятельностью самих сообществ. Так, агрегирование интересов и артикулирование требований в публичной сфере требуют достаточного уровня организованности и наличия лидеров, имеющих полномочия представлять сообщество. Для продвижения интересов сообщества необходимы социальные и экономические ресурсы. Важным фактором является численность сообщества и наличие активного «ядра» участников, что обеспечивает репрезентативность представительства интересов. Большое значение имеют и внешние факторы, связанные политико-режимными характеристиками пространства публичной политики. В частности, на муниципальном уровне они проявляются в функционировании городских политических режимов, представляющих собой различного типа коалиции с участием городских властей, бизнеса, действующего на территории города, и, возможно, городских сообществ, которые в этом случае получают возможность выражать и отстаивать свои интересы. Наличие в составе коалиции сообществ, степень их участия в формировании повестки дня, принятии и реализации решений в данном случае являются маркерами влияния. Как отмечают российские исследователи, в крупных российских городах в 2010-х гг. происходит унификация локальных политических порядков, связанная с централизацией власти и сокращением автономии городов. В большинстве из них устанавливаются политически неконкурентные городские режимы, в которых бизнес преимущественно связан с партией власти [26]. Как правило, бизнес широко представлен в городских структурах представительной власти, чему способствует внедрение смешанной системы их избрания, а также часто находится в особых отношениях с городскими администрациями. Способность городских сообществ в этих условиях мобилизоваться и оказывать существенное влияние на принятие решений связана с достаточной плотностью организационных структур [27] (НКО, отделения политических партий, низовые движения, соседские сообщества), которой не наблюдается в большинстве крупных российских городов. Данное обстоятельство также препятствует кооптации более или менее значительной части активистов в структуры публичной политики. В целом роль городских сообществ как групп интересов и их влияние на формирование повестки дня и принятие решений по вопросам, связанным с городскими конфликтами, весьма ограничена. Она в основном сводится к позиции «внимательной публики», которая участвует в публичном дискурсе, однако слабо включена в процессы выбора альтернатив, их утверждения и реализации решений, активизируясь на стадии обратной связи.Об авторах
Алексей Иванович Кольба
Кубанский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: alivka2000@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7663-8890
доктор политических наук, профессор кафедры государственной политики и государственного управления
350040, Россия, Краснодар, Ставропольская ул., 149Эльвира Викторовна Орфаниди
Кубанский государственный университет
Email: elviravictorovna@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5833-882X
соискатель кафедры государственной политики и государственного управления
350040, Россия, Краснодар, Ставропольская ул., 149Список литературы
- Глухова А.В., Кольба А.И., Соколов А.В. Стратегии взаимодействия территориальных сообществ в ходе городских конфликтов (на материалах экспертного опроса в крупных региональных центрах РФ) // Журнал исследований социальной политики. 2021. № 19 (2). С. 239-252. https://doi.org/10.17323/727-0634-2021-19-2-239-252
- Желнина А.А., Тыканова Е.В. «Игроки» на «аренах»: анализ взаимодействий в городских локальных конфликтах (случай Санкт-Петербурга и Москвы) // Журнал исследований социальной политики. 2021. № 19 (2). С. 205-222. https://doi.org/10.17323/727-0634-2021-19-2-205-222
- Скалабан И.А., Сергеева З.Н., Лобанов Ю.С. Защищающиеся. Оборонительные функции сообществ в городских конфликтах (на материалах г. Новосибирска) // Мир России. Социология. Этнология.2022. № 31 (4). С. 33-56. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2022-31-4-33-56
- Verloo N., Davis D. The Phenomenology of Change: How Conflict Drives Urban Transformation // Built Environment. 2021. № 47 (1). Р. 119-135. https://doi.org/10.2148/benv.47.1.119
- Rasmussen A., Rehe S. (Inequality in) Interest Group Involvement and the Legitimacy of Policy Making // British Journal of Political Science. 2023. № 53 (1). Р. 45-64. https://doi.org/10.1017/S0007123422000242
- Cooper C.A., Nownes A.J., Roberts S. Perceptions of Power: Interest Groups in Local Politics // State & Local Government Review. 2005. № 37 (3). Р. 206-216.
- Anzia S.F. Interest Groups in US Local Politics: Introduction to the Special Issue // Interest Groups & Advocacy. 2022. № 11. Р.179-188.
- Molins J.M., Medina I. Local Interest Groups and the Perception of Power in Spanish Cities // Revista Española de Ciencia Política. 2018. № 46. Р. 77-102.
- Anzia S.F. Looking for Influence in All the Wrong Places: How Studying Subnational Policy Can Revive Research on Interest Groups // The Journal of Politics. 2019. № 81 (1). Р. 343-351.
- Beyers J., Braun C. Ties That Count: Explaining Interest Group Access to Policymakers // Journal of Public Policy. 2014. № 34 (1). Р. 93-121.
- Chamlee-Wright E., Storr V. Social Capital, Lobbying and Community-based Interest Groups // Public Choice. 2011. № 149. Р. 167-185.
- Hanegraaff M., Ploeg J., Berkhout J. Standing in a Crowded Room: Exploring the Relation Between Interest Group System Density and Access to Policymakers // Political Research Quarterly. 2020. № 73 (1). Р. 51-64.
- Klüver H. The Survival of Interest Groups: Evidence from Germany // West European Politics. 2020. № 43 (7). Р. 1436-1454.
- Polanska D.V. Going Against Institutionalization: New Forms of Urban Activism in Poland // Journal of Urban Affairs. 2018. № 2. Р. 1-12.
- Merrifield A. The New Urban Question. London: Pluto Press, 2014. 160 p.
- Allern E.H., Klüver H., Marshall D., Otjes S. Rasmussen A., Witko C. Policy Positions, Power and Interest Group-party Lobby Routines // Journal of European Public Policy. 2022. № 29 (7). Р. 1029-1048.
- Allern E.H., Otjes S., Poguntke T., Hansen V.W., Saurugger S., Marshall D. Conceptualizing and Measuring Party-interest Group Relationships // Party Politics. 2021. № 27 (6). Р. 1254-1267.
- Abney G., Lauth T.P. Interest Group Influence in City Policy-Making: the Views of Administrators // Political Research Quarterly. 1985. № 38. Р. 148-161.
- Зуйкина А.С., Никитина В.Л. Публичные слушания: процедурные правила и результаты проведения (на примере города Перми) // Ars Administrandi (Искусство управления). 2018. № 10 (3). С. 502-518.
- Холопов В.А. Эффективность организационно-правового регулирования проведения публичных слушаний как фактор обеспечения легитимности решений органов местной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7. С. 20-24.
- Da Cruz N.F., Rode P., McQuarrie M., Badstuber N., Robin E. Networked Urban Governance: A Socio-Structural Analysis of Transport Strategies in London and New York // Urban Affairs Review. 2022. URL: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/10780874221117463 (дата обращения: 15.03.2023).
- Осипов В.А. Понятие «гетерархия»: концептуализация, предметное поле и эвристические возможности в анализе публичной политики: дис. канд. пол. н. М., 2018. 170 с.
- Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А., Морозова Е.В. Гетерархии как гибридные политические институты новой политической реальности // Каспийский регион: политика, экономика культура. 2015. № 4 (45). С. 116-121.
- Castells M. Communication, Power and Counter-power in the Network Society // International Journal of Communication. 2007. № 1. Р. 238-266.
- Ермолаева П.О., Ермолаева Ю.В., Башева О.А. Цифровой экологический активизм как новая форма экологического участия населения // Социологическое обозрение. 2020. № 19 (3). С. 376-408.
- Бедерсон В., Шевцова И. Застройщики, партия власти и немного конкуренции в российских миллионниках: типология городских режимов в 2010-е гг // Журнал исследований социальной политики. 2021. № 19 (2). С. 285-300.
- Бедерсон В.Д. Московских окон негасимый свет: коммуникационные и организационные факторы гражданской и политической активности в районах Москвы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2022. № 25 (2). С. 158-175.