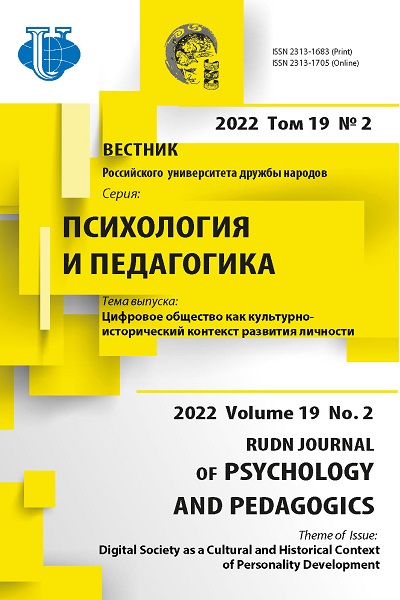Радикализация в информационном обществе: социально-психологический анализ
- Авторы: Бовина И.Б.1, Бовин Б.Г.2, Дворянчиков Н.В.1
-
Учреждения:
- Московский государственный психолого-педагогический университет
- Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России
- Выпуск: Том 19, № 2 (2022): Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития личности
- Страницы: 336-351
- Раздел: ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
- URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/31395
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-2-336-351
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Терроризм не является новым феноменом, он существует более двух тысячелетий, развиваясь, изменяясь и приобретая новые черты и особенности, характерные для той или иной исторической эпохи. Тем не менее одна особенность остается неизменной: терроризм по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для человечества. То, как человек приходит к признанию легитимности террористической деятельности, описывает процесс радикализации. В фокусе внимания настоящей работы - социально-психологический анализ специфики воздействия, сопровождающего процесс радикализации в современном мире. Актуальность обращения к этой проблеме объясняется тем, что меры по противодействию терроризму с необходимостью опираются на знание психологических закономерностей, по которым происходит радикализация. Статья состоит из двух частей: в первой части обсуждаются особенности проблемы терроризма и радикализации в рамках социально-психологического знания. Особое внимание уделяется тому факту, что процесс радикализации - это форма коллективного ответа на ситуацию межгруппового конфликта (реального или воображаемого). Кроме того, в этой части работы обозначается место коммуникации в процессе радикализации. Во второй части речь идет о специфике коммуникативных процессов (их содержания и формы) в связи с радикализацией в информационном обществе.
Ключевые слова
Полный текст
Введение Цель настоящей работы заключается в социально-психологическом анализе специфики воздействия, сопряженного с процессом радикализации в информационном обществе. Терроризм не является новым феноменом. Апеллируя к фактам, приводимым специалистом по международному терроризму А. Крониным (Cronin, 2003), представляется возможным говорить о том, что к первым зафиксированным случаям террористических атак относят событие, имевшее место в Иерусалиме в первом веке до нашей эры. Тогда бойцы, вооруженные кинжалами, совершили серию нападений на своих противников средь бела дня, пыталось таким образом спровоцировать восстание против римского правления (Cronin, 2003). Если рассмотреть это событие с высоты одной из современных трактовок терроризма, где под терроризмом понимаются «действия негосударственных субъектов, связанные с угрозой или фактическим применением незаконной силы или насилия для достижения политической, экономической, религиозной или социальной цели посредством страха, принуждения или запугивания» (Gelfand et al., 2013. P. 496), и учесть следующие разновидности этого явления: терроризм левого толка, правого толка, сепаратистский (националистический) и религиозный, то представляется возможным обозначить атаку в Иерусалиме - как пример сепаратистского или националистического терроризма (Koomen, Van der Pligt, 2016). За все время существования терроризм развивался, изменялся, приобретая новые черты и особенности, характерные для той или иной исторической эпохи, однако одна особенность осталась неизменной: терроризм по-прежнему представляет собой чрезвычайно серьезную угрозу для общества. Разработка надежной стратегии противодействия терроризму является задачей первостепенной важности для обеспечения безопасности государства[39]. Явление терроризма оказывается в фокусе внимания исследователей, представляющих различные дисциплины, среди которых: политические и юридические науки, история и философия, социология и психология. Для понимания специфики терроризма нужно ответить на вопросы о том, почему и как с субъектом происходят трансформации, влекущие за собой признание легитимности терроризма (Borum. Radicalization and involvement in violent extremism I, 2011; Borum. Radicalization and involvement in violent extremism II, 2011), причин, по которым люди отдают предпочтение группам с экстремистскими и радикальными убеждениями, вовлекаются в акты насилия, действуя от имени этих групп. Радикализация являет собой процесс, ведущий к финальной точке - терроризму (Pfundmair et al., 2022). Важно отметить, что радикализация - это своего рода форма коллективного ответа на ситуацию межгруппового конфликта, реального или воображаемого. Отсюда, очевидно, что люди не радикализируются в одиночестве, но только как часть группы, которая конструирует для них социальную реальность, задает определенную социальную идентичность (Van Stekelenburg, Klandermans, 2010). И важное место в этом взаимодействии отводится коммуникации и воздействию. Здесь, перед тем как продвигаться в сторону социально-психологического анализа обозначенной проблемы, стоит обратить внимание читателя на один важный момент. Дело в том, что в литературе существуют многочисленные попытки определить как понятие терроризма (Kruglanski, Fishman, 2009, Wieviorka, 2020), так и радикализации (McCauley, Moskalenko, 2008; Pfundmair et al., 2022), более того, предлагается говорить о радикализме, который «является специфической формой субъективного переживания и восприятия, исключающей возможности критической оценки» (Емелин, Тхостов, 2019. C. 91). Воспользуемся наблюдением А. Круглянски, согласно которому, «понятие терроризма оказалось невосприимчивым к согласованному определению» (Kruglanski, Fishman, 2009. P. 2), а также замечанию М. Вьеверки, согласно которому, сложно дать определение явлению терроризма, ибо в первую очередь термин принадлежит СМК и повседневному языку; не вступая в дискуссию, остановимся в настоящей работе на тех определениях терроризма и радикализации, которые мы обозначили выше. Попытки разработать действенные профилактические меры, а также стратегии противодействия терроризму могут основываться только на знании о психологических механизмах, стоящими за процессом радикализации, а также на эмпирически проверенных теоретических объяснениях. Не будет преувеличением, если мы скажем, что даже беглого взгляда на социально-психологическую литературу достаточно для того, чтобы заметить, что эти вопросы давно занимают научное сообщество, что на настоящий момент существует значительное количество работ исследователей из самых различных регионов планеты, пытающихся осмыслить проблемы глобального терроризма в целом и радикализации, в частности. Как отмечает А. Силке (Silke, 2019), опираясь на анализ работ, представленных в системе Google Scholar: после событий 11 сентября 2001 г. и вплоть до 2016 г., каждый день публиковались сотни работ (самого различного уровня - будь то монографии, журнальные статьи, тексты диссертаций), в которых присутствовали бы понятия «терроризм» (или «террорист»). В литературе обсуждаются разнообразные теоретические модели, призванные ответить на обозначенные выше вопросы, апеллируя к объяснительным конструктам всех уровней эпистемологического континуума, предложенного В. Дуазом, а именно: интраиндивидуального, интериндивидуального, позиционного и идеологического (Doise, 1986). Модели, призванные объяснить процесс радикализации, подразделяются на две группы - континуумные, где в фокусе внимания оказываются факторы, которые влияют на процесс радикализации, и поэтапные, где в фокусе внимания оказывается содержание самого процесса радикализации (King, Taylor, 2011). Очевидно, что процесс радикализации сопряжен с определенным воздействием. Если взглянуть на стадии радикализации, изложенные в поэтапных моделях, то можно заметить, что переход от стадии к другой с необходимостью сопровождается включенностью в коммуникативный процесс. Взяв в качестве примера модель Р. Борема (Borum. Radicalization and involvement in violent extremism I, 2011; Borum. Radicalization and involvement in violent extremism II, 2011), являющуюся своего рода описанием прототипической психологической траектории, по которой человек приходит к терроризму, заметим, что в ней предлагается говорить о том, как происходит динамика социально-перцептивных процессов, которые играют важную роль в межгрупповых отношениях. Так, стартовой точкой является переживание индивидом некоторого недовольства, связанного с социальной и экономической депривацией, переживания социального неравенства и обиды, далее он переходит к стадии обвинения определенной группы, приписыванию ей ответственности за свое положение, а также к стадии стереотипизации и демонизации врага. Очевидно, что трансформация не происходит сама по себе, но является результатом определенного воздействия, вовлеченности радикализирующегося индивида в соответствующую коммуникацию. Сходная логика заключена и в модели Ф. Мохаддама (Moghaddam, 2005), где радикализация рассматривается как поступательный процесс, продвижение по ступенькам - это метафора, визуализирующая его. Пройдя через шесть стадий, индивид приходит к терроризму как легитимной акции. Опять же и этот путь индивид не предпринимает в одиночестве, на каждой из этих стадий имеет место соответствующее воздействие. В модели М. Сейджмена (King, Taylor, 2011) воздействию отводится значительное внимание, по сравнению с другими постадийными моделями. Так, стартовой точкой процесса радикализации, оказывается переживание негодования и гнева (например, негативная реакция на вторжение в Ирак) (King, Taylor, 2011). На следующей стадии ключевым является призма, используемая индивидом для интерпретации мира. Мир делится на своих и врагов, принцип «Мы - Они» оказывается ключевым для построения картины мира. На следующей стадии - речь идет о связи личного опыта с дискриминацией и трудностями социально-экономического толка. Наконец, на заключительной стадии происходит мобилизация с помощью коммуникативных сетей, в интернет-пространстве радикализирующиеся субъекты валидизируют свои идеи. Интернет фасилитирует процесс общения и взаимодействия между радикализирующимися субъектами. Постадийные модели радикализации, несомненно, учитывают факт воздействия, но не делают этот аспект ключевым, а скорее фокусируют внимание на тех изменениях, которые происходят с субъектом. Отсюда, специфика стратегий воздействия террористических организаций, оказывается темой, которая требует специфического анализа и исследования. Проспективные экспериментальные исследования, которые позволили бы проверить предположения, опирающиеся на упомянутые выше объяснительные схемы радикализации, едва ли существуют, по очевидным причинам. Попытки предпринять экспериментальные проверки моделей радикализации в другом предметном поле оказывается единственным способом проверки объяснительных моделей. Стоит подчеркнуть, что трансформация терроризма из классического (ограниченного рамками какого-либо одного национального государства) в глобальный (выходящий за границы одного государства, приобретающий совершенно другой масштаб, становящийся безграничным по своему охвату и масштабу), как пишет М. Вьеверка (Wieviorka, 2020), связана с двумя террористическим атаками, произошедшими ранним утром 23 октября 1983 г. в Бейруте, когда грузовики, начиненные взрывчаткой, врезались в казармы. Целью действий террористов-смертников оказались военные-миротворцы (атаки лишили жизни 248 американских и 58 французских военных). Наивысшей точки по своему драматизму терроризм достиг 11 сентября 2001 г., когда четыре самолета, захваченные группами террористов, были направлены на различные важные объекты (среди которых - башни ВТЦ, Пентагон), тогда 2977 человек погибли. Возникновение и широкое распространение новых информационных технологий, по иронии судьбы, как нельзя лучше соответствует запросам этой трансформации. Радикализация в информационном обществе Очевидно, что возникновение и широкое распространение технологий, включая интернет, являет собой характерную особенность современного мира. Количество пользователей сети Интернета, новых социальных медиа постоянно возрастает, эта динамика аппроксимируется экспонентой. Ключевой группой потребителей новых информационных технологий оказываются представители подростково-молодежной среды (Smahel et al., 2020). Интернет, благодаря сопутствующим техническим устройствам, индивидуализировался и стал мобильным (Livingstone et al., 2011). Пятая информационная революция существенно трансформировала современный мир (Ракитов, 1994), внеся серьезные изменения как в профессиональную, так и в повседневную жизнь каждого человека. По наблюдению А. Кенде с коллегами: «Социальные медиа (и сопутствующие им технологии) представляют собой, вероятно, самый большой переворот в том, как люди общаются и взаимодействуют друг с другом со времен Уильяма Джеймса» (Kende et al., 2015. P. 277). Суть этого переворота заключается в трансформации как самого процесса коммуникации, в частности - его упрощения, так и в изменении норм, регулирующих коммуникации, преобразовании властных отношений участников коммуникации, в модификации понимания того, где находится граница между публичной и частной сферами (Marzouki, 2016). Стороны общения в интернет - пространстве имеют самые разнообразные возможности для того, чтобы сконструировать свою идентичность, управлять ею. Заметим, что все это происходит иным образом, чем в реальной жизни. Общение в сети Интернет стало доступнее и безопаснее, чем общение в реальности: оно не требует усилий, его можно прекратить в любой момент. Таким образом, можно говорить о том, что эта новая модель общения с использованием новых технологий является скорее иллюзией общения, чем общением как таковым (Емелин и др., 2012). Очевидно, что интернет открывает перед индивидом обширные возможности[40], которых не было до возникновения и широкого распространения этой технологии. Интернет сам по себе является средством радикализации, в том смысле, что каждый его пользователь имеет возможность высказывать свою позицию достаточно свободно. Для маргинализированных групп, оказавшихся исключенными из официальных медиа, эта арена становится очень важным пространством, единственным местом для публичного высказывания своей позиции (Van Stekelenburg et al., 2010). Интернет - это пространство, которое отличается от реальной ситуации общения, оно не является «ни частным, ни публичным в традиционном смысле этих слов» (Khosrokhavar, 2017. P. 58). Будучи поляризованным пространством, интернет, по меткому замечанию Ф. Хосрохавара, объединяет людей, разделяющих некоторые воззрения, и стремящихся повлиять на других, чтобы они присоединились к них, разделили то же видение. Едва ли это сектантское пространство, но оно не обладает открытостью в той мере, в которой это происходит в реальном публичном пространстве (Khosrokhavar, 2017). Словами Ф. Хосрохавара, здесь, в квазигосударственном и полуприватном пространстве сети Интернет, возникает атмосфера, которая дает пользователям ощущение участия в так называемом «теплом сообществе» (Khosrokhavar, 2017. P. 58), пусть даже и виртуального качества. Эта логика вполне совпадает с той, к которой обращается М. Хогг в своей объяснительной схеме радикализации - модели неопределенности - идентичности (Hogg, 2007). В ситуации так называемого парадокса постмодернизма, когда современный человек получает разнообразные степени свободы, однако при этом страдает от неопределенности, незнания что делать с этой свободой (Кем быть? Что чувствовать? Что делать? Что думать?). Отсюда - поиск определенности (словами М. Хогга, скорее - снижения неопределенности, поскольку определенности едва ли достижима (Hogg, 2007)), а в результате: предпочтение отдается идеологическим системам убеждений. Материалы, транслируемые террористическими организациями в сети Интернет, соответствуют этому запросу радикализирующегося индивида. Для анализа классических систем массовой коммуникации (до возникновения интернета) плодотворной видится идея С. Московиси, который в рамках теории социальных представлений предложил различать три типа таких систем с учетом их формы и содержания (Moscovici, 1976): распространение, воспроизведение и пропаганда. Распространение нацелено на то, чтобы транслировать интересующую информацию максимально широкой аудитории. Эта система не предусматривает опоры на особенности аудитории, стиль повествования характеризуется нейтральностью (чтобы не возникало ощущения, что сообщение направлено на какую-то особенную группу, категоризованную по социально-демографическому, культурному и идеологическому принципу). Источник коммуникации нацелен на побуждение интереса к сообщаемой теме, используя простые конструкции, доступные гетерогенной аудитории. Воспроизведение и пропаганда являются специфическими системами коммуникации, они учитывают определенную аудиторию, к которой обращаются, а также принимают во внимание ценности, принципы, образ мира этой определенной аудитории. Очевидно, что в обоих случаях коммуникатор нацелен на аудиторию меньшего объема, более гомогенную, стиль коммуникации приобретает здесь специфическую форму. Так, в случае воспроизведения нацеленность на определенные группы, имеющие сходные взгляды относительно некоторого явлении, коммуникатор апеллирует к нормам и ценностям групп. Таким образом, трансляция новой информации происходит через призму знакомых категорий и идей, разделяемых группой воззрений. Пропаганда нацелена на усиление идентичности членов группы, побуждения к действию. Возникновение и широкое развитие интернета не осталось вне поля развития теории социальных представлений, в частности, была предложена новая система коммуникации - эффузия. Стороны коммуникации обладают равными статусами, их позиция власти в процессе коммуникации взаимозаменяемы, асимметрия статуса, характерная для обозначенных выше коммуникативных систем, - отсутствует. Эта система вполне соответствует изменениям процесса коммуникации, о которых речь шла выше (Marzouki, 2016). Цели коммуникатора и аудитории в случае эффузии, отличаются от оных в классических системах, описанных С. Московиси (Moscovici, 1976). Здесь предполагается как обмен информацией, так и впечатлениями, оценками, чувствами и эмоциями. Ф. Бушини проводит аналогии между этой системой коммуникации и слухами, поскольку в обоих случаях информация передается от коммуникатора к реципиенту, каждый из них - взаимозаменяем и обладает равным статусом (Buschini, 2016). Эта система коммуникации подразумевает не только ориентацию на других, но и активное вовлечение в коммуникацию ее участников, что объясняет трансформации общения в сети Интернет. Все эти системы коммуникации используются террористическими организациями для воздействия и рекрутирования новых членов (Conesa et al., 2016; Moliner et al., 2018). Потенциал новой коммуникативной системы - эффузии - особенно велик, если учитывать возможности конструирования реальности в сети Интернет и специфику процесса общения онлайн, о которой говорилось выше. Теперь каждый реципиент становится коммуникатором, что облегчает задачу распространения идей от имени террористической организации. В современном мире террористические организации активно используют все эти достижения технологического прогресса. Они, по сути, встраиваются в глобализированную систему, сливаются с ней (Бодрийяр, 2017) используют самые последние достижения и преимущества цивилизации для того, чтобы бороться с этой самой цивилизацией. Используя возможности сети Интернет, террористические организации теперь могут сделать то, что практически невозможно было бы даже вообразить до появления этого технического средства: для установления и развития контактов открываются колоссальные, по своим размерам и географическому охвату, аудитории. С помощью сети Интернет и социальных медиа становится доступным рекрутирование в свои ряды все новых и новых бойцов, контроль за их действиями, управление их деятельностью на расстоянии (Conesa et al., 2016). Не говоря о тиражировании самой разнообразной информации, а также о возможности своего рода нормализации имиджа террористической организации за счет того, что в социальных медиа повествование об участии в террористической организации ведется женщинами (Spencer, 2016). Примечательна трансформация стратегии воздействия, используемой террористическими организациями, как с точки зрения содержания, так и формы. Как отмечает Ф. Хосрохавар, Аль-Каида*[41] не предпринимала попыток упрощения и донесения до широких слоев теологических идей джихадистского ислама (Чайников, 2019). В случае ИГ* - информационная политика приняла другие очертания, расширив аудиторию, используя не только арабоязычное пространство (Чайников, 2019). Если в центре коммуникации Аль-Каиды* находился лидер организации, то в случае ИГ* - ключевой фигурой повествования становится рядовой боец (Hamid et al., 2017). На преобразование форм воздействия обращает особенное внимание Ф. Хосрохавар (Чайников, 2019). Сравнение специфики воздействия, которую использовала террористическая организация Аль-Каида*, с оной у ИГ*, дает основания говорить о серьезных модификациях. В частности, ИГ* стали использоваться популярные темы из западных сериалов, видеоигр, рекламы, музыкальных произведений. Знакомый контекст (будь то аудио- или видео-) приобретает, однако, новый смысл за счет того, что в легко всплывающие в памяти образы встраиваются новые идеи - терроризма. Эта стратегия воздействия является наглядной иллюстрацией идеи, высказанной Ж. Бодрийяром, относительно встроенности террористической организации в глобализированную систему и использования этой системы для борьбы с ней же самой (Бодрийяр, 2017). Как следствие, слияние террористической организации с глобализированной системой несет в себе серьезную опасность для современной цивилизации и требует постоянной разработки все новых и новых систем противодействия терроризму. Другими словами, система противодействия предполагает действие на опережение, своего рода предвосхищение шагов представителей террористических организаций. С точки зрения Ф. Хосрохавара, трансформация стратегии коммуникации с использованием новых технологий с появлением ИГ* обусловлена двумя важными факторами: с одной стороны, у этой террористической организации имелись значительные финансовые ресурсы для развития и совершенствования информационной политики, с другой - были привлечены специалисты, получившие образование в Западных странах (Чайников, 2019). Как отмечалось выше, женщины получили возможность иметь свое пространство в сети Интернет, где они могут участвовать обсуждениях, высказывать свою позицию, сохраняя при этом свою анонимность (Чайников, 2019), что является, несомненно, новой информационной стратегией ИГ*. В информационном обществе интернет, став новым средством массовой коммуникации, потеснил традиционные институты социализации - будь то семья или школа (Юревич, 2013). Из трех важных социальных функций, которые выполняют средства массовой коммуникации (информационная, образовательная и развлекательная (Богомолова, 2008) именно последняя является ключевой в случае интернета в подростково-молодежной среде. Интернет встраивается в повседневную жизнь человека, преобразуя его картину мира, создавая ощущение, будто бы индивид является важным участником различных глобальных процессов (Тихонова и др., 2017; Tateo, 2016). Как уже отмечалось, если интернет предоставил современному человеку возможности, которых у него никогда не было до этого[42], то одновременно с этим террористические организации получили эти возможности для реализации своей деятельности. В современном информационном мире, где доминирующей риторикой является визуальная (Rose, 2014), можно говорить о целом ряде изменений: если для поколения родителей современных подростков и молодежи тексты обладали «легитимной властью», то для самих подростков и молодежи именно изображения, визуальная риторика, приобрели легитимную власть (Kalmus, 2007). И террористические организации умело выстраивает стратегию коммуникации в полном соответствии с этими изменениями, принимая во внимание риторику «визуальной культуры» современности, говоря на языке, привычном для представителей подростково-молодежной среды. С одной стороны, на доминирование изображений в экстремистских изданиях уже обращалось внимание в литературе (Conesa et al., 2016). Факт преобладания изображений над текстами несложно объяснить тем, что это способ преодоления языковых барьеров, поскольку открывается возможность беспрепятственно обращаться к еще более многочисленной аудитории в различных географических точках планеты. Отсюда можно ожидать, что визуальные аспекты экстремистского воздействия более не зависят от контекста, специфичного для каждой культуры. Этим достижением достаточно успешно пользуются современные террористические организации. С другой стороны, изображения, благодаря своей аффективной составляющей, нацелены на усиление того сообщения, которое транслируется в тексте. Отсюда, если сами изображения задуманы для воздействия на аудиторию, на призыв к определенным действиям, тогда эти изображения будут только способствовать актуализации идей, конгруэнтных тому, о чем говорится в соответствующем тексте (Moscovici, 1976). Своего рода иллюстрацию такого сочетания обнаруживаем на примере результатов сравнительного исследования стратегии коммуникации в текстах и изображениях, используемых изданиями Аль-Каиды* и ИГ* (Moliner et al., 2018). Изображения транслируют позитивный образ бойца, привлекая таким образом новых членов террористической организации, предлагая новую групповую идентичность. Сами же тексты - направлены на укрепление чувства принадлежности, они обозначают врага и призывают к определенным действиям против него. Если обратиться к понятиям теории социальных представлений С. Московиси (Moscovici, 1976), обозначенным выше, то можно говорить о том, что изображения выстроены в логике коммуникативной системы воспроизведения (коммуникатор адресует свое сообщение группе, чьи ценности и принципы ему известны, встраивая в эту картину мира новую информацию). Тексты же выстроены в логике коммуникативной системы пропаганды (когда коммуникатор адресует свое сообщение группе, чьи ценности ему известны, а его задача в сплочении группы, путем обозначения врага и направления коллективных действий в отношении этого врага). Заключение Безопасность и противодействие терроризму представляют собой одно из приоритетных направлений развития науки в России. С психологической точки зрения, разработка мер воздействия с необходимостью предполагает понимание того, как человек радикализируется, как он присоединяется к группам и организациям террористического толка, почему и как происходят трансформации, влекущие за собой признание легитимности терроризма. Более того в фокусе внимания должны быть закономерности и механизмы дерадикализации. Процесс радикализации является формой коллективного ответа на ситуацию межгруппового конфликта, будь он реальным или воображаемым. Люди не радикализируются в одиночестве, но как часть группы, которая конструирует для них социальную реальность и определяет социальную идентичность, о чем свидетельствует представленное теоретико-аналитическое исследование. Процесс радикализации связан с разнообразными информационными стратегиями. В настоящей работе нами был предпринят социально-психологический анализ особенностей воздействия, сопряженного с тем, что процесс радикализации в современном мире разворачивается в информационном обществе, когда террористические организации используют все достижения цивилизации для реализации своих целей. Они, по сути, встраиваются в глобализированную систему, говоря словами Ж. Бодрийяра, «cливаются с ней» (Бодрийяр, 2017), используют преимущества цивилизации для того, чтобы бороться с ней самой. Система противодействия терроризму в современном мире предполагает действие на опережение, своего рода предвосхищение шагов представителей террористических организаций.Об авторах
Инна Борисовна Бовина
Московский государственный психолого-педагогический университет
Email: innabovina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9497-6199
доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры клинической и судебной психологии
Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29Борис Георгиевич Бовин
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России
Email: bovinbg@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9255-7372
кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Российская Федерация, 125130, Москва, ул. Нарвская, д. 15А, стр. 1Николай Викторович Дворянчиков
Московский государственный психолого-педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: dvorian@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1462-5469
кандидат психологических наук, доцент, декан факультета юридической психологии
Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29Список литературы
- Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М.: Аспект пресс, 2008. 191 с.
- Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. М.: Рипол-Классик, 2017. 226 с.
- Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Технология и идентичность: трансформация процессов идентификации под влиянием технического прогресса // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 9. С. 33.
- Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Современный радикализм: феноменология, происхождение, механизмы // Вопросы философии. 2019. № 7. С. 89-98. https://doi.org/10.31857/S004287440005730-8
- Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 14-34.
- Тихонова А.Д., Дворянчиков Н.В., Эрнст-Винтила А., Бовина И.Б. Радикализация в подростково-молодежной среде: в поисках объяснительной схемы // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13. № 3. С. 32-40. https://doi.org/10.17759/chp.2017130305
- Чайников Ю.В. 2019.04.008. Хосрохавар Ф. Кибер-Халифат ИГИЛ*. Khosrokhavar F. Le cyber-califat de Daech // Carnet du Caps. - Paris, 2018. - N 26. - Р. 89-100 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и Африканистика. Реферативный журнал. 2019. № 4. С. 96-99.
- Юревич А.В. Три источника и три составные части поддержания нравственности в обществе // Психологические исследования нравственности / отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. С. 8-27.
- Borum R. Radicalization and involvement in violent extremism I: a review of definitions and applications of social science theories // Journal of Strategic Security. 2011. Vol. 4. No 4. Рp. 7-36. http://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1
- Borum R. Radicalization and involvement in violent extremism II: a review of conceptual models and empirical research // Journal of Strategic Security. 2011. Vol. 4. No 4. Рp. 37-62. http://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.2
- Buschini F. Diffusion, propagation, propagande: et après? L’effusion, un nouveau mode de communication médiatique pour l’étude des représentations sociales // EASP Small group meeting in honor of Serge Moscovici. 2016, 17-18 November.
- Conesa P., Huyghe F.B., Chouraqui M. La propagande francophone de Daech: la mythologie du combattant heureux. FMSH. Observatoire des radicalisations. Paris, 2016. 230 p.
- Cronin A.K. Behind the curve. Globalization and international terrorism // International Security. 2003. Vol. 27. No 3. Pp. 30-58. https://doi.org/10.1162/01622880260553624
- Doise W. Levels of explanation in social psychology / trans. by E. Mapstone. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 204 p.
- Gelfand M.J., LaFree G., Fahey S., Feinberg E. Culture and extremism // Journal of Social Issues. 2013. Vol. 69. No 3. Рp. 495-517. https://doi.org/10.1111/josi.12026
- Hamid N., Atran S., Gomez A., Ginger J., Sheikh H., López-Rodríguez L., Vázquez A. Terror networks: their ecologies and evolution // 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology. Granada, 2017, July 5-8.
- Hogg M.A. Uncertainty-identity theory // Advances in experimental social psychology / ed. by M.P. Zanna. San Diego: Academic Press. 2007. Vol. 39. Pp. 69-126. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)39002-8
- Kalmus V. Socialization in the changing information environment: Implications for media literacy // Media Literacy: A Reader / ed. by D. Macedo, S.R. Steinberg. New York: Peter Lang, 2007. Рp. 157-165.
- Kende A., Ujhelyi A., Joinson A., Greitemeyer T. Putting the social (psychology) into social media // European Journal of Social Psychology. 2015. Vol. 45. No 3. Pp. 277-278. https://doi.org/10.1002/ejsp.2097
- Khosrokhavar F. Radicalization: why some people choose the path of violence / trans. by J.M. Todd. New York: The New Press, 2017. 177 p.
- King M., Taylor D.M. The radicalization of homegrown Jihadists: a review of theoretical models and social psychological evidence // Terrorism and Political Violence. Vol. 23. No 4. 2011. Рp. 602-622. https://doi.org/10.1080/09546553.2011.587064
- Koomen W., van der Pligt J. Introduction // The Psychology of Radicalization and Terrorism / ed. by W. Koomen, J. Van der Pligt. New York: Routledge, 2016. Pp. 1-11. https://doi.org/10.4324/9781315771984
- Kruglanski A., Fishman S. Psychological factors in terrorism and counterterrorism: individual, group, and organizational levels of analysis // Social Issues and Policy Review. 2009. Vol. 3. Pp. 1-44. https://doi.org/10.1111/j.1751-2409.2009.01009.x
- Livingstone S., Haddon L., Görzing A., Őlafsson K. EU Kids Online: final report 2011. London, 2011. 54 p.
- Marzouki Y. La conscience collective virtuelle: un nouveau paradigme des comportements collectifs en ligne // Les représentations sociales. Théories, méthodes et applications / ed. by G. Lo Monaco, S. Delouvée, P. Rateau. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur, 2016. Pp. 413-415.
- McCauley C., Moskalenko S. Mechanisms of political radicalization: pathways towards terrorism // Terrorism and Political Violence. 2008. Vol. 20. No 3. Pp. 415-433. https://doi.org/10.1080/09546550802073367
- Moghaddam F.M. The staircase to terrorism: a psychological exploration // American Psychologist. 2005. Vol. 60. No 2. Рp. 161-169. https://doi.org/10.1037/0003-066x.60.2.161
- Moliner P., Bovina I., Tikhonova A. Images propagatrices et textes propagandistes dans la communication islamiste // Congrès International de Psychologie Sociale en Langue Française (Louvain-la-Neuve, 4-6 juillet 2018). 12ème edition. Louvain-la-Neuve, 2018.
- Moscovici S. La psychanalyse, son image et son public. Paris: Presses Universitaires de France, 1976. 506 p.
- Pfundmair M., Aßmann E., Kiver B., Penzkofer M., Scheuermeyer A., Sust L., Schmidt H. Pathways toward Jihadism in Western Europe: an empirical exploration of a comprehensive model of terrorist radicalization // Terrorism and Political Violence. 2022. Vol. 34. No 1. Pp. 48-70. https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1663828
- Rose G. On the relation between ’visual research methods’ and contemporary visual culture // Sociological Review. 2014. Vol. 62. No 1. Pp. 24-46. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12109
- Silke A. The study of terrorism and counterterrorism // Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism. New York: Routledge, 2019. Pp. 1-10. https://doi.org/10.4324/9781315744636
- Smahel D., Machackova H., Mascheroni G., Dedkova L., Staksrud E., Ólafsson K., Livingstone S., Hasebrink U. EU Kids Online 2020: survey results from 19 countries. London, 2020. 157 p. https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo
- Spencer A.N. The hidden face of terrorism: an analysis of the women in Islamic state // Journal of Strategic Security. 2016. Vol. 9. No 3. Pp. 74-98. http://doi.org/10.5038/1944-0472.9.3.1549
- Tateo L. Représentations sociales et nouvelles technologies // Les représentations sociales. Théories, méthodes et applications / ed. by G. Lo Monaco, S. Delouvée, P. Rateau. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur, 2016. Pp. 399-408.
- Van Stekelenburg J., Klandermans P. Radicalization // Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. A Multidisciplinary Perspective / ed. by A.E. Azzi, X. Chryssochoou, B. Klandermans, B. Simon. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2010. Pp. 181-194. https://doi.org/10.1002/9781444328158.ch9
- Van Stekelenburg J., Oegema D., Klandermans P. No radicalization without identification: how ethnic Dutch and Dutch Muslim web forums radicalize over time // Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. A Multidisciplinary Perspective / ed. by A.E. Azzi, X. Chryssochoou, B. Klandermans, B. Simon. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2010. Pp. 256-274. https://doi.org/10.1002/9781444328158.ch13
- Wieviorka M. From the “classic” terrorism of the 1970s to contemporary “global” terrorism // Societies Under Threat / ed. by D. Jodelet, J. Vala, E. Drozda-Senkowska. Cham: Springer, 2020. Pp. 75-85. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39315-1_7