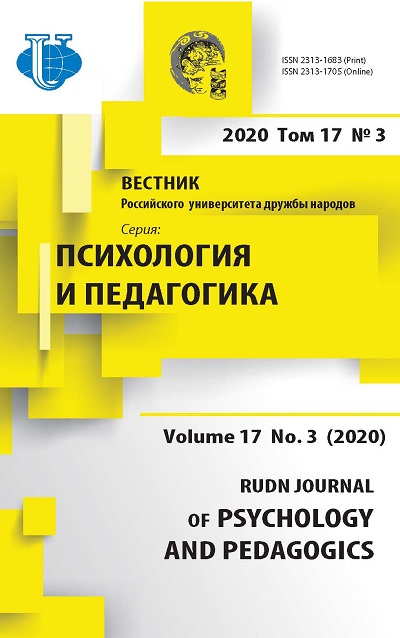Взаимосвязь школьной вовлеченности и саморегуляции учебной деятельности: состояние проблемы и перспективы исследований в России и за рубежом
- Авторы: Фомина Т.Г.1, Потанина А.М.1, Моросанова В.И.1
-
Учреждения:
- Психологический институт Российской академии образования
- Выпуск: Том 17, № 3 (2020)
- Страницы: 390-411
- Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИИ И МИРЕ
- URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/24710
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-3-390-411
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлен теоретико-методологический анализ проблемы школьной вовлеченности, исследования которой чрезвычайно актуальны на настоящий момент в зарубежной психологии образования. Вовлеченность учащихся является надежным маркером эффективной организации обучения, а также выступает важным академическим результатом, стремление к которому свидетельствует об эффективности образовательной среды школы. Основная задача статьи состояла в анализе современного состояния проблемы школьной вовлеченности и особенностей изучения взаимосвязи школьной вовлеченности и саморегуляции учебной деятельности в отечественной и зарубежной психологии. Сформулировано рабочее определение вовлеченности, согласно которому под школьной вовлеченностью понимается устойчивое, направленное, активное участие обучающихся как в учебной деятельности, так и в школьной жизни в целом, включающее наблюдаемые и ненаблюдаемые взаимодействия с академическим социальным окружением. Проведена оценка основных моделей школьной вовлеченности, используемых в исследовательских и практических целях. Обоснована эффективность подхода, согласно которому школьная вовлеченность рассматривается как многомерный конструкт, включающий поведенческий, эмоциональный и когнитивный компоненты. Рассмотрены различия школьной вовлеченности и академической мотивации. Проанализирована специфика проявления основных компонентов школьной вовлеченности и их взаимосвязи с самопроцессами, в частности с саморегуляцией. Обнаружено, что в отечественной психологии вопросы, связанные с изучением школьной вовлеченности и специфики ее взаимосвязи с различными психологическими феноменами, пока не получили широкого рассмотрения. Обозначены перспективы верификации зарубежных моделей школьной вовлеченности и диагностического инструментария на российских выборках, а также изучения осознанной саморегуляции учебной деятельности как ресурса школьной вовлеченности учащихся в разные периоды обучения.
Полный текст
Введение В последние два десятилетия существенно возрос интерес исследователей и практиков к проблеме школьной вовлеченности (Appleton et al., 2006; Fredricks et al., 2004; Jimerson et al., 2003; Wang, Eccles, 2013 и др.). Многочисленные эмпирические данные свидетельствуют о том, что школьная вовлеченность связана с академической успеваемостью и субъективным благополучием учащихся (Chase et al., 2014; Datu, King, 2018; Pietarinen et al., 2014; Upadyaya, Salmela-Aro, 2013), препятствует академическому стрессу, истощению и возникновению депрессии у учащихся (Li, Lerner, 2011; Raufelder et al., 2014; Wang, Fredricks, 2013) и выступает основой продуктивных межличностных взаимодействий (Dottere, Lowe, 2011; Roorda et al., 2011). Практическая значимость изучения феномена вовлеченности обусловлена взаимосвязью между академическими достижениями и вовлеченностью учащихся, запускающей эффективный цикл обучения, проявляющийся в том, что вовлеченность способствует успехам в учебе, которые, в свою очередь, еще больше способствуют включенности в учебную деятельность (Lei et al., 2018). Кроме этого, школьная вовлеченность сама по себе выступает важным академическим результатом, свидетельствующем об эффективности образовательной среды школы. Однако в современных условиях цифровизации школы сталкиваются с серьезными проблемами снижения вовлеченности учащихся, что актуализирует изучение механизмов поддержания ее оптимального уровня. Одним из таких механизмов может выступать осознанная саморегуляция учебной деятельности. Изучение вовлеченности в контексте проблемы психической саморегуляции представляется актуальным и значимым, поскольку позволит выявить действенные механизмы оптимизации учебной деятельности школьников. Основные задачи настоящей статьи: проанализировать современное состояние проблемы изучения школьной вовлеченности, рассмотреть особенности изучения взаимосвязи школьной вовлеченности и саморегуляции школьников, обозначить актуальные и перспективные направления исследований взаимосвязи осознанной саморегуляции учебной деятельности и школьной вовлеченности. Феномен школьной вовлеченности в психологии Школьная вовлеченность является сравнительно новым конструктом, причем как для отечественной, так и для зарубежной психологии. Одной из существенных проблем разработки данного понятия была опасность объяснения им любых проявлений учебной активности школьников. Необходимо было четко определить границы и специфичность данного феномена, поскольку от этого зависела методология разработки диагностических средств. Значимым шагом стало разграничение школьной вовлеченности и академической мотивации. Академическая мотивация рассматривается как предпосылка и необходимый элемент вовлеченности учащихся в процесс обучения в школе (Ryan, Deci, 2009; Saeed, Zyngier, 2012). Однако большинство ученых придерживаются позиции, согласно которой вовлеченность и мотивация имеют разное проявление и структуру (например, Fredricks et al., 2016). Мотивация характеризует внутренние причины поведения учащихся, которые могут быть охарактеризованы с точки зрения направления, интенсивности и качества. В то время как вовлеченность проявляется в связи с определенным контекстом и ситуацией, отражая поведенческие, эмоциональные и когнитивные проявления мотивации. Мотивация является необходимым, но не достаточным условием проявления вовлеченности (Appleton et al., 2006; Fredricks, McColskey, 2012). Мотивация относится к внутренним процессам, которые объясняют, как и почему учащиеся участвуют в учебной деятельности и школьной жизни, а вовлеченность считается внешним проявлением мотивации (Wang, Degol, 2014). Было показано, что различные типы мотивации связаны с разной степенью вовлеченности в процесс обучения. Традиционно мотивы подразделяются на внутренние, то есть соответствующие самой деятельности (деятельность сама представляет интерес), и внешние, когда учебная деятельность является средством достижения других, не связанных с ее непосредственным содержанием, целей (Гордеева, 2016). Так, учащиеся с внутренней мотивацией имеют более высокий уровень академической успеваемости и вовлеченности, чем те, у кого преобладает внешняя мотивация (Wigfield, Waguer, 2005). Внутренняя мотивация связана с реальным вовлечением, отражает усилия учащихся, направленные на концентрацию внимания, принятие учебных задач, понимание содержания учебного материала. Основой для проявления вовлеченности многие исследователи считают удовлетворение базовых потребностей учащихся в автономии, компетентности и связанности. Предполагается, что вовлеченность тем выше, чем в большей степени образовательные условия отвечают удовлетворению этих потребностей (Furrer, Skinner, 2003; Ryan, Deci, 2009). Первые представления формировались главным образом через понимание вовлеченности как процесса, отражающего временные затраты учащихся на учебную деятельность и академическую активность (Reschly, Christenson, 2012). Однако последние исследования свидетельствуют о том, что вовлеченность является значимым результатом, характеризующим определенную степень интереса, внимания, любознательности, уверенности и желания, которые учащиеся демонстрируют в процессе обучения (Wang, Eccles, 2013). С этой точки зрения вовлеченность представляет собой многомерный конструкт, поскольку предполагает оценку различных (эмоциональных, когнитивных, поведенческих) аспектов включенности учащихся в учебную деятельность. Энергичность, интенсивность, интерес, концентрация, энтузиазм и поглощенность являются внешними маркерами вовлеченности, демонстрируя степень включенности учащегося в учебную деятельность (Reeve et al., 2004; Skinner, Pitzer, 2012). Содержательный анализ различных точек зрения на понимание феномена школьной вовлеченности позволил нам сформулировать следующее рабочее определение: под школьной вовлеченностью понимается устойчивое, направленное, активное участие обучающихся как в учебной деятельности, так и в школьной жизни в целом, включающее наблюдаемые и ненаблюдаемые взаимодействия с академическим социальным окружением. Основные модели школьной вовлеченности Введение в научный обиход относительно нового феномена требует понимания его содержания и структуры. Сегодня существует несколько моделей школьной вовлеченности, рассматривающих вовлеченность как со стороны уровневого подхода, так и структурного. Уровни вовлеченности выделяются на основании принятия учащимися ценности и значимости обучения: от истинной вовлеченности до отрицания и отказа в принятии любых учебных задач (Schlechty, 2002). Вместе с тем наибольшее распространение получили концепции, в которых выделяются и анализируются различные компоненты вовлеченности. В рамках данного направления первые модели вовлеченности (например, Finn, 1989; Newmann et al., 1992; Marks, 2000) включали два компонента: поведенческий (участие в деятельности в классе и школе) и аффективный (школьная идентификация, чувство принадлежности к школе, ценность обучения). Но наиболее распространенной является трехкомпонентная модель вовлеченности, включающая в себя поведенческие, когнитивные и эмоциональные (аффективные) измерения (Fredricks et al., 2004). Поведенческая вовлеченность включает участие в академической и внеклассной деятельности, следование школьным нормам и правилам, оценивается через затрачиваемые усилия, степень концентрации внимания, активность во взаимодействии с учителями, участие в обсуждениях в классе, а также в школьных мероприятиях. Поведенческая вовлеченность считается критически важной для академических достижений. Эмоциональная вовлеченность включает позитивные и негативные реакции учащегося на учителя, одноклассников, уроки и школу в целом. Данный тип вовлеченности определяет энтузиазм учащегося по отношению к учебной деятельности и школьной жизни вообще. Когнитивная вовлеченность включает готовность вложить усилия в достижение цели и весь спектр применяемых учебных стратегий для эффективного решения учебных задач. Когнитивная вовлеченность подразумевает саморегуляцию, построение учащимся стратегий, гибкость в решении задач, адекватные копинг-стратегии, а также усилия, направленные на обучение, понимание, овладение знаниями и навыками. Каждый из компонентов вовлеченности может варьироваться как по интенсивности, так и продолжительности: иметь краткосрочный характер для определенной ситуации или же, наоборот, оставаться на стабильном уровне в течение длительного времени. Это представляется значимым для понимания потенциальных предикторов поддержания интенсивности вовлеченности. Еще одной, также достаточно распространенной, является четырехкомпонентная модель Дж. Эпплтона и коллег (Appleton et al., 2006), предполагающая выделение таких компонентов вовлеченности, как академический, поведенческий, когнитивный и психологический. Академическая вовлеченность включает в себя время, затраченное на выполнение задания, количество зачтенных ко времени выпуска предметов и выполнение домашних заданий. Поведенческая вовлеченность близка к пониманию Фредрикс и коллег и включает посещение занятий, добровольное участие в классной и дополнительной внеклассной активности. Эти два измерения и их индикаторы являются внешними и непосредственно наблюдаемыми, тогда как вторые два измерения - когнитивное и психологическое - являются внутренними и в меньшей степени наблюдаемыми. Понимание когнитивной вовлеченности соотносится с моделью Фредрикс: она также включает саморегуляцию, ценность обучения, личные цели и автономию. Наконец, психологическая вовлеченность включает в себя чувство принадлежности и идентификацию, а также отношения с одноклассниками и учителями. В последнее время выделяются модели, включающие помимо вовлеченности фактор невовлеченности (disengagement). Так, модель М. Ванга рассматривает два глобальных фактора: вовлеченность и невовлеченность (Wang et al., 2019). Предполагается, что показатели школьной невовлеченности - это не просто более низкие значения по шкалам вовлеченности. Подобно тому, как психическое здоровье состоит не только из отсутствия психических заболеваний, школьная невовлеченность указывает не только на отсутствие вовлеченности, но и на наличие дезадаптивных процессов и состояний (Wang et al., 2019). Стоит отметить, что в отечественной научной литературе мы не нашли исследований, в которых бы использовался данный термин. На наш взгляд, перевод понятия disengagement на русский язык как «невовлеченность» представляется не вполне корректным, учитывая его специфические проявления в учебной деятельности. Анализ диагностических методик, направленных на выявление признаков «невовлеченности» учащихся, позволил уточнить маркеры непосредственных проявлений данного состояния и предложить адекватный им вариант перевода, с тем чтобы использовать в дальнейшем, в частности при разработке (или адаптации) измерительных средств. Мы считаем, что в наибольшей степени содержанию соответствует термин «безучастность». В дальнейшем мы планируем использовать его при рассмотрении проблемы школьной вовлеченности/невовлеченности. Возвращаясь к модели Wang и коллег еще раз подчеркнем, что вовлеченность и невовлеченность в рамках данной модели - это разные конструкты, вносящие уникальный вклад в академические достижения, поведение в школе, стремление к образованию. Это подтверждается отрицательной корреляцией между ними, а также тем фактом, что эти конструкты являются предикторами разных переменных. Помимо двух глобальных факторов, в модели выделяется восемь специфичных (поведенческая, когнитивная, эмоциональная и социальная вовлеченность/невовлеченность) (Wang et al., 2019). Их содержание также достаточно близко к моделям Фредрикс и Эпплтона. Поведенческое измерение включает продуктивное и активное участие в академической или неакадемической деятельности и позитивное поведение (соответствие школьным нормам и правилам). Эмоциональное измерение охватывает общие положительные аффективные реакции, удовольствие от учебы, ценность школьных занятий. Когнитивная вовлеченность включает вдумчивость, использование стратегий глубокого обучения и готовность прилагать необходимые усилия для выполнения высококачественной работы и понимания сложных идей. Добавленное в модель социальное измерение пересекается с психологической вовлеченностью Эпплтона, однако в отличие от него отражает исключительно аспект социального взаимодействия учащегося с одноклассниками, учителями (Linnenbrink-Garcia et al., 2011). В отечественной психологии эмпирические исследования школьной вовлеченности практически не проводились. Есть единичные исследования вовлеченности на выборках студентов, которые по большей части носят социологический характер и оценивают вовлеченность по количеству затрачиваемого студентами времени и энергии на приобретение академического опыта (например, Малошонок, 2014; Щеглова и др., 2019). Результаты свидетельствуют о наличии кросс-культурных особенностей у вовлеченности в учебную деятельность, что актуализирует значимость изучения данного феномена и в этом аспекте. Что касается школьников, то проблема вовлеченности тем или иным образом представлена в рамках таких традиционных для отечественной психологии проблемных полей, как академическая мотивация (например, Гордеева и др., 2019) и субъектная (внутренняя) позиция школьника (например, Лубовский, 2008). Таким образом, на настоящий момент в зарубежной психологии накоплен значительный материал по проблеме школьной вовлеченности, что позволяет использовать полученные теоретические данные для планирования эмпирических исследований и решения широкого круга задач. Можно говорить о некоторой эволюции взглядов на понимание школьной вовлеченности и индикаторов ее проявления в реальной учебной деятельности. Первоначально вовлеченность рассматривалась в довольно широком смысле для обозначения общей включенности учащихся в школьные мероприятия без разграничений видов и типов такой включенности. Чаще всего речь шла об общем отношении к школе. В дальнейшем исследователи рассматривали данный феномен через эмоциональные аспекты наряду с такими переменными, как интерес к школе, идентификация со школой, чувство принадлежности к школьному учреждению. И наконец, понятие вовлеченности было операционализировано через изучение трех компонентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Большинство диагностических средств школьной вовлеченности сосредоточены на выявлении именно этих проявлений. В качестве дополнительного компонента может еще рассматриваться социальный или психологический. Действительно, наиболее эмпирически обоснованной представляется трехкомпонентная модель школьной вовлеченности. Тем не менее количество исследований в этом проблемном поле растет, появляются новые интересные данные о взаимосвязи вовлеченности с различными психологическими особенностями, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие и операционализацию понятия вовлеченности по отношению к разнообразным аспектам учебной деятельности, особенно в современных условиях, когда существенно меняются виды и формы обучения. Школьная вовлеченность и саморегуляция Как показывают многочисленные исследования, школьная вовлеченность взаимосвязана с большим количеством психологических конструктов: например, характером взаимодействия с учителями, родителями и сверстниками (Portilla et al., 2014), мотивационными особенностями (Duchesne et al., 2017; Núñez et al., 2019), эмоциями и эмоциональной регуляцией (Kwon et al., 2018), и самопроцессами, в частности с саморегуляцией. Отметим, что саморегуляция понимается по-разному в зависимости от принимаемой исследовательской парадигмы. Тем не менее в зарубежной психологии в контексте исследования саморегуляции в процессе учебы ее чаще всего рассматривают в рамках саморегуляции обучения - self-regulated learning (SRL). Исследователи отмечают концептуальную близость SRL и школьной вовлеченности, особенно в сфере когнитивной вовлеченности. Фактически когнитивная вовлеченность включает в себя компоненты саморегуляции, в частности использование метакогнитивных стратегий (Wolters, Taylor, 2012). Т. Клири и Б. Циммерман (Cleary, Zimmerman, 2012), анализируя вовлеченность в контексте модели саморегуляции Циммермана, отмечают, что вовлеченные студенты отличаются направленной активностью в каждой фазе: во время прогнозирования высоко вовлеченные учащиеся анализируют условия выполнения задания, определяют результат, планируют цели и определяют план их достижения. Во время фазы исполнения такие учащиеся задействуют различные процессы самоконтроля: самоинструкцию, фокусировку внимания, привлечение стратегий выполнения задания, позволяющих оптимизировать фокусировку на задании, усилия и настойчивость. Наконец, вовлеченные учащиеся активно задействуют различные формы мониторинга собственной деятельности (фаза саморефлексии): анализ ошибок, корректировку стратегии выполнения заданий. Авторы подчеркивают, что высоко вовлеченные студенты сравнивают свои результаты, оцененные либо самомониторингом, либо путем получения внешней обратной связи, со стандартом, что позволяет им оценить уровень их успешности. Затем такие студенты с высокой долей вероятности припишут успех или неудачу использованным ими стратегиям и будут пытаться внести необходимые корректировки для повышения качества выполнения заданий. Таким образом, вовлеченность применительно к саморегулируемому обучению означает «мышление на языке стратегий» (Cleary, Zimmerman, 2012). При этом авторы отмечают важность мотивационного аспекта, в частности, самоэффективности, целевой ориентации, интереса к задаче, ожиданий от результата. Также отмечаются сходства и с исследованиями других компонентов вовлеченности (Wolters, Taylor, 2012). Так, исследования и вовлеченности, и саморегуляции обучения уделяют много внимания эмоциональным переживаниям относительно процесса учения: радости, интересу, скуке, тревожности, в особенности в контексте проблемы академической успешности. Более того, исследователи обоих концептов обращают внимание на поведенческие аспекты, причем как продуктивные - следование школьным правилам и нормам, участие во внеклассных активностях, адаптивный поиск помощи, так и негативные - прокрастинация и пропуски занятий. В отечественной психологии самым эмпирически обоснованным подходом к анализу саморегуляции в учебной деятельности является подход, согласно которому осознанная саморегуляция рассматривается как психологическое средство, необходимое для успешного достижения целей деятельности и являющегося метаресурсом, включающим универсальные и специальные компетенции ученика по осознанному и самостоятельному выдвижению целей (Моросанова, 2016). Саморегуляция позволяет мобилизовать благоприятные и компенсировать неблагоприятные для успешности обучения индивидуально-психологические особенности путем создания компенсаторных отношений между высоко- и низкоразвитыми стилевыми особенностями за счет высокой субъектной активности и формирования положительного отношения к учению. Данный подход позволил раскрыть значимую роль осознанной саморегуляции в обеспечении академической успеваемости (Моросанова, Фомина, 2016; Morosanova et al., 2016); надежности действий в ситуации экзамена (Моросанова, Филиппова, 2019), психологического и субъективного благополучия учащихся (Моросанова, Фомина, 2019; Fomina et al., 2020). Кроме этого, в отечественной психологии рассматриваются другие альтернативные подходы к пониманию саморегуляции, они связаны с акцентированием различных ее аспектов: мотивационных (Гордеева, 2016), функциональных (Прохоров, 2020), динамических (Рассказова, 2011), личностных (Леонтьев, 2016) и др. При размышлениях о природе взаимосвязи нескольких феноменов, всегда возникает вопрос о направлении причинно-следственных связей между ними. С одной стороны, можно отметить, что чем активнее ученик вовлечен в учебную деятельность и внешкольную активность, тем выше у него потребность в саморегуляции: исследователи отмечают, что вовлеченность способствует развитию навыков самоорганизации, планирования, самоконтроля (Wang, Eccles, 2012). С другой стороны, высокий уровень саморегуляции связан с формированием продуктивных учебных стратегий, самоэффективности, позитивной Я-концепции, что, в свою очередь, влияет на интенсивность и устойчивость различных компонентов школьной вовлеченности (Cleary, Zimmerman, 2012). Мы также можем говорить о реципрокной связи, когда саморегуляция и вовлеченность взаимообусловлены и дополняют друг друга. Об этом свидетельствую данные исследований, в которых показано, что прогресс в достижении внутренней цели (осознанной, соответствующей истинным потребностям и мотивам) стимулирует учащихся проявлять высокие уровни школьной вовлеченности (Vasalampi et al., 2009). При этом следует учитывать, что эта связь будет очевиднее проявляться не столько в контексте организации учебной деятельности вообще, сколько при решении конкретных учебных задач. Эмпирические исследования взаимосвязи саморегуляции и школьной вовлеченности Несмотря на схожесть двух конструктов, исследователи чаще изучают вовлеченность и саморегуляцию как отдельные, но взаимосвязанные конструкты. Вопрос о характере отношений школьной вовлеченности и саморегуляции остается открытым и по сей день. Тем не менее большая часть исследований рассматривает саморегуляцию либо в качестве непосредственного предиктора школьной вовлеченности, либо в качестве медиатора влияния других переменных. Отметим также, что вовлеченность сама по себе чаще всего понимается как медиатор влияния контекстных переменных на школьную успеваемость (Reschly, Christenson, 2012), в связи с чем в большом количестве исследований связь саморегуляции и вовлеченности рассматривается в контексте более сложных моделей. Представляется важным и тот факт, что степень школьной вовлеченности варьируется у учащихся разных классов. Исследования показали, что вовлеченность учащихся значительно снижается при переходе от начальной к средней школе, главным образом потому, что образовательные и социальные контексты средней школы менее соответствуют потребностям развития подростков (Wang, Eccles, 2012). Учителя в средней школе, как правило, не оказывают достаточной эмоциональной поддержки учащимся (Zimmer-Gembeck et al., 2006). У учеников начальной школы школьная вовлеченность служит медиатором между академической успешностью учащегося и взаимоотношениями между учащимся и учителем. В некоторых исследованиях демонстрируется, что переход учащихся из начальной в среднюю школу сопровождается снижением учебной мотивации и вовлеченности (Reschly, Christenson, 2012). Было также показано, что ученики младших классов в большей степени вовлечены в учебную деятельность, чем ученики старших классов (Yazzie-Mintz, 2010). Дж. Коннер и Д. Поп (Conner, Pope, 2013), исследуя школьную вовлеченность, обнаружили, что более чем половине учащихся старшей школы присуще состояние сниженной вовлеченности. В связи с этим возникает вопрос о характере связи саморегуляции и вовлеченности в разные периоды обучения. Обратимся к данным эмпирических исследований, анализирующих эту связь в разных возрастных и учебных периодах. Довольно широкий спектр работ исследует связь саморегуляции и вовлеченности в процессе перехода к обучению в школе. Исследователи достаточно часто фокусируются именно на этом возрастном периоде, так как он является сензитивным для дальнейшей успешности в школе (Rimm-Kaufman, Pianta, 2000). Помимо связи саморегуляции в дошкольном возрасте и вовлеченности и успеваемости в школе, в данном направлении исследований изучается роль контекстных факторов, например отношения с учителями. Так, в лонгитюдном исследовании Кс. Портиллы и коллег исследовалась роль саморегуляции и вовлеченности в предсказании качества взаимоотношений ученика с учителем и академической успешности (Portilla et al., 2014). Отметим, что в данном исследовании саморегуляция рассматривалась через способность к подавлению импульсивного поведения и невнимательности. В результате было выявлено, что конфликт с учителем был связан с низкими уровнями саморегуляции и вовлеченности во всех временных замерах. Что касается непосредственно связи между саморегуляцией и вовлеченностью, вовлеченность оказалась негативно связана с невнимательностью и импульсивностью в начале последнего года в детском саду и в конце обучения в первом классе. В исследовании Дж. Кадимы и коллег изучалась взаимосвязь исполнительной функции подавляющего контроля, контекстных факторов (отношений с учителями, одноклассниками, качеством организации занятий) и поведенческой вовлеченности, измеряемой путем оценивания учителями и независимыми наблюдателями (Cadima et al., 2015). В результате было установлено, что подавляющий контроль, наряду с контекстными факторами, предсказывал высокие уровни поведенческой вовлеченности в детском саду, которая, в свою очередь, вместе с качеством организации занятий предсказывала вовлеченность в первом классе. Лонгитюдное исследование паттернов взаимодействия ранней привязанности, регуляторных переменных и школьной вовлеченности в первом, третьем и пятом классах выявило, что самоконтроль, измеренный в первом классе, являлся медиатором влияния ранней привязанности на вовлеченность в пятом классе (Drake et al., 2014). Таким образом, исследования демонстрируют, что ранняя сформированность саморегуляции является важным предиктором вовлеченности в школе, причем как в младших классах, так и при переходе к средней ступени обучения. На выборках школьников среднего и старшего возраста существует достаточно небольшое количество исследований. Например, исследование влияния жестких стратегий воспитания на академическую успешность, проведенное на выборке китайских школьников шестых - восьмых классов (средний возраст 12 лет), включало в себя переменные волевого контроля и школьной вовлеченности в качестве медиаторов. В этой работе было показано, что все субшкалы волевого контроля и его общий уровень позитивно связаны со всеми видами школьной вовлеченности (Wang et al., 2018). При этом, волевой контроль также выступал в качестве позитивного предиктора вовлеченности, однако в общей модели негативное влияние жестких стратегий воспитания нивелировало его возможный позитивный эффект на вовлеченность, что, в свою очередь, приводило к снижению успеваемости. Еще одно масштабное исследование, также проведенное на выборке китайских школьников, но десятых - двенадцатых классов (средний возраст 16,8 лет), поставило свой задачей изучение связи между целевыми ориентациями, стратегиями мотивационной регуляции и школьной вовлеченностью. Результаты свидетельствуют о том, что стратегии позитивно связаны со школьной вовлеченностью, а также выступают в качестве медиатора влияния целевых ориентаций на вовлеченность (Wang et al., 2017). Обнаруживаются работы, подтверждающие реципрокные отношения между саморегуляцией и вовлеченностью. Так, в лонгитюдном исследовании К. Стефанссона и коллег, проведенном на выборке исландских подростков, при переходе из девятого в десятый класс было отмечено, что интенциональная саморегуляция и школьная вовлеченность оказывают друг на друга позитивное воздействие в старшей школе, а также, что предыдущие академические достижения влияют на оба конструкта (Stefansson et al., 2018). Полученные результаты, как пишут авторы, подтверждают, что саморегуляция и вовлеченность - разные, но сильно взаимосвязанные конструкты. Достаточно много исследований проводится на выборках студентов. К примеру, в исследовании, проведенном на студентах колледжа, была продемонстрирована позитивная взаимосвязь между саморегуляцией эмоций и вовлеченностью, а также показано, что саморегуляция эмоций выступает в качестве медиатора между качеством отношений с родителями и вовлеченностью в обучение (Shannon et al., 2015). Исследование, выполненное в русле типологического подхода, было посвящено вовлеченности и академической успеваемости на выборке учащихся университета первого года обучения (Ketonen et al., 2016). В контексте данной работы строилась типология профилей вовлеченности студентов. Основаниями отнесения к определенному профилю, помимо непосредственно вовлеченности, выступали недостаток саморегуляции, интереса и неопределенность относительно выбора карьеры. Корреляционный анализ между этими переменными установил, что все они были негативно связаны с вовлеченностью. Профиль вовлеченных студентов также показал высокие уровни вовлеченности, определенности в карьере, саморегуляции и отличался высокой академической успешностью. Отдельный пласт работ посвящен проблеме дистанционного обучения и роли саморегуляции в обеспечении вовлеченности в данном контексте. Например, в исследовании Дж. Сан и Р. Руеда на выборке студентов изучалась взаимосвязь между мотивационными и регуляторными переменными: ситуационный интерес, компьютерная самоэффективность, саморегуляция и вовлеченностью в онлайн-обучение. Было определено, что саморегуляция позитивно коррелирует со всеми видами вовлеченности. Регрессионный анализ также выявил, что саморегуляция является позитивным предиктором всех видов вовлеченности (Sun, Rueda, 2011). Интересно также, что на эмоциональную вовлеченность большее влияние оказывал ситуационный интерес, тогда как саморегуляция оказалась более важным фактором когнитивной и поведенческой вовлеченности. В работе Н. Пеллас на выборке студентов рассматривалась роль компьютерной самоэффективности, самооценки и метакогнитивной саморегуляции в качестве предикторов вовлеченности в онлайн-обучение. Было обнаружено, что метакогнитивная саморегуляция является позитивным предиктором когнитивной и эмоциональной вовлеченности в онлайн-обучение, объясняя совместно с самоэффективностью 15 и 14 % дисперсии (Pellas, 2014). Таким образом, в сфере дистанционного обучения саморегуляция выступает в качестве одного из важнейших факторов обеспечения вовлеченности в процесс обучения, в особенности в когнитивную вовлеченность. Исследования демонстрируют, что на протяжении всего обучения саморегуляция является важным позитивным фактором, поддерживающим вовлеченность в обучение, зачастую нивелируя влияние контекстных факторов (как было показано в исследовании Wang et al., 2018). Кроме того, исследования саморегуляции и вовлеченности в дистанционное обучение свидетельствуют о том, что саморегуляция может поддерживать вовлеченность в специфических контекстах. Тем не менее исследования лишь частично отвечают на вопрос об особенностях реципрокной связи саморегуляции и вовлеченности. Исследования на выборках дошкольников и младшеклассников подтверждают, что саморегуляция в более раннем возрасте предсказывает вовлеченность в школе. Однако лонгитюдное исследование К. Стефанссона и коллег на школьниках девятых - десятых классов выявило, что ранее измеренные саморегуляция и вовлеченность предсказывают друг друга на более поздних замерах: например, саморегуляция, измеренная на первой волне в девятом классе, предсказывала вовлеченность, измеренную на второй волне в девятом классе. Кроме того, эти переменные оказывали позитивное влияние друг на друга в рамках одного замера (волны). В связи с этим возникает вопрос о прояснении характера связей между саморегуляцией и вовлеченностью в средней и старшей школе. Заключение Возросший исследовательский интерес к проблеме школьной вовлеченности обусловлен рядом причин. Во-первых, показано, что школьная вовлеченность детерминирует ряд социально-психологических индикаторов, значимых с точки зрения функционирования системы образования: академическую успеваемость, субъективное благополучие, продуктивность социального взаимодействия. Во-вторых, интенсивность и качество вовлеченности создают мотивационный контекст, который формирует то, как учащиеся справляются с трудностями в учебе и преодолевают трудности в жизни. Отстраненность, пассивность, безучастность учащихся в школе является сигналом о дезадаптивных состояниях школьника, которые связаны с негативными эмоциями, беспокойством, разочарованием. В-третьих, вовлеченность учащихся является надежным маркером эффективности организации обучения, что может стать основой для разработки технологий по модернизации образования, ориентированного на повышение привлекательности учебной среды для школьников на современном этапе развития общества. Исследование взаимосвязи осознанной саморегуляции и школьной вовлеченности представляется перспективным в следующих направлениях: 1) изучение специфики причинно-следственных связей между осознанной саморегуляцией и различными проявлениями школьной вовлеченности; верификация и раскрытие ресурсной роли регуляторных особенностей учащихся в отношении компонентов школьной вовлеченности; 2) анализ взаимосвязи саморегуляции и школьной вовлеченности учащихся с учетом различных уровней и контекстов регуляции учебной активности: от общей регуляции деятельности до деятельности решения конкретных учебных задач; 3) раскрытие возрастных и индивидуальных траекторий динамики становления осознанной саморегуляции учебной деятельности и школьной вовлеченности в различные периоды школьного обучения; 4) исследование прогностических эффектов осознанной саморегуляции и школьной вовлеченности в предсказании академических достижений и позитивного развития школьников; 5) изучение кросс-культурных особенностей школьной вовлеченности, а также специфики ее взаимосвязи с саморегуляцией учебной деятельности на выборках учащихся различных стран и культур.
Об авторах
Татьяна Геннадьевна Фомина
Психологический институт Российской академии образования
Автор, ответственный за переписку.
Email: tanafomina@mail.ru
кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии саморегуляции
Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4Анна Михайловна Потанина
Психологический институт Российской академии образования
Email: a.m.potan@gmail.com
младший научный сотрудник лаборатории психологии саморегуляции
Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4Варвара Ильинична Моросанова
Психологический институт Российской академии образования
Email: morosanova@mail.ru
член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии саморегуляции
Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4Список литературы
- Гордеева Т.О. Мотивация: новые подходы, диагностика, практические рекомендации // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 38-53. https://doi.org/10.17223/17267080/62/4
- Гордеева Т.О., Сычев О.А., Сиднева А.Н., Пшеничнюк Д.В. От чего зависит желание младших школьников учиться? Структура предметной мотивации школьников, обучающихся в рамках разных образовательных систем // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 2019. № 4. С. 31-40. https://doi.org/10.22204/2410-4639-2019-104-04-31-40
- Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18-37. https://doi.org/10.17223/17267080/62/3
- Лубовский Д.В. Понятие внутренней позиции: культурно-историческая перспектива изучения личности школьника // Культурно-историческая психология. 2008. Т. 4. № 1. С. 2-8.
- Малошонок Н.Г. Вовлеченность студентов в учебный процесс в российских вузах // Высшее образование в России. 2014. № 1. С. 37-44.
- Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция как психологический ресурс достижения учебных и профессиональных целей // Педагогика. 2016. № 10. С. 13-24.
- Моросанова В.И., Филиппова Е.В. От чего зависит надежность действий учащихся на экзамене // Вопросы психологии. 2019. № 1. С. 65-78.
- Моросанова В.И., Фомина Т.Г. Осознанная саморегуляция в системе психологических предикторов достижения учебных целей // Вопросы психологии. 2016. № 2. С. 124-135.
- Моросанова В.И., Фомина Т.Г. Осознанная саморегуляция учебной деятельности как ресурс субъективного благополучия школьников при изменении условий обучения // Вопросы психологии. 2019. № 3. С. 62-74.
- Прохоров А.О. Структурно-функциональная модель ментальной регуляции психических состояний субъекта // Психологический журнал. 2020. Т. 41. № 1. С. 5-17. https://doi.org/10.31857/S020595920007852-3
- Рассказова Е.И. Психологические факторы саморегуляции на разных этапах выполнения учебного задания // Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 2. С. 36-47.
- Щеглова И.А., Корешникова Ю.Н., Паршина О.А. Роль студенческой вовлеченности в развитии критического мышления // Вопросы образования. 2019. № 1. С. 264-289. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-1-264-289
- Appleton J.J., Christenson S.L., Kim D., Reschly A.L. Measuring cognitive and psychological engagement: validation of the student engagement instrument // Journal of School Psychology. 2006. Vol. 44. No. 5. Pp. 427-445. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.04.002
- Cadima J., Doumen S., Verschueren K., Buyseb E. Child engagement in the transition to school: contributions of self-regulation, teacher - child relationships and classroom climate // Early Childhood Research Quarterly. 2015. Vol. 32. Pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.01.008
- Chase P.A., Hilliard L.J., Geldhof G.J., Warren D.J., Lerner R.M. Academic achievement in the high school years: the changing role of school engagement // Journal of Youth and Adolescence. 2014. Vol. 43. No. 6. Pp. 884-896. https://doi.org/10.1007/s10964-013-0085-4
- Cleary T.J., Zimmerman B.J. A cyclical self-regulatory account of student engagement: theoretical foundations and applications // Handbook of Research on Student Engagement / ed. by S.L. Christenson. MA, Boston: Springer, 2012. Pp. 237-259. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_37
- Conner J.O., Pope D.C. Not just robo-students: why full engagement matters and how schools can promote it // Journal of Youth and Adolescence. 2013. Vol. 42. No. 9. Pp. 1426-1442. https://doi.org/10.1007/s10964-013-9948-y
- Datu J.A.D., King R.B. Subjective well-being is reciprocally associated with academic engagement: A two-wave longitudinal study // Journal of School Psychology. 2018. No. 69. Pp. 100-110. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2018.05.007
- Dotterer A.M., Lowe K. Classroom context, school engagement, and academic achievement in early adolescence // Journal of Youth and Adolescence. 2011. Vol. 40. No. 12. Pp. 1649-1660. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9647-5
- Drake K., Belsky J., Fearon R.M.P. From early attachment to engagement with learning in school: the role of self-regulation and persistence // Developmental Psychology. 2014. Vol. 50. No. 5. Pp. 1350-1361. https://doi.org/10.1037/a0032779
- Duchesne S., Larose S., Feng B. Achievement goals and engagement with academic work in early high school: does seeking help from teachers matter? // Journal of Early Adolescence. 2019. Vol. 39. No. 2. Pp. 222-252. https://doi.org/.1177/0272431617737626
- Finn J.D. Withdrawing from school // Review of Educational Research. 1989. Vol. 5. No. 2. Pp. 117-142. https://doi.org/10.3102/00346543059002117
- Fomina T., Burmistrova-Savenkova A., Morosanova V. Self-regulation and psychological well-being in early adolescence: a two-wave longitudinal study // Behavioral Sciences. 2020. Vol. 10. No. 3. P. 67. https://doi.org/.3390/bs10030067
- Fredricks J.A., Blumenfeld P.C., Paris A.H. School engagement: potential of the concept, state of the evidence // Review of Educational Research. 2004. Vol. 74. Pp. 59-109. https://doi.org/10.3102 %2F00346543074001059
- Fredricks J.A., Filsecker M., Lawson M.A. Student engagement, context, and adjustment: addressing definitional, measurement, and methodological issues // Learning and Instruction. 2016. Vol. 43. Pp. 1-4. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.02.002
- Fredricks J.A., McColskey W. The measurement of student engagement: a comparative analysis of various methods and student self-report instruments // Handbook of Research on Student Engagement / ed. by S.L. Christenson. MA, Boston: Springer, 2012. Pp. 763-782. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_37
- Furrer C., Skinner E. Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance // Journal of Educational Psychology. 2003. Vol. 95. No. 1. Pp. 148-162. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.148
- Jimerson S.R., Campos E., Greif J.L. Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms // The California School Psychologist. 2003. Vol. 8. No. 1. Pp. 7-27. https://doi.org/10.1007/bf03340893
- Ketonen E., Haarala-Muhonen A., Hirsto L., Hänninen J., Wähälä K., Lonka K. Am I in the right place? Academic engagement and study success during the first years at university // Learning and Individual Differences. 2016. Vol. 51. Pp. 141-148. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.08.017
- Kwon K., Kupzyk K., Benton A. Negative emotionality, emotion regulation, and achievement: cross-lagged relations and mediation of academic engagement // Learning and Individual Differences. 2018. Vol. 67. Pp. 33-40. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.07.004
- Lei H., Cui Y., Zhou W. Relationships between student engagement and academic achievement: a meta-analysis // Social Behavior and Personality. 2018. Vol. 46. No. 3. Pp. 517-528. https://doi.org/10.2224/sbp.7054
- Li Y., Lerner R.M. Trajectories of school engagement during adolescence: implications for grades, depression, delinquency, and substance use // Developmental psychology. 2011. Vol. 47. No. 1. Pp. 233-247. https://doi.org/10.1037/a0021307
- Linnenbrink-Garcia L., Rogat T.K., Koskey K.L. Affect and engagement during small group instruction // Contemporary Educational Psychology. 2011. Vol. 36. No. 1. Pp. 13-24. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych. 2010.09.001
- Marks H.M. Student engagement in instructional activity: patterns in the elementary, middle, and high school years // American Educational Research Journal. 2000. Vol. 37. No. 1. Pp. 153-184. https://doi.org/10.3102/00028312037001153
- Morosanova V.I., Fomina T.G., Kovas Y.V., Bogdanova O.E. Cognitive and regulatory characteristics and mathematical performance in high school students // Personality and Individual Differences. 2016. Vol. 90. Pp. 177-186. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.034
- Newmann F., Wehlage G., Lamborn S. The significance and sources of student engagement // Student Engagement and Achievement in American Secondary Schools / ed. by F.M. Newmann. NY.: Teachers College Press, 1992. Pp. 11-40
- Núñez J.C., Regueiro B., Suárez N., Piñeiro I., Rodicio M.L. Valle A. Student perception of teacher and parent involvement in homework and student engagement: the mediating role of motivation // Frontiers in Psychology. 2019. Vol. 10. P. 1384. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01384
- Pellas N. The influence of computer self-efficacy, metacognitive self-regulation and self-esteem on student engagement in online learning programs: Evidence from the virtual world of Second Life // Computers in Human Behavior. 2014. Vol. 35. Pp. 157-170. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.02.048
- Pietarinen J., Soini T., Pyhältö K. Students’ emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school // International Journal of Educational Research. 2014. Vol. 67. Pp. 40-51. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2014.05.001
- Portilla X., Ballard J., Adler N., Boyce W.T., Obradović J. An integrative view of school functioning: transactions between self-regulation, school engagement, and teacher - child relationship quality // Child Development. 2014. Vol. 85. No. 5. Pp. 1915-1931. https://doi.org/10.1111/cdev.12259
- Raufelder D., Kittler F., Braun S.R., Lätsch A., Wilkinson R.P., Hoferichter F. The interplay of perceived stress, self-determination and school engagement in adolescence // School Psychology International. 2014. Vol. 35. No. 4. Pp. 405-420. https://doi.org/10.1177%2F0143034313498953
- Reeve J., Jang H., Carrell D., Jeon S., Barch J. Enhancing students' engagement by increasing teachers' autonomy support // Motivation and Emotion. 2004. Vol. 28. No. 2. Pp. 147-169. https://doi.org/10.1023/b:moem.0000032312.95499.6f
- Reschly A.L., Christenson S.L. Jingle, jangle, and conceptual haziness: evolution and future directions of the engagement construct // Handbook of Research on Student Engagement / ed. by S.L. Christenson et al. MA, Boston: Springer, 2012. Pp. 3-21. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_37
- Rimm-Kaufman S.E., Pianta R.C. An ecological perspective on children’s transition to kindergarten: a theoretical framework to guide empirical research // Journal of Applied Developmental Psychology. 2000. Vol. 21. No. 5. Pp. 491-511. https://doi.org/10.1016/s0193-3973(00)00051-4
- Roorda D.L., Koomen H.M., Spilt J.L., Oort F.J. The influence of affective teacher - student relationships on students’ school engagement and achievement: a meta-analytic approach // Review of educational research. 2011. Vol. 81. No. 4. Pp. 493-529. https://doi.org/10.3102 %2F0034654311421793
- Ryan R.M., Deci E.L. Promoting self-determined school engagement: motivation, learning, and well-being // Educational psychology handbook series: handbook of motivation at school / ed. by K.R. Wenzel, A. Wigfield. Routledge, Taylor & Francis Group, 2009. Pp. 171-195
- Saeed S., Zyngier D. How motivation influences student engagement: a qualitative case study // Journal of Education and Learning. 2012. Vol 1. No. 2. Pp. 252-267. https://doi.org/10.5539/jel.v1n2p252
- Schlechty P.C. Working on the work: an action plan for teachers, principals, and superintendents. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002
- Shannon M., Barry C.M., DeGrace A., DiDonato T. How parents still help emerging adults get their homework done: the role of self-regulation as a mediator in the relation between parent - child relationship quality and school engagement // Journal of Adult Development. 2016. Vol. 23. No. 1. Pp. 36-44. https://doi.org/10.1007/s10804-015-9219-0
- Skinner E.A., Pitzer J.R. Developmental dynamics of student engagement, coping, and everyday resilience // Handbook of research on student engagement / ed. by S.L. Christenson et al. MA, Boston: Springer, 2012. Pp. 21-44. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_2
- Stefansson K., Gestsdottir S., Birgisdottir F., Lerner R.M. School engagement and intentional self-regulation: a reciprocal relation in adolescence // Journal of Adolescence. 2018. Vol. 64. Pp. 23-33. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.01.005
- Sun J.C.Y., Rueda R. Situational interest, computer self-efficacy and self-regulation: their impact on student engagement in distance education // British Journal of Educational Technology. 2012. Vol. 43. No. 2. Pp. 191-204. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01157.x
- Upadyaya K., Salmela-Aro K. Development of school engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts: a review of empirical research // European Psychologist. 2013. Vol. 18. No. 2. P. 136. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000143
- Vasalampi K., Salmela-Aro K., Nurmi J.E. Adolescents’ self-concordance, school engagement, and burnout predict their educational trajectories // European psychologist. 2009. Vol. 14. No. 4. Pp. 332-341. https://doi.org/10.1027/1016-9040.14.4.332
- Wang C., Shim S.S., Wolters S.A. Achievement goals, motivational self-talk, and academic engagement among Chinese students// Asia Pacific Education Review. 2017. Vol. 18. No. 3. Pp. 295-307. https://doi.org/10.1007/s12564-017-9495-4
- Wang M., Deng X., Du X. Harsh parenting and academic achievement in Chinese adolescents: potential mediating roles of effortful control and classroom engagement // Journal of School Psychology. 2018. Vol. 67. Pp. 16-30. https://doi.org/.1016/j.jsp.2017.09.002
- Wang M.T., Degol J. Staying engaged: Knowledge and research needs in student engagement // Child development perspectives. 2014. Vol. 8. No. 3. Pp. 137-143. https://doi.org/10.1111/cdep.12073
- Wang M.-T., Eccles J.S. Adolescent behavioral, emotional, and cognitive engagement trajectories in school and their differential relations to educational success // Journal of Research on Adolescence. 2012. Vol. 22. No. 1. Pp. 31-39. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2011.00753.x
- Wang M.-T., Eccles J.S. School context, achievement motivation, and academic engagement: a longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective // Learning and Instruction. 2013. Vol. 28. Pp. 12-23. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.04.002
- Wang M.-T., Fredricks J., Ye F., Hofkens T., Linn J.S. Conceptualization and assessment of adolescents’ engagement and disengagement in school: a multidimensional school engagement scale // European Journal of Psychological Assessment. 2019. Vol. 35. No. 4. Pp. 592-606. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000431
- Wang M.-T., Fredricks J.A. The reciprocal links between school engagement, youth problem behaviors, and school dropout during adolescence // Child Development. 2014. Vol. 85. No. 2. Pp. 722-737. https://doi.org/10.1111/cdev.12138
- Wigfield A., Wagner A.L. Competence, motivation, and identity development during adolescence // Handbook of competence and motivation / ed. by. J.A. Elliot, S.C. Dweck, NY.: The Guilford Press, 2005. Pp. 222-239
- Wolters C., Taylor D. A self-regulated learning perspective on student engagement // Handbook of research on student engagement / ed. by S.L. Christenson et al. MA, Boston: Springer, 2012. Pp. 635-653. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_37
- Zimmer-Gembeck M.J., Chipuer H.M., Hanisch M., Creed P.A., McGregor L. Relationships at school and stage-environment fit as resources for adolescent engagement and achievement // Journal of Adolescence. 2006. Vol. 29. No. 6. Pp. 911-933. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.008