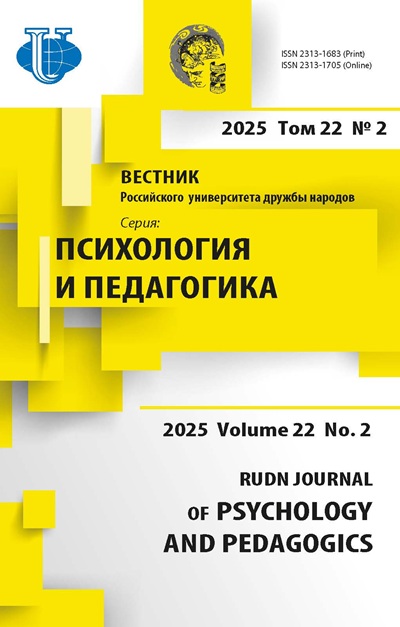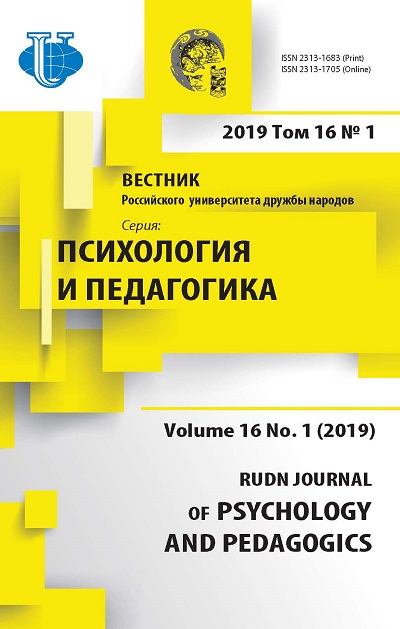Концепция когнитивного резерва в контексте изучения ишемической болезни сердца: современные представления и перспективы научных исследований
- Авторы: Еремина Д.А.1, Сидоровская Ю.М.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том 16, № 1 (2019)
- Страницы: 20-38
- Раздел: КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/20825
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2019-16-1-20-38
- ID: 20825
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлены результаты теоретического анализа современной зарубежной и отечественной литературы, посвященной концепции когнитивного резерва, которая является чрезвычайно актуальной на сегодняшний день. Подробно освещается проблематика и специфика когнитивных нарушений у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в частности с ишемической болезнью сердца, а также основные понятия и методологические проблемы определения концепции когнитивного резерва, обсуждается проблема операционализации данного понятия и связанные с ней сложности в определении потенциальных механизмов реализации когнитивного резерва. Рассмотрено взаимовлияние когнитивных нарушений на течение и прогноз ишемической болезни сердца, в особенности на уровень комплайенса пациентов кардиологического профиля и последующую психологическую реабилитацию. Обсуждаются потенциальные направления дальнейших исследований концепции когнитивного резерва применительно к ишемической болезни сердца, а именно перспективы изучения взаимосвязи когнитивных нарушений и аффективной патологии, в том числе алекситимии, что может позволить существенно оптимизировать существующие схемы реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца.
Полный текст
Введение По всему миру сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) уносят больше жизней, чем все формы рака и респираторные заболевания вместе взятые (Reamy et al., 2018). По данным статистики ВОЗ, ведущими причинами смерти в современном мире по-прежнему остаются ишемическая болезнь сердца (ИБС), представ- ляющая собой нарушение кровоснабжения ткани миокарда, вызванное поражением коронарных артерий, и инсульт (ВОЗ, 2017). Основными неконсервативными методами лечения ИБС считаются аортокоронарное шунтирование, показанное при лечении нескольких коронарных стенозов, и коронарная ангиопластика, являющаяся малоинвазивным методом хирургического вмешательства и позволяющая расширить просвет суженных сосудов, тем самым значительно улучшая состояние больного. Значительная часть мировых научных исследований последних лет посвящена изучению различных факторов риска развития и прогрессирования ИБС. Например, хорошо известно значение таких биологических факторов, как артериальная гипертензия, гипергликемия, гипогликемия, дислипидемия, курение, расстройства сна, низкая физическая активность, сахарный диабет, гипертрофия левого желудочка, ожирение, возраст, наследственность и пол (Балашкевич и др., 2013; Canto, 2003; Yuan et al., 2016). Такие психологические факторы, как стресс, депрессия, нарушение личностно-средового взаимодействия, поведенческий тип А (коронарный тип), пролонгирование психоэмоционального стресса, алекситимия и тревога также оказывают негативное влияние на течение и прогноз ИБС (Агеенкова, 2016; Винокур, 2002; Friedman, Rosenman, 1959; Lichtman et al., 2014; Liu et al., 2017; Ma, Li, 2017; Mahmood et al., 2017). Особенно нужно учитывать, что расстройства тревожно-депрессивного спектра в данной области патологии характеризуются большим полиморфизмом соматовегетативных и психопатологических проявлений, что значительно усложняет клиническую картину ССЗ (Гарганеева и др., 2015; Николаев, Лазарева, 2013). Однако данные относительно значения ряда факторов представляются на сегодняшний день противоречивыми и недостаточными. К подобным биологическим факторам можно отнести длительность искусственного кровообращения (ИК) и пережатия аорты во время операции. Так, ранее предполагалось, что длительность использования аппарата ИК прямо пропорционально связана со степенью нейрокогнитивного дефицита в постоперационном периоде лечения больных с ИБС (Шумков и др., 2009), а пролонгированное использование аппарата ИК - с негативным прогнозом заболевания в дальнейшем, однако некоторые современные исследования свидетельствуют об обратной связи (Еремина, 2015), а именно: чем в более сжатые сроки было выполнено оперативное вмешательство (длительность пережатия аорты и использования аппарата ИК), тем выше степень нейропсихологических нарушений у пациентов в постоперационном периоде, что имеет негативное влияние на течение и прогноз данного заболевания. Также, открытым остается вопрос о влиянии анестетиков, используемых при проведении операции, на когнитивное функционирование больных с ИБС после оперативного вмешательства. Данные о некоторых психологических факторах также представляются недостаточными и противоречивыми на сегодняшний день, в особенности это касается влияния алекситимии и уровня когнитивного функционирования на этиопатогенез ИБС. Таким образом, за последнее десятилетие было проведено значительное количество исследований, посвященных изучению динамики когнитивного функционирования в пред-, пери- и постоперационном периодах лечения у кардиохирургических больных (Трубникова и др., 2013; Loprinzi et al., 2017 и др.). Например, в исследовании А.В. Фонякина с соавт. было установлено, что наиболее распространенными нарушениями в когнитивной сфере пациентов с ИБС были нарушения внимания и ассоциативного компонента мышления, различные виды агнозий, сужение объема запоминания (нарушение кратковременной памяти) и др., что отражает основные нейропсихологические особенности больных ИБС, однако выраженность когнитивных расстройств носила легкий и умеренный характер и чаще встречалась у лиц молодого возраста (Фонякин и др., 2011). В то же время такие поведенческие особенности пациентов, как гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы отношения к болезни, экстернальный локус контроля, редкое использование копинг-стратегий, тревожно-депрессивные расстройства, алекситимия оказывают значительное влияние не только на этиопатогенез ИБС и последующую реабилитацию, но и на динамику когнитивного функционирования у данного контингента больных. В связи с этим были предприняты попытки выделения различных факторов, обуславливающих динамику когнитивных функций пациентов с ИБС в процессе лечения и реабилитации, а именно уровень когнитивного резерва, возраст, депрессивные и тревожные расстройства, алекситимия, длительность использования ИК и пережатия аорты. Тем не менее все предпринятые шаги не позволяют сделать однозначных выводов о механизмах формирования тех или иных когнитивных нарушений у кардиохирургических пациентов и, соответственно, определить место и значение этих нарушений для потенциальных возможностей реабилитации и восстановительного лечения больных ИБС. На сегодняшний день одной из потенциальных концепций, предложенных для решения этой задачи, является концепция когнитивного резерва (КР). Настоящая статья посвящена рассмотрению концепции КР в контексте ИБС в связи с тем, что данное направление представляется авторам наиболее актуальным и перспективным для дальнейшего изучения. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, открытием определенных патофизиологических механизмов нарушения когнитивных функций, во-вторых, увеличением доли пожилого населения в популяции, в-третьих, тем фактом, что когнитивная деятельность рассматривается как интегративная работа всего головного мозга, поэтому когнитивная недостаточность гетерохронно развивается при разнообразных очаговых (инсульты, опухоли и др.) и диффузных поражениях (нейродегенеративные и цереброваскулярные заболевания), включая как неорганические повреждения (травмы), так и органические повреждения головного мозга. Концепция когнитивного резерва: проблема определения и возможные механизмы реализации Впервые концепция когнитивного резерва была представлена в работе Y. Stern (2002), посвященной изучению вопроса о несоответствии степени повреждения головного мозга с клиническими проявлениями нарушений тех или иных нейропсихологических функций. Когнитивный резерв представляет собой по большей части способность головного мозга к функционально-компенсаторным механизмам, способствующим минимизации последствий влияния на когнитивные функции тех или иных повреждений и патологических процессов (травмы, инсульты, нейродегенеративные и цереброваскулярные заболевания, возрастные изменения) (Stern, 2002) . Концепция КР предполагает, что влияние того или иного патологического процесса на определенные когнитивные функции опосредуется с помощью резерва. Например, человек с высоким КР будет иметь больше возможностей противостоять той или иной патологии головного мозга еще до того, как она окажет свое влияние на производительность определенных когнитивных функций (Stern et al., 2003). Таковы были акценты первых исследований в области концепции КР. На сегодняшний день современные исследования концентрируются на несколько других аспектах, а именно на том, как те или иные виды деятельности, относящиеся к КР, способны замедлять атрофические и нейродегенеративные процессы в головном мозге (Стрижицкая, 2016). Таким образом, высокие показатели по таким факторам, как образование, уровень физической активности и некоторым другим, относящимся к КР, ассоциированны с меньшим риском развития деменции, а также с более медленной скоростью когнитивного снижения в здоровой старости. Однако данное утверждение было подтверждено не во всех исследованиях по данной проблематике. Важной проблемой для современных исследований в этой области является отсутствие четкой операционализации концепции КР. Были предприняты некоторые попытки определения КР, а именно через понятие «целостности головного мозга» (объем серого вещества, микроструктура белого вещества и др.), степень которого исследовалась преимущественно с помощью магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В последующем данный подход оказался не совсем адекватным, потому как «целостность головного мозга» не всегда была связана с показателем КР. Далее были предприняты несколько другие операциональные определения КР, например взяты переменные, так или иначе относящиеся к социально-экономическому статусу, который был назван результирующим фактором КР. Данное определение также оказалось ошибочным, потому что социально-экономический статус может являться не следствием того или иного уровня КР, а скорее одной из основных причин различий в величине КР. В настоящее время, по мнению некоторых ученых (Nilsson, Lövdén, 2018), должно быть разработано более подробное и точное теоретическое определение КР. При этом потенциальной точкой развития является разрешение вопроса о том, что именно понимается под КР - различия в том, как люди обрабатывают те или иные когнитивные задачи или же насколько эффективно они с ними справляются? Если современное операциональное определение КР будет базироваться на качественном подходе к решению тех или иных когнитивных задач, разрешаемых человеком в определенной ситуации, то весь объяснительный потенциал данной концепции может быть успешно применен и использован в практике. Было показано, что на объем КР влияют такие показатели, как уровень образования, род занятий, вид хобби, физическая и социальная активность, курение, депрессия, гипертония, ожирение, билингвизм, работа норадреналинэргической системы, интеллектуальные нагрузки в течение жизни и эмоциональные процессы (Дайникова, Пизова, 2014; Стрижицкая, 2016; Bak et al., 2014; Barulli, Stern, 2013; Livingston et al., 2017; Stern, 2002). Если говорить о физиологических процессах, осуществляющих механизмы нейронной реализации КР, то они будут представлены такими понятиями, как нейронный резерв (заключающий в себе те нейронные сети, которые образовались у человека в течение жизни и которые он активно использует) и нейронная компенсация (подразумевающая под собой ситуацию, когда патологический процесс затрагивает ту или иную функцию и создается необходимость использования дополнительных компенсаторных сетей для выполнения различных задач) (Stern, 2006). Вместе с тем следует провести различия между схожими моделями, объясняющими клинические феномены, при которых наблюдаются определенные расхождения, преимущественно за счет уровня КР, и между протекающими в головном мозге патологическими процессами и нарушением тех или иных когнитивных функций в действительности (Stern, 2013). Помимо концепции КР, являющейся активной гипотезой и акцентирующей свое внимание на функциональных механизмах компенсаторных процессов при повреждениях головного мозга, существует также концепция «мозгового резерва», являющаяся пассивной пороговой гипотезой, основывающейся на механистическом подходе и акцентирующей внимание на таких характеристиках мозга, как объем, окружность головы, количество синаптических связей. В связи с этим «мозговой резерв» представляется защитным механизмом, нивелирующим уязвимость головного мозга к разнообразным патологическим процессам. По мнению D. Barulli и Y. Stern (2013), данные теории не являются конкурирующими и взаимодополняют друг друга. В исследовании C. Sole-Padulles et al. (2009) было установлено, что высокий КР ассоциирован прежде всего с большим объемом и пониженной активностью определенных отделов мозга, участвующих в выполнении того или иного задания, по данным фМРТ, что объяснялось использованием более эффективных стратегий решения разного рода задач и позволило связать уровень КР с эффективностью синаптической обработки. Как известно, люди с высоким КР имеют более низкий риск развития деменции. Существуют даже предположения о том, что более высокий КР может быть связан со снижением скорости атрофии гиппокампа при старении и более медленным осаждением β-амилоидов (Jagust, Mormino, 2011; Valenzuela et al., 2008). Поэтому воздействия, связанные с КР, могут не только помочь мозгу адаптироваться к структурным изменениям, но и предотвратить эти изменения. Результаты свидетельствуют о том, что на сегодняшний момент когнитивные механизмы КР и связанные с ними понятия еще недостаточно изучены, однако как в физиологической, так и в медико-биологической практике выделяются определенные корреляты КР. Выявление конкретных когнитивных стратегий или компенсационных механизмов может помочь выявить основные нейронные механизмы КР (Barulli, Stern, 2013), особенно учитывая тот факт, что некоторым исследователям удалось близко подойти к выявлению единой (общей) сети реализации КР, активация которой не зависит от вида когнитивной задачи. Базисная сеть КР, по мнению Y. Stern et al. (2018), преимущественно определяется наиболее высокой активацией в мозжечке, медиальной лобной и верхней височной извилинах, что позволяет говорить о том, что у людей с высоким уровнем КР повышена регуляция процессов координации движений и система прогнозирования ошибок, влияющие на повышение уровня концентрации на поставленной задаче, увеличивая вероятность ее эффективного решения. Таким образом, данная концепция является широко применимой моделью, которая может также учитывать качественные сдвиги, происходящие в компенсаторно-функциональных процессах (например, сдвиги в скорости когнитивного спада и т.д.). Также, учитывая роль сосудистых факторов риска в развитии нейрокогнитивных нарушений, своевременное и адекватное лечение ССЗ может считаться профилактикой данных нарушений, а коррекция уже развившегося нейрокогнитивного дефицита должна включать как неспецифические (лечение ССЗ, антиоксидантная терапия и др.), так и специфические принципы (нейропсихологическая коррекция, физическая активность и др.). В итоге при ведении пациентов с когнитивными расстройствами должное внимание нужно уделять не только лечению соматической патологии, но и сопутствующих аффективных и когнитивных расстройств (Гимоян, Силванян, 2013). Связь когнитивного резерва и прогноза ишемической болезни сердца В последнее десятилетие значительно возрос интерес к проблематике когнитивных нарушений у больных с ССЗ. В настоящее время есть все основания полагать, что одним из основных патогенетических факторов нейрокогнитивного дефицита у пациентов с сердечно-сосудистой патологией является нарушение церебральной перфузии в тех или иных отделах головного мозга (Ефимова, 2010). Подтверждением этого являются преимущественно клинические случаи, показывающие, что у пациентов вследствие перенесенных сосудистых мозговых «катастроф» довольно часто наблюдаются расстройства в когнитивной сфере (Вербицкая, 2013; Hu, Chen, 2017). Также у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями на перфузионных томосцинтиграммах обнаружено снижение церебрального кровотока в тех или иных регионах головного мозга (Matsuda et al., 2007). Тем самым перфузионная томосцинтиграфия головного мозга должна применяться в диагностике и динамической оценке диффузных нарушений церебрального кровообращения у больных с ССЗ с целью эффективной своевременной профилактики и терапии когнитивных нарушений, в особенности ИБС. О механизмах, с помощью которых сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания могут так или иначе способствовать развитию ранних нейродегенеративных процессов, пишут Т.Н. Слободин и А.В. Горева (2012). Они указывают на то, что данные заболевания зачастую сопровождаются мозговой гипоксией, что в свою очередь приводит к нарушению митохондриальных процессов в клетке, из-за чего у мозга повышается чувствительность к нейродегенеративным процессам, происходящим в нейронах, за счет экспрессии определенных генов, ответственных за возникновение различных патологических процессов, и необратимого процесса гибели клеток мозга, возможно также способствующего снижению уровня когнитивного функционирования, что напрямую влияет на уровень комплайенса пациентов кардиологического профиля. Важным является вопрос о том, как уровень когнитивного функционирования, в основе которого лежат базовые когнитивные навыки (способности), связан с риском смертности у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящий момент данная проблема остается малоизученной, однако одно из недавних исследований (Loprinzi et al., 2017) показывает, что в группах больных с низким уровнем когнитивного функционирования и низким/высоким риском развития ССЗ был практически одинаковый процент выживаемости, который оказался существенно ниже по сравнению с другими двумя группами, имеющими высокий уровень когнитивного функционирования и низкий/высокий риск развития ССЗ. Распределение по группам по уровню когнитивного функционирования происходило с помощью нейропсихологического теста на замену цифрового символа (Digit symbol substitution test - DSST), являющегося наиболее чувствительным к мозговым повреждениям, деменции и депрессии, и теста на скорость обработки информации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние когнитивных функций так или иначе влияет на прогноз и течение сердечно-сосудистой патологии, повышая или понижая вероятность летального исхода. Было установлено, что когнитивный статус положительно коррелирует с такими поведенческими особенностями пациентов с ИБС, как копинг-стратегии, используемые ими перед операцией аортокоронарного шунтирования. Те пациенты, у которых отмечался более сохранный когнитивный статус, чаще использовали рациональные копинг-стратегии, предполагающие анализ ситуации и планирование собственных действий на основе объективных фактов, а также принятие ответственности за собственные действия и поступки в сложившейся ситуации (копинг-стратегии «планирование решения проблем» и «принятие ответственности») (Солодухин и др., 2016). Полученные результаты представляют одно из перспективных направлений по профилактической работе с данными пациентами в современной соматической клинике кардиологического профиля, а именно работу по профилактике когнитивных нарушений у пациентов с ИБС как до оперативного вмешательства, так и после него с применением различных техник использования наиболее рациональных копинг-стратегий для преодоления разнообразных ситуаций, в которых оказывается больной с ИБС. Существуют данные о том, что когнитивный статус также связан с внутренней картиной болезни у пациентов с ИБС, что существенным образом влияет на уровень приверженности лечению, а следовательно, и на качество жизни данных больных. Например, высокие показатели когнитивного статуса были связаны с гармоничным и эргопатическим вариантами внутренней картины болезни, а у пациентов с низкими показателями чаще встречались анозогнозический и сенситивные варианты внутренней картины болезни (Солодухин, 2017). Это говорит о том, что уровень когнитивного функционирования так или иначе воздействует на восприятие собственной болезни пациентом, что влияет на уровень комплайенса среди данного контингента больных, в связи с чем появляется необходимость в профилактической и терапевтической работе с целью корректировки и нивелирования нейрокогнитивного дефицита и установления оптимального уровня комплайенса между врачом и пациентом. М.А. Зайнуллиной (2000) было установлено, что высокий уровень образования и некоторые профессиональные навыки могут повышать ряд тестовых показателей у больных с ИБС. Это определенно говорит о высокой пластичности познавательных процессов, что в свою очередь создает благоприятные условия для психокоррекционной работы с пациентами. Однако в исследовании D. Mungas et al. (2018) было показано, что уровень образования является показателем КР только у лиц с низким уровнем развития нейродегенеративных процессов в головном мозге, а защитные механизмы КР в виде высшего образования очень быстро теряют свое значение по мере прогрессирования нейродегенерации, что значительно ограничивает область применения концепции КР. Л.Г. Гимоян и Г.Г. Силванян (2013) установили, что депрессия и хронический стресс приводят не только к потере синапсов, но и уменьшению объема головного мозга, вызывая тем самым не только когнитивные, но и аффективные нарушения, что представляет открытое поле для исследований в этой сфере. В исследовании A. Singh-Manoux et al. (2009) выявлено, что состояние когнитивных функций является показателем общей целостности организма, в связи с этим вероятность возникновения ИБС, исходя из полученных результатов, ассоциирована с уровнем рассуждений и размером словарного запаса, но не с показателями уровня беглости речи и уровнем памяти. Данные результаты актуальны только лишь для группы с низким социально-экономическим статусом. Одной из причин этого может служить тот факт, что люди с высоким социально-экономическим статусом имеют достаточно высокий КР, по этой причине связь между вероятностью развития ИБС и высоким социально-экономическим статусом сглаживается, потому как уровень развития когнитивных функций не показывает связи с вероятностью возникновения ИБС. Существуют разные объяснения данного феномена, т.к. на сегодняшний день влияние социально-экономических и когнитивных факторов на здоровье человека не до конца изучено, что является одной из ключевых проблем когнитивной эпидемиологии. В тоже время исследования, посвященные взаимосвязи мозгового кровообращения и когнитивных функций в контексте ИБС, единичны. Однако в некоторых работах была установлена связь артериальной гипертонии (нарушение перфузии мозга) и нейрокогнитивного дефицита, проявляющегося ухудшением процессов запоминания, неустойчивостью внимания и замедлением психомоторной реакции (Vicario et al., 2005), а также продемонстрировано, что артериальная гипертензия, дислипидемия и гиперинсулинемия могут увеличивать риск развития деменции (Kanaya et al., 2004). Перспективные направления исследований когнитивного резерва в контексте ишемической болезни сердца Сегодня практически отсутствуют исследования, целью которых являлось бы выявление соотношения аффективных нарушений и концепции КР в контексте ИБС, однако данный вопрос представляется наиболее интересным на современном этапе изучения ИБС. В некоторых исследованиях рассматривается связь между алекситимией и когнитивными нарушениями у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (рассеянный склероз). Например, M. Chalah et al. (2017) установили, что у больных с рассеянным склерозом средний показатель алекситимии - 50,50 (по Торонтской шкале алекситимии - Toronto Alexithymia Scale, TAS), а показатели теста, оценивающего, насколько человек может понимать свое собственное поведение, мысли и чувства, а также поведение и эмоции других людей (Theory of Mind (ToM) - Модель психического состояния человека), значительно коррелировали с количеством лет обучения. Под концепцией ТоМ преимущественно понимается система репрезентации психических феноменов, с помощью которой мы понимаем как свои собственные мысли, чувства и состояния, так и различные аспекты поведения других людей, что позволяет нам прогнозировать их действия. Исходя из этого можно предположить, что такая переменная КР, как количество лет обучения может коррелировать с уровнем общих когнитивных схем, с помощью которых человек оценивает свои собственные мысли, поведение (когнитивный элемент ToM), а также собственные эмоции и чувства (эмоциональный элемент ТоМ). Именно дисфункция последнего компонента вполне может коррелировать с алекситимией, потому как имеет в своей основе схожее нарушение, а последнее в свою очередь коррелирует с КР. Это также подтверждается некоторыми исследованиями (Chalah, Ayache, 2017), в которых достоверно были показаны последствия когнитивных расстройств, а именно: если реализация когнитивных функций - это интегративная работа всего головного мозга, то, следовательно, нарушение данных функций влияет на все стороны психической жизни человека, в том числе и на когнитивную обработку собственного эмоционального опыта, что опять же может говорить о возможной корреляции между алекситимией и когнитивными нарушениями. Стоит отметить, что была обнаружена значимая корреляция между алекситимией и такими нейропсихологическим показателями, как визуоскопическая обработка информации, низкие социальные когнитивные функции (Grynberg et al., 2012) и вербальные способности (Santorelli, Ready, 2015), а также между тревогой и депрессией (Mosson et al., 2014), однако некоторые авторы не обнаружили корреляции между ними (Dulau et al., 2017). В исследовании M. Karukivi et al. (2016) было установлено, что такие компоненты алекситимии, как «трудность в описании собственных чувств» и «внешне ориентированное мышление» имеют сильную корреляцию с артериальной гипертензией, а нарушение церебральной перфузии у больных артериальной гипертензией оказывает существенное влияние на нарушение когнитивных функций (ухудшение процессов запоминания, неустойчивость внимания, замедление психомоторной реакции) (Vicario et al., 2005). P. Elwood et al. (2002) показали, что пациенты с ИБС имеют довольно низкие результаты не только по нейропсихологическим, но и по специфическим когнитивным тестам, что объясняется нарушением церебральной перфузии в головном мозге. Также пациенты с ИБС с высшим образованием реже имеют когнитивные расстройства за счет более высокого уровня КР. Данный факт может напрямую указывать на связь уровня КР с риском развития как временных, так и стойких когнитивных нарушений при имеющейся ИБС, а также после проведения высокотехнологичных операций на сердце. Однако факторы, влияющие на прогрессирование когнитивных нарушений у данного контингента пациентов, до сих пор мало изучены. Таким образом, можно предположить, что такая личностная характеристика, как алекситимия оказывает негативное влияние на этиопатогенез ИБС, являясь фактором риска развития данной патологии. Также алекситимия, согласно полученным ранее данным на выборках больных с рассеянным склерозом, по всей видимости, связана с уровнем КР. В связи с вышесказанным представляется актуальным провести определенные исследования с применением аналогичных методик для уточнения характера этой связи и механизмов взаимовлияния друг на друга на выборке больных с ИБС. Заключение На сегодняшний день многими исследователями признаются не только биологические, но также и психологические факторы, оказывающие негативное влияние на этиопатогенез ИБС. Особое внимание уделяется риску когнитивных расстройств вследствие прогрессирования данного заболевания или же после оперативного вмешательства, что влечет за собой ухудшение качества жизни пациента и служит предиктором неблагоприятного исхода в дальнейшем. Учитывая, что классификация и структуризация всего спектра нейропсихологических нарушений у пациентов с ИБС значительно затруднена как в диагностическом, так и в лечебно-реабилитационном смысле, концепция КР представляется наиболее потенциально адекватной моделью для решения данной проблемы. Предполагается, что использование данной модели может значительно улучшить эффективность не только психологической, но и физической реабилитации пациентов с ИБС, сделав акцент преимущественно на «когнитивной реабилитации» больных, потому как по большей части именно от этого зависит течение и прогноз указанной патологии в дальнейшем. Тем не менее в клинической психологии на сегодняшний день практически отсутствуют исследования, раскрывающие потенциальные механизмы, лежащие в основе КР и их связь с такими личностными характеристиками, как алекситимия, особенно в контексте изучения психосоматических расстройств типа ИБС. Однако, как указывалось ранее, подобные исследования были проведены на выборке больных с рассеянным склерозом. Полученные данные демонстрируют противоречивые результаты, что представляет открытое поле для дальнейших исследований в этой сфере. Имеет смысл провести серию подобных исследований на выборке больных с ИБС с целью потенциального уточнения соотношения алекситимических черт личности человека и уровня КР, а также для более точного понимания самих механизмов КР и его взаимосвязи с феноменом алекситимии в контексте ИБС.
Об авторах
Дарья Алексеевна Еремина
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: daria.a.eremina@gmail.com
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета
Российская Федерация, 199034, Университетская наб., 7-9Юлия Михайловна Сидоровская
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: sidorovskaya_yulya@mail.ru
студентка 3-го курса факультета психологии по специальности «Клиническая психология» Санкт-Петербургского государственного университета
Российская Федерация, 199034, Университетская наб., 7-9Список литературы
- Агеенкова Е.К. Произвольное пролонгирование психоэмоционального стресса как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2016. № 4. C. 98-102.
- Балашкевич Н.А., Керимкулова А.С., Жумамбаева Р.М. Психосоматические аспекты, влияющие на развитие сердечно-сосудистых заболеваний // Наука и здравоохранение. 2013. № 5. C. 42-44.
- Вербицкая С.В. Ведение пациентов с постинсультной деменцией // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2013. № 2S. C. 46-49.
- Винокур В.А. Психосоматические механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2002. 42 с.
- Гарганеева Н.П., Белокрылова М.Ф., Тюкалова Л.И., Лебедева В.Ф. Влияние невротических и аффективных расстройств на формирование предикторов ишемической болезни сердца и нарушений углеводного и жирового обменов // Бюллетень сибирской медицины. 2015. Т. 14. № 5. С. 22-28.
- Гимоян Л.Г., Силванян Г.Г. Нарушение когнитивных функций: актуальность проблемы, факторы риска, возможности профилактики и лечения // Архивъ внутренней медицины. 2013. № 2 (10). С. 35-40.
- Дайникова Е.И., Пизова Н.В. Когнитивный резерв и когнитивные нарушения: лекарственные и нелекарственные методы коррекции // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2014. № 2S. С. 62-68.
- Еремина Д.А. Динамика когнитивных функций больных ишемической болезнью сердца в процессе реабилитации после коронарного шунтирования: дис. ... канд. психол. наук. СПб.: СПБГУ, 2015. 211 с.
- Ефимова Н.Ю., Чернов В.И., Ефимова И.Ю., Шнайдер О.Л., Попов С.В. Когнитивная функция и церебральная перфузия у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий // Неврологический журнал. 2009. Т. 14. № 5. С. 15-18.
- Зайнуллина М.А. Особенности памяти и внимания у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца: автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб.: СПБГУ, 2000. 188 с.
- Николаев Е.Л., Лазарева Е.Ю. Особенности психической дезадаптации при сердечно-сосудистых заболеваниях // Вестник Чувашского университета. 2013. № 4. С. 209-212.
- Слободин Т.Н., Горева А.В. Когнитивные резерв: причины снижения и защитные механизмы // Международный неврологический журнал. 2012. № 3 (49). С. 161-165.
- Солодухин А.В., Серый А.В., Трубникова О.А., Яницкий М.С., Барбараш О.Л. Взаимосвязь когнитивного статуса и копинг-поведения пациентов с ишемической болезнью сердца перед подготовкой к аортокоронарному шунтированию // Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 6. С. 20-24.
- Солодухин А.В., Беззубова В.А., Кухарева И.Н., Иноземцева А.А., Серый А.В., Яницкий М.С., Трубникова О.А., Барбараш О.Л. Взаимосвязь психологических характеристик внутренней картины болезни и копинг-поведения пациентов с ишемической болезнью сердца с параметрами их когнитивного статуса // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2017. Т. 14. № 2. С. 178-189. doi: 10.22363/2313-1683-2017-14-2-178-189
- Стрижицкая О.Ю. Когнитивный резерв как психологический и психофизиологический ресурс в период старения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2. С. 79-87.
- Трубникова О.А., Тарасова И.В., Сырова И.Д., Мамонтова А.С., Коваленко А.В., Барбараш О.Л., Барбараш Л.С. Нейропсихологический статус пациентов с малыми и умеренными стенозами сонных артерий, перенесших коронарное шунтирование // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013. Т. 113. № 3. С. 28-33.
- Фонякин А.В. Сердечно-сосудистые заболевания и нарушение когнитивных функций. Профилактика и лечение // Русский медицинский журнал. 2011. Т. 19. № 9 (403). С. 538-544.
- Шумков К.В., Лефтерова Н.П., Пак Н.Л., Какучая Т.Т., Смирнова Ю.Ю., Полунина А.Г., Воеводина В.М., Мерзляков В.Ю., Голухова Е.З., Бокерия Л.А. Аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения и на работающем сердце: сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов и послеоперационных осложнений (нарушения ритма сердца, когнитивные и неврологические расстройства, реологические особенности и состояние системы гемостаза // Креативная кардиология. 2009. № 1. С. 28-50.
- Bak T.H., Nissan J.J., Allerhand M.M., Deary I.J. Does bilingualism influence cognitive aging // Annals of Neurology. 2014. Vol. 75. Pp. 959-963. doi: 10.1002/ana.24158
- Barulli D., Stern Y. Efficiency, capacity, compensation, maintenance, plasticity: emerging concepts in cognitive reserve // Trends in Cognitive Science. 2013. Vol. 17. No. 10. Pp. 502-509. doi: 10.1016/j. tics.2013.08.012
- Canto J.G., Iskandrian A.E. Major risk factors for cardiovascular disease: debunking the “only 50 %” myth // Journal of the American Medical Association. 2003. Vol. 290. Pp. 947-949. doi: 10.1001/ jama.290.7.947
- Chalah M.A., Kauv P., Lefaucheur J.P., Hodel J., Créange A., Ayache S.S. Theory of mind in multiple sclerosis: A neuropsychological and MRI study // Neuroscience Letters. 2017. Vol. 658. Pp. 108- 113. doi: 10.1016/j.neulet.2017.08.055
- Chalah M.A., Ayache S.S. Alexithymia in multiple sclerosis: A systematic review of literature // Neuropsychologia. 2017. Vol. 104. Pp. 31-47. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2017.07.034
- Dulau C., Deloire M., Diaz H., Saubusse A., Charre-Morin J., Prouteau A., Brochet B. Social cognition according to cognitive impairment in different clinical phenotypes of multiple sclerosis // Journal of Neurology. 2017. Vol. 264. No. 4. Pp. 740-748. doi: 10.1007/s00415-017-8417-z
- Elwood P.С. Vascular disease and cognitive function in older men in the Caerphilly cohort // Age Ageing. 2002. Vol. 31. No. 1. Pp. 43-48. doi: 10.1093/ageing/31.1.43
- Friedman M., Rosenman R.H. Association of specific overt behavior pattern with blood and cardiovascular findings; blood cholesterol level, blood clotting time, incidence of arcus senilis, and clinical coronary artery disease // Journal of the American Medical Association. 1959. Vol. 169. No. 12. Pp. 1286- 1296. doi: 10.1161/01.cir.24.5.1173
- Grynberg D., Luminet O., Corneille O., Grèzes J., Berthoz S. Alexithymia in the interpersonal domain: A general deficit of empathy? // Personality and Individual Differences. 2010. Vol. 49. Pp. 845- 850. doi: 10.1016/j.paid.2010.07.013
- Hu G.-C., Chen Y.-M. Post-stroke Dementia: Epidemiology, Mechanisms and Management // International Journal of Gerontology. 2017. Vol. 11. No. 4. Pp. 210-214. doi: 10.1016/j. ijge.2017.07.004
- Jagust W.J., Mormino E.C. Lifespan brain activity, β-amyloid, and Alzheimer’s disease // Trends in Cognitive Sciences. 2011. Vol. 15. No. 11. Pp. 520-526. doi: 10.1016/j.tics.2011.09.004
- Kanaya A.M., Barrett-Connor E., Gildengorin G., Yaffe K. Change in cognitive function by glucose tolerance status in older adults: a 4-year prospective study of the Rancho Bernardo study cohort // Archives of internal medicine. 2004. Vol. 164. No. 12. Pp. 1327-1333. doi: 10.1001/ archinte.164.12.1327
- Karukivi M., Jula A., Hutri-Kähönen N., Juonala M., Raitakari O. Is alexithymia associated with metabolic syndrome? A study in a healthy adult population // Psychiatry Research. 2016. Vol. 236. Pp. 58-63. doi: 10.1016/j.psychres.2015.12.034
- Lichtman J., Froelicher E.S., Blumenthal J.A., Carney R.M., Doering L.V., Frasure-Smith N., Freedland K.E., Jaffe A.S., Leifheit-Limson E.C., Sheps D.S., Vaccarino V., Wulsin L. Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: systematic review and recommendations: a scientific statement from the American Heart Association // Circulation.2014. Vol. 129. Pp. 1350-1369. doi: 10.1161/cir.0000000000000019
- Liu R., Hernandez E.M., Trout Z.M., Kleiman E.M., Bozzay M.L. Depression, social support, and longterm risk for coronary heart disease in a 13-year longitudinal epidemiological study // Psychiatry Research. 2017. Vol. 251. Pp. 36-40. doi: 10.1016/j.psychres.2017.02.010
- Livingston J., Sommerlad A., Orgeta V., Costafreda S.G., Huntley J., Ames D., Ballard C., Banerjee S., Burns A., Cohen-Mansfield J., Cooper C., Fox N., Gitlin L.N., Howard R., Kales H.C., Larson E.B., Ritchie K., Rockwood K., Sampson E.L., Samus Q., Schneider L.S., Selbæk G., Teri L., Mukadam N. Dementia prevention, intervention, and care // The Lancet. 2017. Vol. 390. No. 10113. Pp. 2673-2734. doi: 10.1017/ipm.2018.4
- Loprinzi P., Crush E., Joyner C. Cardiovascular disease biomarkers on cognitive function in older adults: Joint effects of cardiovascular disease biomarkers and cognitive function on mortality risk // Preventive Medicine. 2017. Vol. 94. Pp. 27-30. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.11.011
- Ma L., Li Y. The effect of depression on sleep quality and the circadian rhythm of ambulatory blood pressure in older patients with hypertension // Journal of Clinical Neuroscience. 2017. Vol. 39. Pp. 49-52. doi: 10.1016/j.jacc.2016.07.539
- Mahmood S. et al. Prevalence and predictors of depression amongst hypertensive individuals in Karachi, Pakistan // Cureus. 2017. Vol. 9. No. 6. P. 1397. doi: 10.7759/cureus.1397
- Matsuda H. The role of neuroimaging in mild cognitive impairment // Neuropathology. 2007. Vol. 27. No. 6. Pp. 570-577. doi: 10.1111/j.1440-1789.2007.00794.x
- Mosson M., Peter L., Montel S. Impact of physical activity level on alexithymia and coping strategies in an over-40 multiple sclerosis population: a pilot study // Revista de Neurología (Paris). 2014. Vol. 170. No. 1. Pp. 19-25.
- Mungas D., Gavett B., Fletcher E., Farias S.T., DeCarli C., Reed B. Education amplifies brain atrophy effect on cognitive decline: implications for cognitive reserve // Neurobiology of Aging. 2018. Vol. 68. Pp. 142-150. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.04.002
- Nilsson J., Lövdén M. Naming is not explaining: future directions for the “cognitive reserve” and “brain maintenance” theories // Alzheimer’s Research & Therapy. 2018. Vol. 10. Pp. 1-7. doi: 10.1186/ s13195-018-0365-z
- Reamy B.V., Williams P.M., Kuckel D.P. Prevention of Cardiovascular Disease // Primary Care. 2018. Vol. 45. No. 1. Pp. 25-44. doi: 10.1016/j.pop.2017.11.003
- Santorelli G.D., Ready R.E. Alexithymia and Executive Function in Younger and Older Adults // Clinical Neuropsychology. 2015. Vol. 29. No. 7. Pp. 938-955. doi: 10.1080/13854046.2015.1123296
- Singh-Manoux A., Sabia S., Kivimaki M., Shipley M.J., Ferrie J.E., Marmot M.G. Cognition and incident coronary heart disease in late midlife: The Whitehall II study // Intelligence. 2009. Vol. 37. No. 6. Pp. 529-534. doi: 10.1016/j.intell.2008.12.001
- Sole-Padulles C., Bartres-Faz D., Junque C. Brain structure and function related to cognitive reserve variables in normal aging, mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease // Neurobiology ofAging. 2009. Vol. 30. No. 7. Pp. 1114-1124. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2007.10.008
- Stern Y. What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept // Journal of the International Neuropsychological Society. 2002. Vol. 8. No. 3. Pp. 448-460. doi: 10.1017/ s1355617702813248
- Stern Y. Cognitive reserve and Alzheimer disease // Alzheimer Disease & Associated Disorders. 2006. Vol. 20. Pp. S69-S74. doi: 10.1097/01.wad.0000213815.20177.19
- Stern Y., Zarahn E., Hilton H.J., Flynn J., DeLaPaz R., Rakitin B. Exploring the neural basis of cognitive reserve // Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2003. Vol. 25. Pp. 691-701. doi: 10.1076/jcen.25.5.691.14573
- Stern Y., Gazes Y., Razlighi Q., Steffener J., Habeck C. A task-invariant cognitive reserve network // NeuroImage. 2018. Vol. 178. Pp. 36-45. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.05.033
- Valenzuela M.J., Sachdev P., Wen W., Chen X., Brodaty H. Lifespan mental activity predicts diminished rate of hippocampal atrophy // PLoS One. 2008. Vol. 3. No. 7. P. e2598. doi: 10.1016/j.jalz.2008.05.2483
- Vicario A., Martinez C.D., Baretto D., Diaz Casale A., Nicolosi L. Hypertension and cognitive decline: impact on executive function // American Journal of Hypertension (Greenwich). 2005. Vol. 7. No. 10. Pp. 598-604. doi: 10.1111/j.1524-6175.2005.04498.x
- Yuan R., Wang J., Guo L. The Effect of Sleep Deprivation on Coronary Heart Disease // Chinese Medical Sciences Journal. 2016. Vol. 31. No. 4. Pp. 247-253. doi: 10.1016/s1001-9294(17)30008-1
Дополнительные файлы