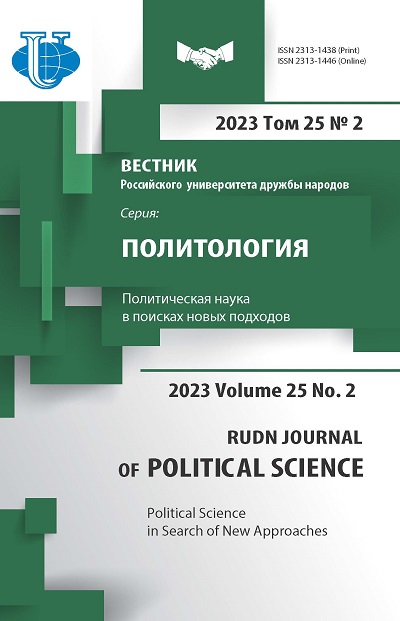«Свой среди чужих»: GR-менеджмент как политическое управление в арсенале «неполитических» агентов
- Авторы: Дегтярёв А.А.1
-
Учреждения:
- Московский государственный институт международных отношений МИД России
- Выпуск: Том 25, № 2 (2023): Политическая наука в поисках новых подходов
- Страницы: 348-367
- Раздел: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ И СТРАТЕГИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/35155
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-2-348-367
- EDN: https://elibrary.ru/YYYTLQ
- ID: 35155
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматриваемая тема до сих пор находится в орбите отечественной дискуссии политологов и специалистов по Government Relations (GR). И среди них пока нет согласия относительно предметного поля изучаемой дисциплины. Мнения расходятся, относя GR к прикладной политологии, социологии коммуникаций или же к корпоративному менеджменту. В исследовании дан анализ проблем определения предмета GR-менеджмента как прикладной политологической дисциплины, а также ее категориального аппарата. Особенность GR как вида политического менеджмента состоит в том, что блок целеполагания деятельности GR-менеджеров и корпоративных лоббистов находится во «внутренней» и «неполитической» среде (экономической, социальной и др.), которая может быть связана с поддержанием конкурентоспособности фирмы и получением ею экономической прибыли. А вот средства достижения данных целей расположены уже во внешней социально-политической среде, в которой формируется поле для политического поведения заинтересованных акторов. И здесь мы сталкиваемся с феноменом инверсии представляемых в публичной политике партикулярных интересов, когда для их продвижения необходимо конвертировать цели экономической стратегии в адекватные частные вопросы при построении общей государственной повестки и в конкретные задачи стратегии и тактики уже отдельной GR-кампании.
Полный текст
Введение В современной России набирают все большие обороты процессы практического использования технологий GR-менеджмента, как и вторичные процессы изучения природы и структуры этих же феноменов. За последние два десятилетия в нашей стране написано уже довольно много отдельных материалов и серьезных публикаций по данной тематике, возникли специальные программы магистерской подготовки и даже проекты профессионального стандарта GRспециалистов (подготовленные для Минтруда РФ). И вот на этой, достаточно новой, почве встает теперь ряд вопросов уже методологического характера, связанных с междисциплинарным и межсекторальным характером данного вида социальной активности негосударственных акторов. Во-первых, у ряда политологов, в отличие от вполне и давно ими признанного феномена лоббизма, возникают сомнения (не всегда, правда, обоснованные) в аутентичности политологического статуса субдисциплины Government Relations (GR), которая развивается за рубежом уже более полувека, что почти вдвое дольше срока ее же стремительного развертывания в нашей стране. И не всегда понятным остается взаимоотношение политической науки с GRменеджментом, который опирается и на другие фундаментальные знания (будучи при этом прикладной дисциплиной, о чем уже ранее приходилось писать [Дегтярёв 1998: 20-22]), когда практикующие в ней специалисты черпают вдохновение в таких смежных дисциплинах, как экономическая и социологическая науки и т.д. И, во-вторых, пока что выглядит непроясненным вопрос об особенностях GR как разновидности политического менеджмента, негосударственные агенты которого по своей основной деятельности имеют вроде бы «неполитический» статус (бизнес-корпорации и деловые ассоциации, НКО и профсоюзы), но при этом занимаются все же реальной политической работой, оказывая зримое влияние на лиц, принимающих решения (ЛПР). Именно эти вопросы и послужили известным мотивом для дальнейшей постановки задач при анализе предлагаемого сюжета. И поэтому целью данной работы является комплексное изучение предметного поля GR-менеджмента, определение ряда его категорий, а также выяснение функциональных взаимоотношений между основной и неосновной сферами и средами активности участвующих в этой работе акторов, корпоративных специалистов и лоббистов-консультантов. «Цели спрятаны внутри, а средства выведены наружу»: основные и неосновные функции в управлении Прежде всего, здесь следует прояснить самый первый вопрос о характере аутентичности (или степени политологичности) предметно-объектного поля GR-менеджмента и о его связи с политической сферой жизнедеятельности общества, а также со смежными его сферами и изучающими их фундаментальными науками. И тут мы сталкиваемся с известным дуализмом статусов и амбивалентностью ролей участников процессов лоббирования как субъектов и объектов политического менеджмента и прикладной политологии. Дело в том, что, к примеру, крупная корпорация как особая группа давления выступает одновременно и как социально-политический, и как экономический институт [Перегудов 2006: 25]. Другими словами, для адекватного понимания природы групп давления следует смелее вводить в научный оборот рассмотрение их амбивалентного и флуктуирующего местоположения в контекстах взаимодействия политической, социальной и экономической «сфер-сред», функциональной взаимосвязи «основных-неосновных» видов деятельности, и вытекающих из этого взаимоотношения изменения их «статусов-ролей». Общеизвестно, что группы интересов и давления политологи обычно включают в состав политической системы общества, где, например, Г. Алмондом и И. Пауэллом [Comparative… 2010] этим групповым объединениям вменяется специальная функция артикуляции частных интересов. Но, в отличие от политических партий и движений, назвать их специализированными «политическими машинами», борющимися за власть, будет все-таки явным преувеличением. И в этом плане партийный и электоральный менеджмент, как управление процессами массовой мобилизации и борьбы за формирование органов государственной власти (ОГВ), будет существенно отличаться от другой разновидности политического управления - GR-менеджмента, ставящего уже иную функциональную задачу - оказания лишь влияния на работу уже прежде сформированных ОГВ для обеспечения участия профессиональных лоббистов в процессах принятия решений, и в итоге, как это ни парадоксально, для осуществления исходных и базовых «неполитических» задач (экономических, социальных и пр.), но при этом выполняемых именно политическими средствами. Но различие состоит тут в том, что целевой блок в управлении партийной и электоральной борьбой определяется на основе внутренних принципов и правил политической динамики, а вовсе не вытекает прямо из особенностей ее экономической среды, хотя и связан с ней. А у корпоративных лоббистов это выглядит совсем иначе, и, образно говоря, - правая и основная нога находится в экономике, а вот левая - в политике. К примеру, не так давно это отличие весьма наглядно проявилось при принятии и осуществлении федерального решения об обязательной маркировке продуктов питания, что тут же вызвало сильную ответную лоббистскую реакцию ряда бизнес-организаций, производящих молочные продукты, которые в итоге организовали в отраслевой «внешней» среде активную политическую кампанию по смягчению данного регуляторного решения. И здесь стоит немного остановиться на существенных отличиях некоторых разновидностей политического менеджмента, а именно политического менеджмента государственных и негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций. Для начала следует функционально отграничить здесь «менеджмент властвования» как управление политическими процессами «сверху», со стороны госорганов (исполнительных, законодательных, и др.), от «менеджмента влияния», со стороны негосударственных организаций «снизу» (НКО и социальных движений, корпораций и ассоциаций бизнеса, и т.д.). И хотя многие формы и методы управленческого воздействия здесь явно пересекаются (медиа-рилейшенз, и др.), диапазон и номенклатура их арсеналов все же существенно отличаются, поскольку в системе государственного управления применяются методы административного контроля и легитимного принуждения. В свою очередь, государственное управление включает в себя два базовых вида социально-политической активности государственной организации - с одной стороны, и государственное администрирование общественными процессами (экономическими и социальными в том числе), что составляет основную функцию государственной организации, и с другой - государственную политику и политическое руководство людьми как самими управленцами (бюрократией), так затем ими же руководимыми гражданами [Купряшин, Cоловьев 2013: 171-174]. Политические руководители (федерального и регионального уровня) принимают ключевые политические решения, стараясь держаться в рамках определенных ими же стратегических целей государственной политики. Но тут следует отметить, что управлять целостными отраслевыми процессами приходится все же через системно-организованное руководство или организационное поведение людей. Сам же термин «политическое руководство» ранее активно использовался как синоним партийного руководства (КПСС) и вошел в отечественный оборот еще в советский период, то есть гораздо раньше, чем то самое (и ныне у нас широко распространенное) понятие политического менеджмента, обозначая высший уровень функций политического управления (в советское время закрепленных за ЦК КПСС и его Политбюро, а сейчас - за Администрацией Президента и Советом Безопасности). К примеру, эта категория включает в себя персонально-групповое позиционирование, перегруппировку и маневрирование в рамках кадровой политики и политико-бюрократических ротаций и назначений на высшие административные должности в стране. А вот собственно технократическое и гражданское государственное администрирование большинством общественных (экономическими, социальными, культурными и др.) процессами закрепляется обычно за российским Правительством и его министерствами и ведомствами. И поэтому если целью правительственной деятельности в организационно-административной (и условно, «неполитической») логике является обеспечение и воспроизводство комплекса общественных благ для граждан, то задачей высшего политического блока (но уже в его собственной логике) видится там удержание государственной власти, руководство людьми и назначение управленческих кадров, также политический контроль над базовыми центрами принятия государственных решений. И тут происходит некая «инверсия сфер-сред» госуправления - ведь чтобы успешно принять бюджетное решение и в итоге распределить финансовые ресурсы уже затем во всей социально-экономической сфере развития всего общества, в рамках определенных политическими руководителями целей и приоритетов бюджетной политики, им необходимо контролировать как персонал финансовых ведомств, так и само парламентское большинство. Но для осуществления данной отраслевой логики и экономической задачи государственные руководители должны тогда использовать целый арсенал не только административных и финансовых инструментов, но уже самих политических средств (торг и блокирование, маневрирование и манипулирование и пр.), в результате которого формируется «коалиция поддержки» данного бюджетного решения, преодолевающая сопротивление оппозиции. Таким образом, в рамках логики деятельности по государственному регулированию экономической среды вначале здесь ставятся стратегические задачи (например, отраслевые нацпроекты), а уже потом выбирается набор инструментов для их оптимального достижения - от финансовых до административных, включая и политические, которые требуют их соответствующей конвертации поставленных задач для политической среды. Поэтому первый блок понятий связан с предметной и целеполагающей деятельностью («S-O» как субъект-объектная активность), где государственные органы выступают как обобщенный субъект управления общественными процессами, а вот второй - раскрывается уже как целедостижительное поведение, когда происходит мобилизация граждан государственными руководителями и бюрократами, а также их взаимное позиционное маневрирование и согласование интересов («S-S» как субъект-субъектная активность), Например, итоговое распределение бюджетных ресурсов относится к первому варианту, тогда как политический торг и согласование позиций профильных чиновников, депутатов в парламенте и корпоративных лоббистов по поводу принятия проекта бюджета можно отнести ко второму случаю [Lerbinger 2006]. Другими словами, чтобы регулировать социальные процессы и распределять общественные ресурсы, нужно руководить участвующими в этом людьми, контролировать ключевых стейкхолдеров, маневрировать тактическим средствами борьбы. И тогда первый «властный» менеджмент (государственное администрирование) отражает в основном аспекты государственно-управленческой деятельности по регулированию целостных общественных процессов, установлению и использованию правил игры, распределению общественных благ, а второй - описывает политическое руководство и контроль над поведением базовых акторов, опирающийся на «жесткие» и «мягкие» технологии их мобилизации и блокировки. В том же плане (это приходилось отмечать уже ранее) можно заметить, что и всякая негосударственная политическая активность также органично распадается на два базовых ее вида, где первый обозначается как «политическая деятельность», которая связана с воздействием агента-субъекта (бюрократов, депутатов, лоббистов, и др.) на объект управления (публичную проблему как неудовлетворительное состояние отдельного социального процесса) для получения ожидаемого политико-управленческого результата [Дегтярёв 1998: 96-98]. Например, это происходит тогда, когда корпоративные лоббисты борются за свои конкурентные преимущества для приобретения ренты и прибыли через принятие дистрибутивных решений ОГВ при распределении госзакупок или целевых бюджетных ассигнований. Ко второму же виду активности можно отнести «политическое поведение», которое характеризуется доминированием анализа уже иного измерения - позиционного воздействия политического субъекта на диспозиции всех других субъектов-стейкхолдеров (например, провластных политических партий на их коллег-оппозиционеров или лоббистов-конкурентов), которое включает в себя формирование коалиций и союзов, соглашений и компромиссов, маневрирование формами и методами борьбы. Таким образом, в механизме лоббирования обязательно учитывать эти оба взаимосвязанных аспекта - целеполагающее лоббирование для преодоления интересующих публичных проблем (например, избыточное налоговое давление) и обеспечивающее его адекватными способами - целедостижительное лоббирование динамики позиций (выгодное продвижение или блокирование) ключевых стейкхолдеров. Таким образом, конкретные лоббистские воздействия и GR-кампании проходят уже в соответствии с законами и правилами политической динамики. Однако самый важный и парадоксальный методологический момент, на который здесь следует обратить наше внимание, это то, что бизнес становится «своим среди чужих», неплохо играя на чужом поле в профессиональную политику вместе с депутатами и чиновниками. И связан он с тем, что сами миссии и цели основной деятельности негосударственных агентов расположены как бы «вне» собственно специфического поля политической сферы жизнедеятельности, в смежных сферах экономической, социальной и др. жизни общества, тогда как средства их достижения практически полностью зависят от степени адекватности и грамотности политического поведения, находящегося в пространстве их уже неосновной деятельности. И вот как это выглядит. Например, для бизнес-организаций, где базовой задачей работы строительной корпорации выступает вовсе не как какой-либо захват и удержание государственной власти. предполагающий установление полного контроля над профильным министерством (хотя и такое в жизни может случиться), а только поддержание конкурентоспособности данной фирмы на отраслевом рынке, обусловленной показателями оборота и выручки, дохода и прибыли, и пр. Но поскольку часть доходов фирмы связана с получением текущих госзаказов, как это происходило с группой ПИК в программе московской реновации, или же зависит от изменения регуляторной базы, в свою очередь вызывающей повышение налоговой нагрузки на строительные фирмы. И возникает феномен так называемой «сферной инверсии», когда вдруг выясняется, что для успешной реализации основной экономической деятельности данной компании приходится вовсю заниматься деятельностью неосновной и политической, где указанная ранее «инверсия» представляет собою учет (инкорпорирование) индивидуального и группового интересов экономических агентов (по производству и максимизации экономической прибыли), в процессе «межсферного» поддержания адекватного им характера «внешней» политической среды, для обеспечения релевантной степени конкурентоспособности их основной экономической деятельности [Дегтярёв 2021: 152]. Что изучается в предметных рамках GR-менеджмента? На фоне ныне привычных категорий лоббирования (микропроцессы) и лоббизма (макропроцессы), обычно понимаемых большинством политологов как «искони политологическая» проблематика и разновидность политического поведения и элемент политической системы, отечественным специалистам по GR-менеджмент приходится пока все еще доказывать свою политологическую идентичность и цеховую аутентичность, поскольку немало тех же авторов до сих пор считают GR необходимым компонентом прежде всего корпоративного управления, которое по своей природе имеет доминирующий экономический (а не политический) характер. Хотя уже в самом начале 2000-х гг. в свет вышла известная работа С.П. Перегудова, в которой им убедительно обосновывается особая и дуалистическая феноменология крупной корпорации как особой лоббистской группы давления, экономического и социально-политического института, что может вполне стать затем важным аргументом в пользу того, что и корпоративный менеджмент также может быть параллельно связан как с экономическим, так и политическим управлением [Перегудов 2000: 102-104]. В специальной литературе идут довольно оживленные дискуссии о комплексной природе и предметном поле GR как многомерного, мультидисциплинарного и межсекторального объекта социального исследования и предмета управленческого анализа. На сегодняшний день, в рамках данного обсуждения, сложилось три доминирующих подхода, которые органично связаны с тремя его различными дисциплинарными интерпретациями, когда в рамках политологии изучается лоббирование негосударственных организаций, тогда как сквозь призму социологии на первый план выходит социально-коммуникативное взаимодействие, а в экономике и также в корпоративном управлении выделяется оперативный уровень стратегического менеджмента негосударственного влияния фирмы во «внешней» политической среде. Во-первых, в указанной литературе заметное место имеют интерпретации GR с позиций академической политологии как лоббистского процесса влияния и давления негосударственных акторов на работу центров принятия государственных решений. В данных трактовках авторы рассматривают GR и лоббирование практически как синонимы [Автономов 2004], но с той лишь разницей, что если в довоенный период к лоббистским группировкам относили лишь такие аутсорсинговые формы организации, как деловые ассоциации (Американская медицинская ассоциация) и юридические консалтинговые фирмы, то начиная с 1960- 1970-х гг., в эпоху расцвета международных корпораций, началось использование таких гораздо более благозвучных понятий, как GR и Public Affairs (РА). Поэтому остановимся здесь на определении GR-активности в качестве синонимичного инварианта характеристики процесса лоббирования, то есть политической деятельности и поведения по оказанию влияния (давления) негосударственных акторов (организаций и групп) на ход государственного управления и результаты работы публичных центров принятия решений (ЦПР), в том числе это касается осуществления влияния отдельной частной корпорации на публичные действия органа государственной власти. На подобных методологических и дисциплинарных позициях рассмотрения проблематики GR как «Мира влияния» (или лоббистского давления) обычно основывают свои исследовательские разработки многие специалисты в классических [Coen, Grant, Wilson 2010]. и прикладных [Craig 2009] областях политической науки. Во-вторых, далее идут трактовки с позиций «Мира коммуникаций», то есть социологической теории коммуникаций (базу которой создала концепция коммуникативного действия Ю. Хабермаса), где cфера GR интерпретируется как специфический вид социально-политических коммуникаций и тип коммуникативного воздействия, наряду с соседними сферами связей с общественностью (Public Relations / PR) и публичной активности (Public Affairs / PA), и иногда даже как их специфический подвид (кстати, для PA менеджмента, занятого управлением всей неэкономической средой фирмы, это выглядит вполне оправданным). Интересно, что подобную трактовку дает и чарльз Мак, автор первого в мире учебного пособия по данной проблематике, отмечая, что GR «есть приложение индивидами или институтами коммуникативной техники для воздействия на принятие государственных решений» [Mack 1997: 4]. Есть даже достаточно радикальные версии, где GR просто называют разновидностью политического PR. Так, авторами довольно известного учебника утверждается, что GR - это прежде всего коммуникативная деятельность, и другими словами, это «вид PRдеятельности социального субъекта, направленный на регуляцию отношений с органами власти» [GR и лоббизм… 2021: 23]. В-третьих, с микроэкономической и менеджериальной точки зрения, данный феномен определяется как одна из разновидностей управления в смежных зонах функционирования негосударственных его секторов (бизнес-организаций и общественных объединений), или как просто особый тип политического менеджмента [Зиновьев, Морозов, Морозова 2003: 179]. Целый ряд исследователей считают, что все же главная среда обитания GR находится в «Мире управления», и трактуют эту бурно развивающуюся область как новое и специфическое направление менеджмента фирм и прочих негосударственных организаций или же как межсекторную и пограничную зону осуществления и пересечения публично-государственного и частно-корпоративного типов управления, некоммерческого и социального менеджмента [Lerbinger 2006]. И уже в другом учебнике «GR: взаимодействие бизнеса и органов власти» GR рассматривается лишь как управленческая подсистема государственно-частного партнерства (ГчП) и социального партнерства (СП) бизнеса [GR: взаимодействие… 2017: 115-117], в качестве вида управления экономическими процессами на микроуровне (блок корпоративного менеджмента) или даже на макроуровне (система ГчП). Таким образом, в результате получается, что GR - это особый тип межсекторального управления (менеджмент «внешней» среды) бизнес-корпорации или же другого вида менеджмента негосударственной организации (НГО) [Молчанова 2016]. Кроме коммуникативного подхода довольно распространенными являются смежные определения GR как некоего социально-политического взаимодействия, с использованием техники маркетинга и коммуникаций [De Fouloy 2011: 135-136]. И в этом плане в отечественной литературе появился даже некий концепт «мостостроительства», авторы которого разделяют и соотносят понятие «лоббирование» как средство достижения целей с понятием GR как отражением стратегического уровня исходного целеполагания. Например, авторы уже указанного учебника по GR отмечают, что «специалисты в обла сти GR - люди, которые строят мост между властью и бизнесом (или иными общественными организациями), для того чтобы по этому мосту могли пройти лоббисты для решения своих вопросов с властью» [Ачкасова, Минтусов, Филатова 2021: 39]. Итак, здесь можно подвести промежуточный итог, и предложить наше рабочее определение GR как наиболее общей здесь категории. GR-менеджмент - это специфический вид политического управления процессом осуществления негосударственного влияния, который содержит стратегию и тактику социально-политической активности негосударственных агентов для представления и продвижения их интересов в рамках целостной и объективированной системы представительства интересов. И это прикладная социальная наука, изучающая (на мультидисциплинарной базе) общие принципы, формы и методы межсекторального, межорганизационного и межгруппового управления процессом осуществления влияния (давления и участия) негосударственных агентов (формальных организаций и неформальных стейкхолдеров) на активность государственных агентов, центров публичной политики и принятия решений, при представлении и продвижении интересов, для создания адекватной «внешней» политико-государственной среды ведения ими базовой социальной и экономической деятельности. Другими словами, если попробовать кратко синтезировать указанные выше подходы, то получается, что GR - это коммуникативный менеджмент осуществления влияния негосударственных агентов на принятие публично-государственных решений для инкорпорирования партикулярных (в основном «неполитических») вопросов в публично-государственную повестку и их последующего разрешения. Но подобная интерпретация требует привлечения и более частных понятий этого сложного категориального блока. Попробуем разобраться теперь и в общей логике формирования самой предметной и понятийной области GR-менеджмента. Во-первых, GR-менеджмент в известной мере отражает общую логику межсекторального взаимодействия (рис.), то есть взаимодействия между участниками трех макросекторов и базовых видов общественного управления - государственного, коммерческого (корпоративного) и некоммерческого, которые соответственно связаны также с тремя основными сферами общественной жизнедеятельности - политической, экономической и социальной [Дегтярёв 2018: 173-175]. Кроме того, к основным дисциплинам, в рамках которых специально и предметно изучаются данные сферы, можно в первую очередь отнести политическую, экономическую и социологической науки, причем в основном в их специфической субдисциплинарной зоне - микрополитики, микроэкономики и микросоциологии, в отличие от дисциплинарных особенностей изучения лоббизма как макросистемы функционального представительства социальных интересов и субинститута политической системы, которые обычно закрепляются за объектами именно политологии. Логика формирования предметного поля современного GR-менеджмента Источник: составлено автором. The Logic of GR-management subject-matter field formation Source: compiled by the author. Во-вторых, примерно таким же «триадичным» образом выстраиваются категориальные ряды для соотнесения основных аспектов функционирования GR-менеджмента сквозь призму политической, экономической и социологической науки, то есть «цепочки» экономической, политической и социальной сред развития данного вида политического менеджмента. Начнем свой путь с рассмотрения первой по счету «неполитической» среды, а именно с экономической сферы, расположенной по центру предложенной на рис. схемы. И первый «экономический» категориальный ряд (см. по вертикали) начинается именно с механизмов функционирования «внутренней» экономической сферы, связанных с рыночными правилами конкуренции и обеспечения конкурентоспособности организаций бизнеса, базовым критерием результатив ности которых выступает позитивная динамика получения политической ренты и экономической прибыли. Итак, логическое движение бизнеса в публичную политику начинается здесь так: микроэкономика и корпоративное управление - государственное управление и его регуляторная и дистрибутивная политика (учет воздействия «внешней» политико-государственной среды) - публичная активность (public affairs как менеджмент всей «внешней» общественной среды) - корпоративный GR-менеджмент (как менеджмент лишь «внутри» политической среды). Таким образом, логика развертывания данного вида управления корпоративным лоббированием стартует с анализа внешнего воздействия на основной производственный менеджмент, то есть влияния уже «внешних» общественно-политических факторов на «внутреннюю» среду бизнеса, а потом там осуществляется и поиск реагирования бизнеса на эти внешние вызовы, в виде собственно политической стратегии и тактики бизнес-организаций. И в предлагаемой в данной схеме модели во втором, уже «политическом», категориальном ряду продолжается развертывание той же логики анализа, хотя старт тут идет уже от базового фундамента GR и политического менеджмента - проблематики политической науки. Она вполне органично связана с изучением механизмов государственной власти, где политическая динамика и публичная политика - это уже основной субстрат и внутренняя среда (хотя по своей природе она и внешняя, и изначально чужеродная для исходных задач работы рыночного бизнеса). И эта вторая «цепочка» выглядит так: микрополитика - государственное управление, политика и администрирование («внешняя» политико-государственная среда) - регуляторная и дистрибутивная госполитика (стратегические цели управленческой деятельности по поводу регулирующих и распределяющих процессов) - политический менеджмент (как тактически обеспечивающее его средствами акторное воздействие) - регуляторный и дистрибутивный GR-менеджмент (как лоббистское реагирование на базовые виды госполитики). И в завершении следует также выделить и такие базовые организационно-институциональные формы ведения GR-работы, включающие корпоративные (крупные компании), ассоциативные (деловые ассоциации) и консалтинговые организации, в свою очередь обладающие особенностями политического участия И наконец, третий ряд представленных в схеме категорий тянется от микросоциальных разделов социологической науки, которые связаны с социальной стратификацией и групповой идентификацией, образуя социальную среду работы некоммерческих организаций (НКО), которые также (не будучи специализированными политическими агентами) занимаются общественно-политической работой. И тут все начинается с фундаментальных механизмов микросоциологии, затем переходит в социальный менеджмент НКО, в качестве отдельного блока которого (так же как и в случае с бизнесом) проявляется менеджмент «внешней» (общественно-политической) среды организации, где наряду с инструментами PR используются также и технологии GR-менеджмента организаций третьего сектора [Молчанова 2016: 21-26]. Кроме того, на последующих этажах категориальной системы GR-менеджмента расположены понятия политической стратегии и тактики влияния негосударственных агентов. Остановимся поэтому здесь на особенностях формирования функций и уровней политической стратегии и тактики подобного «неполитического» (по своей исходной природе) агента, которая тесно сопряжена с базовой целью его экономической стратегии. Политический менеджмент как способ осуществления экономических задач: от стратегии кОмпании к стратегии GR-кАмпании И здесь перед нами возникает очередной и весьма существенный вопрос. Какую же все-таки общую роль играет политический GR-менеджмент в экономическом и политическом управлении? Американский политолог Уильям Оберман в своей статье «Лоббируя ресурсы и продвигая стратегии» отмечает, что стратегический подход к современному корпоративному управлению включает в себя «зонтичное целеполагание», то есть корпоративную рыночную стратегию, для реализации которой в своих базовых целях используется уже оперативный (operational) уровень политического и нерыночного (non-market) управления в качестве эффективного инструментария для целедостижения [Oberman 2017: 483-484]. В этом проявляется известный дуализм ролевых функций в корпорации, порождающий и двойные статусы, и дуальные роли негосударственных (и непартийных) политических менеджеров [Дегтярёв, Бондарев, Тетерюк 2018]. Ведь в том же цехе корпоративного топ-менеджмента (СЕО) считается обычно, что первый заместитель первого руководителя компании во «внутренней» производственно-экономической среде, то есть вице-президент по производственной деятельности (у которого насчитывается подчиненный ему персонал порой в десятки тысяч работников), может быть даже почти что «последним» в неосновной и «внешней» социально-политической среде своей фирмы. И так же, наоборот, вице-президент по публичной политике, или GR (у которого в департаменте может быть полтора-два десятка человек), находясь в числе последних из заместителей в отношении производственного блока, выступает зато как первый-второй (после президента фирмы), обладая делегированными ему полномочиями представлять ту же компанию во внешнем общественно-политическом контуре. О подобных различиях между основными целями «деятельности» и адекватными средствами «поведения» указывает также известный специалист в данной области Николас Дахан, вместе с двумя другими его коллегами. Ими вначале разводится (а затем и связывается) базовая GR-стратегия рыночно-экономической деятельности кОмпании с тактикой ее же политического поведения, что приводит тем самым к определению отдельной политической GR-кАмпании, в основном как своего рода «организационно-имплементационной» стратегии и тактики политического поведения фирмы, в отношении других ее участников-стейкхолдеров политического поля как нерыночной среды [Salorio, Boddewin, Dahan 2006: 30]. Кроме того, американский специалист Джон Мэхон отмечает по этому поводу, что GR-менеджер, представляя свой частный экономический вопрос в публично-го сударственной повестке внешней среды, занимается целевой политической деятельностью, приносящей в итоге ренту и прибыль (issues management), но вот для ее успешного продвижения необходимы уже тактические средства политического поведения, связанные с маневрированием ключевых социально-политических стейкхолдеров, с которыми нужно выстраивать коалиции и заключать компромиссы (stakeholders management) [Mahon 2017: 535-537]. В ходе предпринятого анализа необходимо также ответить на вопрос о роли таких понятий, как «внутренняя» и «внешняя» среда бизнеса, что важно для понимания общего функционала деятельности корпорации и процесса стратегического управления фирмой. В литературе по стратегическому управлению компаниями, как правило, используется так называемая «экологическая модель» структурной организации бизнеса, распадающаяся на две «среды» - «внутреннюю» и «внешнюю», каждая из которых подразделяется на «субсреды» работы бизнеса [Baron 2003: 1-23.]. Выглядит такая структурная модель ведения бизнеса в общих чертах следующим образом: «внутренняя» среда (производственные подразделения (предприятия), органы управления, включающие подразделения внешних коммуникаций, в том числе GR-департаменты или GR-отделы; экономическая (непосредственная) среда работы бизнеса (конкуренты, покупатели, поставщики) и, наконец, «внешняя» (социально-экономическая и политико-правовая) среда работы бизнеса. Поэтому несколько парадоксально то, что само GRподразделение находится вроде бы во внутренней среде предприятия, а вся его основная работа проходит во внешнем окружении. Профессор О.С. Виханский описывает «внешнюю» среду современного бизнеса как сферу, из которой организация получает ресурсы, необходимые для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Внешняя среда изучается для того, чтобы выявить угрозы и возможности, которые компания должна учитывать при определении и реализации своих целей. Задача стратегического менеджмента заключается в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей выживать на рынке в долгосрочной перспективе [Виханский 1998: 20]. Для GR-специалистов в данном контексте важным является выделение трех базовых компонентов в структуре «внешней» (неэкономической) макросреды бизнеса. Во-первых, это относительно «статичная» государственно-правовая среда (система «государственных продуктов», правовых актов, устанавливающая регуляторные нормы, что дает организации возможность определить правовые ограничения во взаимоотношениях с другими субъектами права). Во-вторых, это уже «динамическая» государственно-политическая среда, включающая деятельность государственных акторов на федеральном и локально-региональном уровнях, воздействующих на работу фирмы посредством подготовки и принятия правовых актов, как регуляторных, так и дистрибутивных). И, в-третьих, общественно-политическая и сетевая среда, которая состоит из негосударственных акторов, влияющих «снизу» на государственные органы, к которым можно отнести политические партии, общественные объединения и ассоциации, НКО, СМИ, и др. [Тетерюк 2017]. И здесь сразу же перед исследователями, в рамках заданной темы, возникает целый набор актуальных теоретических и практических проблем. Если собственно GR-работа находится во «внешней среде», на пересечении зон управления организаций государственного и негосударственного секторов, в частности процессов функционирования различных ОГВ и отдельных бизнес-организаций, то каким же образом внутренний процесс стратегического управления корпорации зависит от внешней динамики воспроизводства и изменения ее политико-государственной среды, к примеру от регуляторной политики государственных органов, парламента и правительства. И здесь появляются вполне практические проблемы «конгруэнтности» (сопряженности и взаимосоответствия) и вытекающие из них парадоксы «асинхронизации» (расхождения и рассогласования) различных типов жизненных циклов (life cycles) функционирования и развития секторальных организаций, бизнес-циклов и циклов корпоративных решений в отношениях с циклами работы и жизнедеятельности ОГВ (например, при принятии запретительных решений правительством и парламентом), которые нередко ведут к росту издержек и снижению доходов вследствие догоняющего регулирования спланированной производственной деятельности бизнес-структур. Это могут быть различные виды циклических процессов работы отдельных ОГВ и принятия ими публичных решений (в рамках принятой специалистами типологии государственной политики): регуляторный (принятие и применение регулирующих норм законодательного акта, ограничивающего выпуск вида продукции), дистрибутивный (принятие трехлетнего регионального бюджета, реализация проекта госзакупок) или же консти туентный (установленный электоральный цикл, поэтапный процесс кадровой ротации или омоложения состава госаппарата). И это вполне прагматические вопросы, поскольку от них зависит вся система проектирования и планирования работы бизнеса - от разработки общекорпоративной политики и «GR-стратегии кОмпании» до подготовки тактического плана, по общему и соотносительному, с указанными верхними уровнями управления (хотя он и называется обычно «стратегией GR-кАмпании»), той или иной конкретной фирмы. чтобы адекватно сформулировать задачу для дальнейшего прояснения указанной проблемы, следует поставить вопрос о месте стратегии и тактики GR-менеджмента в общей системе корпоративного управления. В итоге, в ходе комплексного анализа GR-стратегирования можно построить, образно говоря, некую модель «матрешки стратегий», встроенных друг в друга, которая будет включать в себя в себя три основных стратегических уровня - общекорпоративый (стратегия-1), функциональный (стратегия-2), и, наконец, 3) организационный (стратегия-3), в международной литературе часто называемый «кампаниевый» (campaign-making). При этом базовые экономические цели корпоративной стратегии первого уровня (увеличение доходов и сокращение издержек, рост прибыли) постепенно преобразуются в политико-стратегические цели второго уровня, то есть уровня GR-стратегии кОмпании (и к этому «секторально-функциональному» уровню работы фирмы обычно относят работу ее GR-подразделений). И наконец, третий уровень стратегирования связан с проектированием и планированием политической стратегии и тактики уже отдельной GR-кАмпании (таблица). Таким образом, первый стратегический уровень в постановке верхушки древа целей компании расположен в собственно экономической среде фирмы (долгосрочный характер), тогда как второй (среднесрочный - носит инверсивно-транзитный характер, транслируя экономические цели в политические задачи, например, переводя экономическую цель снижения издержек в политическую задачу - регуляторной борьбы за постепенное снижение ставки отраслевого налога или отмены сбора. Последний блок связан с организацией уже собственно отдельных политических GR-кампаний в краткосрочной перспективе при решении еще более частных вопросов. Иерархия стратегических и тактических уровней процесса GR-управления корпорации Функция управления (цели-средства) Уровни корпоративного управления Древо целей (целеполагание) в процессе корпоративного управления при переходе от «внутренней» среды Древо средств (целедостижение) в процессе корпоративного управления при переходе к «внешней» среде Общекорпоративная стратегия-1 деятельности кОмпании Цели долгосрочной бизнесстратегии-1 по росту сегмента контролируемого фирмой отраслевого рынка Средства увеличения объема продаж и выручки, уровня доходов и нормы прибыли Оперативно-тактический уровень деятельности кОмпании (тактика-1) Блок оперативно-тактических бизнес-задач по увеличению объема производства вида товаров и услуг Средства повышения производительности труда работников и эффективности управления фирмой Функциональная GR-стратегия-2 кОмпании Цели среднесрочной политической стратегии-2 фирмы по преодолению последствий санкций (проактивная стратегия по созданию нормативных условий для ведения параллельного импорта) Общий «депозитарий» возможных и допустимых тактических технологий, типовых форм и методов лоббирования Функциональная GR-тактика кОмпании (тактика-2) Функциональный комплекс конвертированных тактических задач лоббирования Определение адекватной «комбинаторики» технологий лоббирования для достижения политико-стратегических целей Стратегия-3 GR-кАмпании Цели краткосрочной стратегии-3 политической кАмпании фирмы (наступательная стратегия для отдельного проекта по ведению лоббистской кАмпании) Построение системы планов в виде «динамические алгоритмов» в конкретном пространственновременном континууме Тактика GR-кАмпании (тактика-3) Блок тактических задач лоббирования в рамках стратегического плана ведения отдельной лоббистской кАмпании Конкретный выбор и использование ограниченной совокупности тактических форм и методов осуществления лоббистской деятельности в отдельных GR-кАмпаниях Источник: составлено автором. Hierarchy of strategic and tactical levels of the corporate GR-management Management function (goals-means) Levels of corporate governance The tree of goals (goal setting) in the process of corporate governance during the transition from the "internal" environment The tree of means (goal attainment) in the process of corporate governance during the transition to the "external" environment Corporate strategy-1 of the company's activities Objectives of the long-term business strategy-1 for the growth of the segment of the industry market controlled by the firm Means of increasing sales and revenue, income levels and profit margins Operational and tactical level of the company's activity (tactics-1) A block of operational and tactical business tasks to increase the volume of production of a type of goods and services Means of increasing the productivity of employees and the efficiency of company management Functional GR strategy-2 of the company The objectives of the mediumterm political strategy are 2 firms to overcome the consequences of sanctions (a proactive strategy to create regulatory conditions for parallel imports) A common "depository" of possible and acceptable tactical technologies, standard forms and methods of lobbying Functional GR tactics of the company (tactics-2) Functional complex of converted tactical lobbying tasks Determination of adequate "combinatorics" of lobbying technologies to achieve political and strategic goals Strategy-3 of the GR campaign Objectives of the short-term strategy-3 of the firm's political campaign (an offensive strategy for a separate lobbying campaign project) Building a system of plans in the form of "dynamic algorithms" in a specific space-time continuum Tactics of the GR campaign (tactics-3) A block of tactical lobbying tasks within the framework of the strategic plan for conducting a separate lobbying campaign Specific selection and use of a limited set of tactical forms and methods of lobbying activities in individual GR campaigns Source: compiled by the author. Таким образом, в завершающей части нашего рассуждения можно сделать некоторые итоговые выводы. Во-первых, GR-менеджмент, как вид политического управления «неполитического» агента, связан с исходным блоком целеполагательной деятельности, который генерируется и исходно содержится в рамках смежных его общественных сред. При описанной корпоративной его версии это будет хозяйственно-экономическая среда (производство ренты и прибыли), тогда как блок целедостижительного поведения для осуществления поставленных ранее социально-экономических задач связан с политическими средствами их реализации, которые применяются в рамках собственно социально-политической среды уже по законам и правилам ее функционирования. Во-вторых, GR-менеджмент - это вид управления процессом осуществления негосударственного влияния, который содержит стратегию и тактику управления активностью негосударственных агентов для представления и продвижения их интересов в рамках целостной и объективированной системы представительства интересов. Кроме того, это прикладная социальная наука, изучающая (на мультидисциплинарной базе) общие принципы, формы и методы межсекторального, межорганизационного и межгруппового управления процессом осуществления влияния (давления и участия) негосударственных агентов (формальных организаций и неформальных стейкхолдеров) на активность государственных агентов, центров публичной политики и принятия решений, при представлении и продвижении интересов, для обеспечения адекватной «внешней» политико-государственной среды ведения ими базовой социальной и экономической деятельности. И, наконец, в-третьих, феномен «инверсии» и конвертации некоторой части экономических целей компании во «внутренней» среде в политические задачи уже в среде «внешней» представляет собой учет и инкорпорирование партикулярного, индивидуального и группового интересов частных экономических агентов в процессе «межсферного» поддержания адекватного им характера «внешней» политической среды, для обеспечения релевантной степени конкурентоспособности в их основной деятельности, получения ренты и максимизации экономической прибыли.Об авторах
Андрей Алексеевич Дегтярёв
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Автор, ответственный за переписку.
Email: andrew.a.degtyarev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8167-2092
кандидат философских наук, доцент кафедры политической теории
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Автономов А.С. Азбука лоббирования. М.: Права человека, 2004.
- Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998.
- Дегтярёв А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998.
- Дегтярёв А.А. Современный GR-менеджмент как сфера межсекторального управления // Предметное поле экономической политологии: монография / под ред. Л.Е. Ильичёвой, В.C. Комаровского. М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2018. С. 170-180.
- Дегтярёв А.А., Бондарев М.Д., Тетерюк А.С. Учет взаимосвязи циклической динамики «внешней» и «внутренней» среды работы бизнес-организаций в современном GRменеджменте // Вестник МГИМО Университета. 2018. Т. 63, № 1. С. 63-93. https:// doi.org/10.24833/2071-8160-2018-1-58-63-93
- Дегтярёв А.А. Проблема комплексного моделирования трансформационных процессов «макро-микро конверсии» поведения социально-политических акторов и «сферной инверсии» деятельности политико-экономических организаций в современной GR-аналитике // Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы / под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2021. C. 152-153.
- Зиновьев А.Л, Морозов С.А., Морозова Е.В. Политический менеджмент. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 2003.
- Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы государственного управления. М.: Издво МГУ, 2013.
- Молчанова О.П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций. М.: Изд-во Юрайт, 2016.
- Перегудов С.П. Крупная российская корпорация как социально-политический институт (опыт концептуально-прикладного исследования). М.: ИМЭМО РАН, 2000.
- Перегудов С.П. Корпорация как субъект публичной политики. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006.
- Тетерюк А.С. Опыт разработки модели структурирования внешней среды в процессе GR-менеджмента (на примере фармацевтической отрасли) // Социум и власть. 2017. № 1. С. 87-94.
- GR и лоббизм: теория и технологии / под ред. В.А. Ачкасовой, И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. М.: Изд-во Юрайт, 2021. 438 с.
- GR: взаимодействие бизнеса и органов власти / под ред. Е.И. Марковской. М.: Изд-во Юрайт, 2017. С. 115-117.
- Baron D. Business and its environment. Boston: Pearson Education, 2013.
- Coen D., Grant W., Wilson G. Political science: perspectives on business and government // The Oxford handbook of business and government / ed. by D. Coen, W. Grant, G. Wilson. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 9-34.
- Comparative Politics today: A world view (9th ed.) / ed. by G. Almond & B. Powel. Longman, 2010.
- Craig S. Political science and political management // Routledge Handbook of Political Management / ed. by D. Johnson. New York: Routledge, 2009. P. 42-56.
- De Fouloy C. Fouloy’s Explanatory lobbying dictionary. Vilnus: AALEP Publishig Division, 2011.
- Lerbinger O. Corporate public affairs: Interacting with interest Groups, media and Government. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
- Mack Ch. Business, Politics and the practice of Government Relations. Westport: Quorum Books, 1997.
- Mahon J. Сorporate issues management // The SAGE Handbook of International Corporate and Public Affairs / ed. by P. Harris & C. Fleisher. London: SAGE, 2017. P. 534-549.
- Oberman W. Lobbying resources and strategies // The SAGE Handbook of International Corporate and Public Affairs / ed. by P. Harris & C. Fleisher. London: SAGE, 2017. P. 483-497.
- Salorio E., Boddewin J., Dahan N. Integrating business political behavior with economic and organizational strategies // International Studies of Management and Organization. 2006. Vol. 35, no. 2. P. 28-35.
Дополнительные файлы