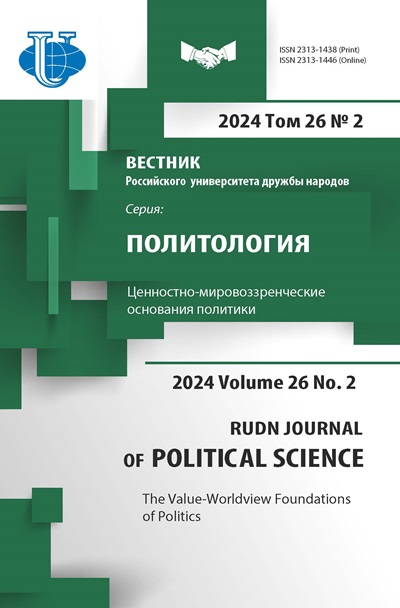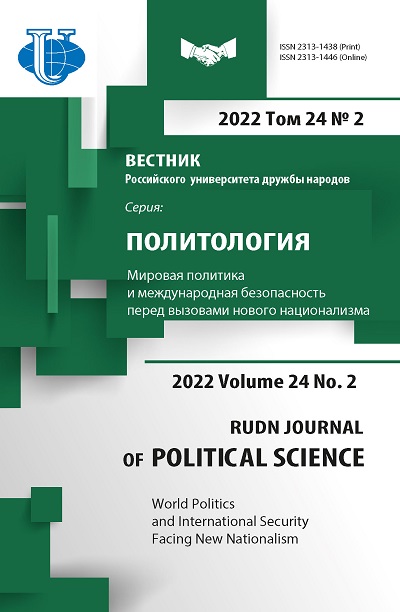Новый национализм Турецкой Республики
- Авторы: Аватков В.А.1, Сбитнева А.И.1
-
Учреждения:
- Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук
- Выпуск: Том 24, № 2 (2022): Мировая политика и международная безопасность перед вызовами нового национализма
- Страницы: 291-302
- Раздел: ВЫЗОВЫ ПОПУЛИЗМА И КОНСЕРВАТИВНОГО НАЦИОНАЛИЗМА
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/31116
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2022-24-2-291-302
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрена проблематика нового турецкого национализма, который представляет собой набор идейно-ценностных концептов. Особое внимание уделено продиктованной «неоосманским» внешнеполитическим курсом туркоцентричной интеграции, которая во многом и является обновленным национализмом Турции. Такого рода национализм в особенности проявляется на пространстве так называемого «тюркского мира». Авторы анализируют основные черты турецкого национализма в экономической, политической и культурно-образовательной сферах. Так, в гуманитарной плоскости официальная Анкара по-прежнему ориентируется на созданные ей «общетюркские» институты, а также идеи идеологов пантюркизма прошлых веков в свете необходимости всеобщего объединения. Отдельно рассматривается концепция восприятия Турцией себя в качестве «хаба», что в целом проявляется во всех вышеназванных сферах. При этом во всех случаях важную роль играют популистские выражения политической элиты Турции о единстве тюрок мира. Авторы приходят к выводу о том, что внешнеполитические действия Турецкой Республики, во многом характеризуемые как политический эгоизм, наиболее предметно отражают новый турецкий национализм, который делает страну достаточно сложным для взаимодействия партнером.
Ключевые слова
Полный текст
Введение Политический процесс в Турецкой Республике во все времена был наполнен рядом идеологем и имел прочную идейно-ценностную надстройку. Одним из идеологических концептов, который со временем так и не утратил значимости для турецкого общества, является национализм, прошедший разные этапы трансформации. Так, существовавший в эпоху Османской империи османизм с образованием Республики эволюционировал в тюркизм, который в видоизменной - более европеизированной - форме нашел свое отражение в «шести стрелах» (базовых принципах) идеологии «кемализма» М. К. Ататюрка [Киреев 2007], известного в том числе своей «крылатой» фразой: «Как счастлив тот, кто называет себя турком» (тур. Ne mutlu Türküm diyene) [Киреев 2007]. Турецкий ранний тюркизм базировался на принципе «Турция для турок» и воплощался в жизнь преимущественно путем отуречивания нетитульных наций в пределах одного государства [Зареванд 2015]. Первый президент Турецкой Республики привнес в национализм (тур. milliyetçilik) феномен отождествления гражданства с этнической принадлежностью. Позднее эта идея была закреплена в ст. 66 ныне действующей Конституции Турции, гласящей, что все граждане страны являются турками[82]. Следует отметить, что именно такой бескомпромиссный подход к столь хрупкой теме, как национальный вопрос, спровоцировал в Турецкой Республике проблему сепаратизма и противостояние с курдским меньшинством, несогласным с подобными законами. Долгое время турецкие курды в Турции были существенно ограничены в своих правах (до начала 2000-х гг. запрещалось использование курдского языка и т. п.), а сегодня ряд политических курдских деятелей преследуется властями Турции по подозрению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана, которая признана там террористической. Позднее, под влиянием идей И. Гаспринского, ю. Акчуры и З. Гёкальпа [Saklı 2011: 4], пропагандировавших уже идею этнокультурного объединения тюрок мира и создания единого государства Туран, популярность обрела концепция «пантюркизма», представляющая собой комплекс идей по общетюркской интеграции. Современный турецкий национализм многогранен, он вобрал в себя наиболее успешные проявления националистических концепций как турецких, так и зарубежных идеологов. Он может приобретать различные формы и встраиваться в другие идейно-ценностные концепты. В его основе - во многом те же самые практики и подходы устаревшего тюркизма, умело «вшитые» в канву современных политических реалий. Формирующийся полицентризм, в рамках которого Турция становится одним из региональных центров силы с заявкой на надрегиональное лидерство, диктует ей новую модель поведения на международной арене и указывает на необходимость создавать возможности для сохранения себя в центральной системе координат, а не на периферии. Ввиду нехватки ресурсов для того, чтобы стать мировым лидером в политической плоскости, официальная Анкара нацелилась на главенство в этноконфессиональной среде. И если в сфере религии она примеряет на себя роль одного из центров исламского мира, то в вопросах этнических все процессы выстраиваются вокруг тюркского фактора и «родственных» общин. Туркоцентричный национализм на пространстве «тюркского мира» Национализм, устремленный «вовне», складывается из ряда факторов, обусловленных переменами во внешнеполитической среде. В целом внешняя политика Турции последних лет базируется на популистской формуле Р. Т. Эрдогана «мир больше пяти»[83], под которыми понимаются пять членов Совета Безопасности ООН. Турция проводит проактивный внешнеполитический курс, пытаясь встроиться в полицентричный мир в качестве ключевого игрока, с которым непременно будут считаться другие акторы мирового политического процесса. И поскольку в рамках историко-культурного региона, то есть Ближнего Востока, шансы Анкары на безоговорочное лидерство абсолютно малы ввиду наличия других крупных игроков, она начинает формировать собственные пространства для реализации своих амбициозных идей. Турецкая Республика нацелена на создание обособленного субэтноса, или новой подсистемы международных отношений - «тюркского мира», в котором статус всеобщего ориентира будет отведен именно ей. Во главу угла Турцией ставится туркоцентричная интеграция [Аватков 2021: 168], предполагающая формирование тюркских структур и универсализацию всех сфер общественной жизни по турецким лекалам. Данный вид интеграции в широком смысле и есть новый национализм Турецкой Республики, нередко граничащий с его радикальными формами, в частности шовинизмом. Опасность этого явления заключается прежде всего в том, что Турция в лице ее президента и других представителей властной элиты искренне верит в собственную исключительность, на которую должны равняться другие страны и народы. Она не учитывает исторические и цивилизационные особенности своих партнеров, считая возможным стирать их культурные коды и устанавливать собственные правила игры. То, что принято сегодня называть «неоосманизмом», стало новой национальной идеей Турции, включающей в себя набор идеологем, одна из которых затрагивает проблематику пантюркизма и общетюркского объединения. С момента распада Советского Союза и возникновения пяти независимых тюркских государств такого рода политика на практике применяется Турцией на пространстве Центральной Азии, южного Кавказа, а также тюркоязычных субъектов Российской Федерации, иными словами - в ареале расселения тюркского этноса. Следует отдельно подчеркнуть, что до определенного момента все зарубежные народы тюркского происхождения именовались Турцией не иначе как «внешние турки» [Дружиловский 2005: 49]. В культурном поле эти объединительные механизмы проявляются прежде всего в создании таких институтов, как Международная организация тюркской культуры (ТюРКСОЙ), Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА), а также ряд разнопрофильных фондов, например Фонд имени юнуса Эмре и других некоммерческих организаций. Членами ряда из них является стандартный набор государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан. Интересно при этом, что штаб-квартира большинства таких структур расположена в столице Турецкой Республики Анкаре, откуда осуществляется координация ряда процессов. Все они преимущественно сконцентрированы на осуществлении культурно-образовательной, научной и иной гуманитарной деятельности, которая в действительности основывается на продвижении турецких идей и лоббировании национальных интересов Турции посредством механизмов «мягкой силы». Их задача заключается прежде всего в создании положительного образа Турции как предводителя тюркских народов и подведения их общественно-политического сознания под стандарты турецких логик. Несмотря на то, что почти все вышеназванные учреждения были созданы в 1990-х гг., тюркская интеграция под эгидой Турции продолжается вплоть до настоящего времени. Показательным в этом плане стало преобразование в 2021 г. Тюркского Совета в международную Организацию тюркских государств и привлечение к ней новых государств - Туркменистана и Венгрии, получивших там статус наблюдателя. В связи с тем что Туркменистан проводит внешнюю политику под лозунгом «постоянный нейтралитет», его участие в целом ряде тюркских интеграционных инициатив приобретает особую значимость. Четыре плоскости турецкого национализма: экономика, политика, культура и образование В культурно-гуманитарной сфере планомерное распространение турецкого влияния происходит за счет формирования специализированных образовательных учреждений и внедрения турецких стандартов образования. В настоящее время такими являются Турецко-казахский международный университет имени Ходжи Ахмеда Ясави в Казахстане и Турецко-киргизский университет Манас в Киргизии. В Азербайджане, в свою очередь, функциони руют открытые еще в 1990-х гг. частный турецкий Анатолийский лицей в Баку, Бакинский турецкий лицей, а также Азербайджано-турецкий обучающе-воспитательный центр. Воздействие происходит и на лингвистическую сферу. Так, например, подобно тому, как в период реформ М. К. Ататюрка в многонациональной раннереспубликанской Турции избавлялись от языковых арабских и персидских заимствований, внедряя в обиход турецкие слова, Турецкая Республика XXI в. избавляет постсоветскую часть «тюркского мира» от кириллического алфавита, обеспечивая лингвистическую модернизацию центральноазиатских республик и всячески поддерживая их переход на латинский алфавит. При этом у подобной политики Анкары есть определенные результаты - в 2017 г. о желании перейти на латиницу объявил Казахстан[84], а затем аналогичные дискуссии о необходимости последовать его примеру стали все чаще возникать в Киргизии[85]. Вместе с тем все заметнее в обеих странах становятся проявления этнонационализма, затрагивающие в том числе вопрос использования там русского языка, являющегося, наряду с национальными, одним из государственных. Более того, пропагандируется идея создания единого общетюркского языка, за основу которого предлагается взять турецкий. В частности, одним из итогов этой деятельности в Казахстане стала практика возобновления языковых патрулей и притеснения русскоговорящих жителей. Особым примером национальной специфики является модель взаимодействия Турции и Азербайджана, в основе отношений которых со времен второго президента Азербайджана А. Эльчибея заложен популистский принцип «одна нация - два государства» [Аватков 2022]. Единство Анкары и Баку в действительности весьма условно и основывается лишь на схожести некоторых лингвоэтнических аспектов. Однако различия в истории, культуре и даже - частично - в религии не мешают им заявлять о своем единстве. Общенациональный дух «братских» Азербайджана и Турции был в особенности на подъеме в ходе нагорно-карабахских событий осени 2020 г. Так, на «параде победы» в Баку азербайджанские военные шли рука об руку с турецкими, а наряду с флагами Азербайджанской Республики в городе повсюду были установлены и флаги Турции. Спустя год после событий, на VIII саммите Тюркского совета, Р. Т. Эрдоган вручил И. Алиеву Высший орден тюркского мира, присужденный ему «За победу в Карабахе», а также не упустил момент отметить значимость карабахской победы для всего «тюркского мира»[86][87]. При этом захваченную азербайджанцами по итогам военных действий Шушу было решено сделать следующей столицей «тюркского мира». Этот статус она приобретет в год столетия Турецкой Республики - в 2023 г.6 Интересным является тот факт, что официальные представители Азербайджана и сами нередко продвигают концепцию турецко-азербайджанского единства. Еще в ходе III саммита Тюркского совета И. Алиев заявил, что «XXI век должен стать веком “тюркского мира”». Помимо президента страны популистские заявления делает также вице-президент и по совместительству первая леди Азербайджана. Так, выражая свою поддержку жертвам мощных землетрясений в Турции осенью 2020 г., М. Алиева заявила следующее: «Боль турецкого народа - наша боль. Наше братство вечно и нерушимо!»[88]. Аналогичные слова были сказаны ею же в августе 2021 г., когда вице-президент выражала соболезнования турецкому народу в связи с лесными пожарами в Турции. Отдельного внимания заслуживает восприятие Турцией себя в качестве одного из лидеров мусульманского мира, к которым традиционно относят Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Если во внутренней турецкой политике эта тенденция проявляется в направленных на консервативную часть населения речах Р. Т. Эрдогана об ужасах процветающей в странах Запада исламофобии и преобразовании исконно христианских святынь и культурных объектов в мусульманские (как это произошло с Собором Святой Софии в Стамбуле, ставшим мечетью), то во внешнеполитической плоскости религиозный аспект во многих случаях тесно переплетается с этнонациональным [Yesevi 2018: 105]. Так, помимо того, что Турция активным образом взаимодействует с мусульманами штата Ракхайн в Мьянме и, например, населением Палестины под предлогом защиты их прав и поставок гумпомощи, она в равной степени активным образом проявляет себя на территории Синьцзян-Уйгурского Автономного района КНР, подвергая власти Китая критике по поводу, как считают в Турции, несправедливых гонений в отношении уйгурского населения. В данном случае этнический фактор и тюркское происхождение уйгуров является доминирующим, в то время как их мусульманское вероисповедание представляет собой дополняющий элемент. В этом контексте интересным представляется азербайджанский кейс, где, наоборот, этническое довлеет над религиозным - в этноконфессиональном плане азербайджанцы являются представителями так называемой «шиитской дуги», что отличает их от исповедующих суннизм турок. Особое внимание уделяется исламскому образованию и сотрудничеству как в вышеназванных регионах, так и в постсоветских тюркских республиках. Основными координаторами данных процессов являются Управление по делам религии Турции (Diyanet) и Религиозный фонд Турции (TDV), которые содействуют открытию там медресе, строительству мечетей, поставкам религиозной литературы и т. д. В экономическом поле турецкому национализму также свойственна многогранность. Отдельного внимания заслуживает неофициальная геополитическая идеология Турции, заключающаяся в позиционировании себя «хабом», соединяющим торговые пути Север-юг и Запад-Восток. Наиболее предметно теория «хаба» просматривается на пространстве южного Кавказа, которое практически полностью заполнено транспортными и инфраструктурными проектами с участием Турции. В их числе Трансанатолийский трубопровод (TANAP), поставляющий газ в Европу, южно-Кавказский газопровод по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум, предназначенный для транспортировки азербайджанского газа, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Через территорию Турции также пролегает Транскаспийский международный транспортный маршрут, или «Срединный коридор/Middle Corridor», построенный с целью увеличения перевозок из Китая в Турцию и страны ЕС. Весной 2022 г. стало известно, что железные дороги Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана намерены создать совместное предприятие с аналогичным названием к 2023 г.[89] Еще одним шагом на пути к мягкой форме внешнего национализма стал ребрендинг экспортной марки «Made in Turkey», переименованной на «Made in Türkiye». Как поясняется в тексте указа, подписанного лично Р. Т. Эрдоганом, «В свете многотысячелетней традиции Турецкая Республика соответствует древней турецкой нации и считает одной из главных задач сохранение и прославление культуры и ценностей нации путем выполнения достойной, качественной и ценной работы. Формулировка “Türkiye” наилучшим образом отражает турецкую культуру, цивилизационные особенности и ценности турецкой нации[90]». Что касается внутриэкономических механизмов, то в эпоху особенно жестких экономических кризисов и неблагоприятных периодов президент Турецкой Республики призывает своих сограждан поддерживать национальную валюту и национального производителя, в особенности высокотехнологичного «Vestel Venus». Турецкий национализм проявился даже в период вспышки новой коронавирусной инфекции, когда после изобретения Министерством здравоохранения Турции национальной вакцины «TURKOVAC» директор Института вакцин Турции агитировал граждан активнее прививаться именно отечественной вакциной, аргументировав свои действия таким образом: «Если граждане сделают выбор в пользу «TURKOVAC», они окажут доверие и поддержку своей стране»[91]. Турецкий национализм и тюрки России Во внутриполитическом поле Турции основными субъектами-проводниками националистических и других идей, помимо государственных ведомств и некоммерческого сектора, являются разного рода движения и политические партии националистического характера. Одна из них - ультраправая Партия националистического движения (ПНД), которая, наряду с Партией справедливости и развития (ПСР), является правящей. В своей деятельности ПНД придерживается воззрений А. Тюркеша - турецкого пантюркиста и лидера радикальной националистической организации «Серые волки» [Надеин-Раевский 2016: 26], скончавшегося в 1997 г. и с тех пор признанного идейным вдохновителем и «вождем» турецких националистов. Следует отметить, что в Турции волк является главным символом националистов, так как, согласно одной из легенд, прародительницей древнего тюркского рода Ашина являлась волчица. А. Тюркеш являлся убежденным националистом и совершенно открыто рассуждал об особой цивилизационной роли тюркских народов. В 1991 г. на заседании Великого национального собрания Турции лидер «Серых волков» заявил, что туранизм является уже не фантазией, а реальностью. После его смерти на обложке журнала «Очаг идеала» (Ülkü ocağı), выпускаемого националистами, начали появляться призывы следующего содержания: «Действуй, турок, пора проснуться! <…> Вновь разверни навстречу горизонту победоносные славные знамена. Великая Турция - превыше всего!» [Киреев 2016: 76-77]. Партия националистического движения во главе с ее лидером Д. Бахчели активным образом продолжает политику А. Тюркеша и продвигает идею «тюркского мира», а ее внешнеполитические взгляды зиждутся на амбициозном принципе «страна-лидер Турция» (тур. Lider Ülke Türkiye), который предполагает проведение Анкарой независимой и приносящей плоды внешней политики[92]. Взглядам ПНД вторит еще одна парламентская фракция под названием «Хорошая партия», возглавляемая М. Акшенер. Необхдимо отметить, что даже ее логотип - İYİ - имеет некую схожесть с тюркскими рунами, что дополнительно легитимирует партию через отсылку к традиционным ценностям. Ее лидер начинала свою карьеру с ПНД, которую впоследствии покинула для создания собственной партии. Одним из ключевых направлений внешней политики «Хорошей партии» является «тюркский мир», а также взаимодействие с тюркскими государствами постсоветского пространства посредством «мягкой силы», в том числе Агентства по сотрудничеству и развитию (TİKA) и Управления по делам зарубежных тюрок и родственных общин[93]. Что касается России, то представители обеих перечисленных партий негативным образом отзываются о внешнеполитической и другой деятельности Российской Федерации и даже поддерживают сепаратистов на Северном Кавказе. Так, например, М. Акшенер по сей день поощряет стремления к независимости самопровозглашенной Ичкерии, а Д. Бахчели в ноябре 2021 г. в ходе своей встречи с Р. Т. Эрдоганом подарил последнему карту «тюркского мира», включающую в том числе территории Российской Федерации, в частности Якутию. Влияние Турецкой Республики на тюркоязычное население Российской Федерации всегда было велико: со времен распада СССР на территорию ряда субъектов страны распространились печатные материалы религиозного и другого характера, а также турецкие образовательные лицеи «Хизмет», которые, как было установлено, и осуществляли незаконную экстремистскую деятельность и в большинстве случаев не имели должной аккредитации. Почти все они были аффилированы с турецким проповедником и исламским деятелем Ф. Гюленом, ныне проживающим в Соединенных Штатах [Flanagan, Stephen Larrabee, Binnendijk, Costello, Efron, Hoobler, Kirchner, Martini, Nader, Wilson 2020: 9]. Наибольшее распространение подобные учреждения получили в Татарстане и Башкортостане, однако после запрета Верховным Судом в 2008 г. их деятельность была запрещена, а лицеи закрыты. Однако ликвидация школ не означала прекращения других связей Турции с российскими регионами. До событий со сбитым Турцией самолетом российских ВВС Су-24 стороны активно взаимодействовали в рамках проведения различных фестивалей, научных конференций и других мероприятий по линии ТюРКСОЙ, а также ряда аналогичных организаций и НКО. В Республике Башкортостан, например, в 2012 г. при Государственном педагогическом университете Башкирии была открыта кафедра ТюРКСОЙ, а многие российские студенты получали высшее образование на территории Турции по стипендиальной программе «Türkiye Bursları». Сегодня на официальном сайте ТюРКСОЙ среди наблюдателей организации числятся Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Республика Саха, Республика Татарстан и Республика Тыва, несмотря на то, что Министерство культуры России после инцидента в 2015 г. рекомендовало этим субъектам прекратить взаимодействие с турецкими структурами. В настоящее время в Москве действует Институт юнуса Эмре, который проводит в столице России и на территории ее субъектов преимущественно протурецкие мероприятия культурного характера, которые в действительности направлены на сближение с тюркоязычными народами России, которые Турция по-прежнему стремится включить в состав «тюркского мира», тем самым создавая прямые угрозы национальной безопасности России. Помимо этого, отдельное внимание Турция всегда уделяла Северному Кавказу, в частности черкесскому населению. Важно отметить, что сегодня на территории Турецкой Республики действует Федерация кавказских ассоциаций (KAFFED), а также Федерация дернеков Черкессии (ÇERKESFED), проводящие особую работу в черкесских диаспорах. Так, например, черкесскому населению Турции внушается мысль о том, что Турция единственная сохраняет уважение к черкесскому языку и культуре, а также продвигается тематика «геноцида» черкесов Российской империей во времена Кавказской войны[94]. Аналогичная политика при этом проводится и в отношении крымско-татарского населения Крыма, присоединение которого к России Анкара не признает. В данном случае Турция использует другую «наболевшую» проблему депортации, так или иначе подогревая антироссийские националистические настроения как на территории своей страны, так и за ее пределами. В том числе с этой целью на территории современной Турции функционирует Ассоциация культуры и солидарности крымских турок. Заключение Новый национализм современной Турецкой Республики представляет собой набор идей и ценностей, собранных воедино по прошествии длительного времени. Национализм Турции изменился и в значительной степени отличается от того, что был на заре существования Республики. Так, в отличие от национализма тех времен, направленного в первую очередь на население самой Турции, современный национализм в дополнение к его прошлым формам предполагает объединительную экспансию в отношении тюркских государств Центральной Азии, Закавказья и тюркоязычных субъектов России. При этом для ряда из них, в частности для Российской Федерации, такого рода туркоцентричная интеграция представляет собой угрозу национальной безопасности. Таким образом, турецкий национализм имеет внутреннюю и внешнюю специфику. Вся современная внешняя политика Турции отражает суть турецкого национализма, которую во многом можно сравнить с политическим эгоизмом. То, как официальная Анкара ставит свои национальные интересы на первое место во всех исторических, политических, экономических и других процессах, существенно осложняет ее взаимодействие с внешними акторами, особенно такими мировыми лидерами, как Россия и США. По мере укрепления национализма Турция становится более сложным партнером, и подобную поведенческую специфику, продиктованную националистическими настроениями, необходимо учитывать при выстраивании контактов любого типаОб авторах
Владимир Алексеевич Аватков
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук
Email: v.avatkov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6345-3782
доктор политических наук, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока
Москва, Российская ФедерацияАлина Игоревна Сбитнева
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: a_sbitneva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9196-9348
научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Аватков В. А. Постсоветское пространство и Турция: итоги 30 лет // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14. № 5. С. 162-176.
- Аватков В. А. Турция и Азербайджан: одна нация - одно государство? // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. № 2. С. 90-100.
- Дружиловский С. Б. Турция: привычка управлять // Россия в глобальной политике. 2005. Т. 3, № 6. С. 48-61.
- Зареванд. Турция и пантуранизм. Москва: Ключ-С, 2015.
- Киреев Н. Г. Исламо-турецкий синтез в государственной идеологии Турции // Россия и мусульманский мир. 2016. № 12 (294) С. 69-83.
- Киреев Н. Г. История Турции XX век. Москва: ИВ РАН: Крафт+, 2007.
- Надеин-Раевский В. А. Идейная борьба и «новая Турция» // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 2 (47). С. 22-31.
- Flanagan S. J., Stephen Larrabee F., Binnendijk A., Costello K, Efron S., Hoobler J., Kirchner M., Martini J., Nader A., Wilson P. A. Turkey’s Nationalist Course. RAND Corporation: Santa Monica, 2020.
- Saklı A. R. Türkiye Cumhuriyeti ulus devleti ve milliyetçilik anlayışının uygunluğu sorunu // Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2011. № 13 (1). P. 1-22.
- Yesevi Ç. G. Türk Milliyetçiliği Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları. Kripto Basın Yayın, 2018.